

Язык и фольклор
|
|
Язык служит средством человеческого общения. Он необходим для хранения и передачи информации, для управления человеческим поведением. Никто не знает точно, сколько языков существует на Земле, но их число превышает четыре тысячи. В одной только Африке люди говорят на 1300 языках. Жители Европы пользуются более чем тридцатью основными языками, которые во многом схожи. Иногда они приобретают особую форму. Гибридные языки — это упрощенные разновидности, к которым прибегают при общении группы людей, не имеющие общего языка. Например, английские и китайские торговцы пользуются англо-китайским гибридным языком уже 300 лет. Исследованием языка занимается наука филология. Ее суть составляет изучение происхождения, жизни и судьбы слов (языкознание — лингвистика), словесного творчества народа, бытующее благодаря словотворению (фольклор). Примечательно, что ряд научных дисциплин, ныне входящих в состав филологии — грамматика, риторика, — в средневековой Европе считались одними из семи свободных искусств. Язык необходим и для создания литературных произведений в прозе и стихах. Некоторые из них древнее письменной литературы и передавались из уст в уста, из поколения в поколение.
Это былины, духовные стихи, известные всем колыбельные, прибаутки, т. е. фольклорные произведения. Термин folklore впервые был использован в 1846 году английским ученым Вильямом Томсом и в буквальном смысле означает «народная мудрость, народное знание». Так сначала обозначали только предмет науки, но иногда стали называть и научную дисциплину, изучающую этот материал; однако последнюю правильнее называть фольклористикой.
|
Первая страница гражданской азбуки с исправлениями Петра I. |
Красота устной народной словесности — особенная,
старинная, а путешествие в мир фольклора — увлекательное и чудесное приключение.
Язык — самое повседневное и самое загадочное явление.
Он служит для общения, с его помощью люди передают друг другу что-то новое. Ежеминутное использование человеком языка не означает, что говорящий задумывается над тем, как звуки речи выражают его мысль. Существуют языки жестов, танца, изображений, костюма (ритуального наряда). Основная задача языковеда — понять соответствие слова тому, что оно означает. Для него важен язык человеческой речи. Другие языки, созданные людьми, оказываются производными от словесного языка. Например, язык танца можно перевести на словесный язык.
| Существование мира обусловлено
энергетически-информационным обменом. Информационный поток
определяет направление и задачи энергетического посыла. Так,
электрический импульс через модем в компьютер - энергетическая
составляющая сообщения. Клавиатура компьютера или совокупность
механизмов - знаковая система, которую понимает устройство. Есть предположение, что необходимость грудного вскармливания млекопитающими продиктована важностью именно информационного обмена между матерью и ребенком. В этот момент ребенок, вероятно, получает информацию об окружающем мире (возможные угрозы, предпочтения и формы реагирования на раздражения). Такое взаимодействие правильно настраивает психику ребенка и даже обмен веществ в организме. Русский философ-космист Н. Ф. Федоров предположил возможность оплодотворения путем волновой передачи генетической информации (телегонии). |
ВОПРОС О СУЩНОСТИ ЯЗЫКА занимает человечество с древнейших времен. Язык — средство общения. У человека оно сводится к обмену информацией, заключенной в слова и предложения (см. Слово и Синтаксис). Это словесный язык. Общение без помощи такого языка — жестами и мимикой (язык жестов и мимики) — более всего напоминает язык животных. Но по богатству со словесным языком мимика и жесты не сравнимы. Словесный язык отличает человека от других живых существ. Возможно, словесный язык — очередная стадия развития языка.
ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» в широком смысле тесно связано с понятием информация. Слово «информация» в переводе с латинского языка означает «придание вида» (in и forma). Русское слово «язык» этимологически связано с глаголом звать и древним индоевропейским корнем "ghu, одновременно означавшим «лить» и «звать». В языческой древности существовал ритуал возлияния — молитвы, обращенной к богу вина. Такое возлияние или пролитие на поверхность или в огонь означало не только обращение к божественным силам, но и подражание акту оплодотворения (например, проливание воды над вспаханным полем). То же относится и к языку. Он — форма передачи информации, которая может быть уподоблена оболочке, выстраивающей энергетический импульс. Передача информации — то же оплодотворение, подобное белковому (аминокислотному) обмену между живыми клетками организмов одного биологического вида. Возникновение зиготы и дальнейшее развитие зародыша — процесс пропитывания или дешифровки генетической информации. Геном живых организмов — загадочный текст. Болезни — сбой или перестраивание генетической информации, заключенной внутри клеток. Перевод генетического языка на словесный и понимание генетического механизма — ближайшая задача современной биологии и медицины. Многочисленные научные эксперименты приводят к предположению, что общаются не только люди и животные, но и растения: живые формы передают друг другу информацию о среде обитания и о собственном состоянии. Можно говорить об одновременном информационном симбиозе (содействии) и антагонизме (противостоянии) организмов. Изначальным языком их общения (начиная с клеток) может быть электромагнитное или иное волновое взаимодействие. Язык животных обычно обращен к внешним органам чувств. Язык человека адресован прежде всего к слуху и рассчитан на многоступенчатое осмысление. Основой осмысления у человека является рефлексия (от лат. reflexio — «отражение») — способность не просто воспринять (отразить) информацию, но критически ее оценить. Единицей информации является знак.
Швейцарский лингвист Ф. де Соссюр определил, что язык — знаковая система (совокупность знаков, находящихся в определенных отношениях друг с другом). Это узкое понимание языка. Оно неполно. Например, систему дорожных указателей можно назвать языком, но более простым, бедным, даже примитивным. Знак несет в себе предписание: «Движениенаправо», «Движение налево», «Стоянка запрещена» — предупреждение, запрет. В человеческом языке знак (слово) может обозначать предмет, свойство, процесс, указывать на место происшествия и др. Интонация говорящего выражает отношение к сказанному. То, что в простой системе знаков отражается одной единицей, в человеческом языке требует составного элемента, состоящего из двух уровней — слова и предложения (соединяющего слова для описания ситуации).
|
Русско-американский писатель В. Набоков в англоязычном романе «Пнин» (1957) обратил особое внимание на то, что главный герой книги, профессор словесности Пнин, изучал язык жестов и мимики и часть своих мыслей переводил на него. В другом его англоязычном романе «Bend Sinister» (1947) персонажи иногда говорят на языке, одновременно похожем на немецкий, английский и русский (синис-тербадский язык). Часть русских слов в этом романе писатель представлял в латинской транскрипции. Такие словесные эксперименты могли указывать на то, что языки человечества изначально имеют общность устройства, их понимание не столь затруднительно.
|
МНОГОУРОВНЕВОСТЬ — важная особенность языка человека. В мире
существует бесконечное количество предметов и ситуаций. Если для каждой ситуации
создавать отдельное слово, язык сделался бы громоздким и крайне неудобным.
Многоуровневость знака позволяет использовать его с большой экономией. Там, где
набор ситуаций привычен и невелик, многоуровневость знака скорее мешает. Поэтому
люди изобретают различные простые системы знаков. Соответствовать же сложному
миру может только разветвленный многоуровневый язык.
В языке выделяемы три главных уровня: звуковой, словесный и уровень
предложения. Словесный уровень можно разделить на уровень лексики (цельных
слов) и морфологии (основанной на морфемах — минимальных значимых единицах
слов). Словом человек что-либо называет (номинация; от лат. nominare —
«именовать»), а предложением сообщает что-то своему собеседнику (коммуникация;
от лат. communicatio — «сообщение») — см. Уровни языка. Выражение «передать
мысли» неверно по сути. Русский лингвист А. А. Потебня считал, что словом нельзя
передать мысль слушающему, а можно только вызвать в его голове смежные мысли.
Для этого необходимы понимание слушающим языка, на котором к нему обращаются, и
знание тех вещей, о которых говорят. Разговор с человеком на незнакомом ему
языке не состоится — не будет диалога о неизвестном ему предмете. Общение
требует для себя два уровня знания: известное обоим собеседникам и новое — то,
что один узнает от другого.
|
Знак можно определить как договор людей о том, что предмету соответствует только ему присущий смысл. Череп и кости на бутылке с ядом или трансформаторной будке - знак, в котором рисунок получает смысл «опасно для жизни»: рюмка на таре электроприбора - «хрупкий предмет; не бросать!» В знаке присутствуют две составляющие: означаемое, иначе называемое «телом» знака, - тот предмет, которому приписан смысл, и означающее - то, что выражено знаком, именуемое значением, или смыслом знака (у наиболее сложных видов знака значение и смысл различаются; см. Слово). В качестве означаемого может выступать что угодно; звук, рисунок, скульптура.
|
Определяя устройство и назначение языка, можно установить одну из важнейших его задач. Язык есть не только средство общения, но и прежде всего средство моделирования действительности путем ее именования. К моделированию и управлению способен только человек. Именно языковая номинация отличает язык человека и от языка животных, и от языка жестов и мимики.
ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ ФУНКЦИЙ ЯЗЫКА исследовал выдающийся русско-американский лингвист Р. О. Якобсон. В статье «Грамматика поэзии и поэзия грамматики» он назвал их: референтивная (от лат. referentia — «отнесение»), или когнитивная (от лат. cognitia — «познание»), функция, направленная на описание и познание внешнего мира; эмотивная, обращенная к внутреннему миру человека; конативная, или побудительная, роль (от лат. conari — «побуждать»), направленная к собеседнику, которому необходимо нечто внушить; поэтическая функция, когда в сообщении высшая ценность заключена не в том, что сообщается, а в том, как сообщается; фатическая (от лат. fari — «говорить»), когда язык используется для обращения; и метаязыковая функция — способность языка описывать самого себя (как это происходит в данной статье). Референтивная функция языка наиболее значима. Язык осваивает внешний мир в словах. Он превращается в хранилище знаний и культурных сведений. Иногда они присутствуют в языке в скрытом виде. Эта неявность объясняется тем, что во времени исчезают как отдельные культурные явления, так и связи между словами. Изменение их звучания и значения бывает настолько велико, что для установления родственных связей требуется специальное объяснение, осуществляемое с помощью сравнительно-исторических приемов. По убеждению русского языковеда А. А. Шахматова, история языка — это история народа.
| На рубеже XIX и XX вв. информация (как знание и осведомленность) приобрела особое значение. Она стала товаром - обладание ею означает значительное технологическое продвижение общества. Движение инвестиций (капитала) и технологий - та же транспортировка информации, стимул к развитию производства и общественных отношений. Информированность позволяет предвидеть и контролировать события, избежать техногенных катастроф. Говоря об экологии, имеют в виду и правильное использование информации: применение энергосберегающих и природоохранных технологий, предвидение людских потоков и их поведения в различных частях планеты. Возникновение сети Интернет, изначально военной, стало воплощением единого информационного пространства. В интернет-«паутине» (web) информация получила возможность свободного перетекания (изливания). |
Языку как сложной многоуровневой системе свойственна
противоречивость — антиномия (от греч. antinomia — «противоречие»). В
языке выделяются следующие антиномии. Язык/речь. Речь — конкретное материальное
воплощение слов в процессе звукового произнесения. Язык — набор правил и
возможностей, а речь — воплощение таковых в говорении. Уже древние греки и
римляне понимали различия языка и говорения. Первый они изучали с позиций
грамматики, второе — риторики (искусства произносить речь).
Устойчивость/изменчивость. Язык устойчив и консервативен. Это единственная
область жизни, «идеал которой ищут не в будущем, а в прошлом» (А. М. Пешковский).
Строгие правила не позволяют языку резко меняться, а ориентируют говорящего на
авторитетные образцы прошлого.
Издавна люди задумывались, откуда появился язык, говорили ли они когда-то на одном или многих языках. Древние тексты доносят до нас размышления наших предков. В первой книге Библии — «Бытие» — рассказывается о том, что Бог сотворил мир Словом: «И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И увидел Бог, что свет хорош, и отделил его от тьмы... И сказал Бог: «Да будет твердь среди воды, и да отделит она воду от воды». И стало так» (Бытие 1,2). А менее важные для мироздания имена Бог доверил первому человеку: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» (Бытие 2, 19).
|
В священной книге древних индийцев - Ригведе рассказывается, что бог по имени Вишвакарман («всеобщий творец») дал имена другим богам, а имена вещам устанавливали священные певцы с помощью Вишвакармана. В диалоге Платона «Кратил» (V в. до н. э.) собеседники долго спорят, откуда взялись человеческие слова. Один из них, Кратил, считает, что все имена появились по природе: каждый предмет соответствует своему имени. Его противник Гермоген указывает на то, что между звуком и знаком нет никакой связи, и утверждает, что имена были установлены в древности мудрецами, которых они именуют ономатотетами (грен. - «установители имен»), Сократ занимает компромиссную позицию: имена даются не по природе, имена были установлены, но имена должны соответствовать природе вещей. Достоинство ономатотетов состояло в том, что они правильно называли вещи. Иными словами, Сократ и его собеседники дружно отрицают роль божества в сотворении языка. |
ВОПРОС, является ли язык божественным или человеческим по происхождению, стал предметом долгих дискуссий в Средние века и Новое время. Одни философы полагали, что язык появился в результате чуда, другие — что человек наделен врожденными способностями к языку. Г. Лессинг считал, что людей научил языку Бог, а Ж.-Ж. Руссо полагал, что люди сами договорились между собой о том, какие слова что должны означать. Все это были рассуждения, основанные на абстрактных размышлениях или толкованиях Библии. В 1866 г. Парижское лингвистическое общество постановило не принимать к рассмотрению сообщения о происхождении языка. Но человечество всегда интересовалось собственным происхождением, а способность к речи — одно из неотъемлемых свойств человека. Желание найти исток человеческого языка у исследователей разных научных специальностей осталось.
Только лингвистическими методами проблема происхождения языка не разрешима. Во-первых, некоторые стороны этого вопроса способна осветить физиология. Участки мозга, отвечающие за способность говорить и понимать сказанное (зоны Брока и Вернике), расположены у человека в левом полушарии. Они немного выделяются, их след остается на черепе. Залив ископаемый череп гипсом, можно получить четкий слепок мозга.
Благодаря этой несложной процедуре удалось установить, что участки, напоминающие зоны Брока и Вернике, присутствовали уже у неандертальцев. Во-вторых, некоторые выводы о возникновении языковых способностей можно сделать, наблюдая за обезьянами. Хорошо известно, что обезьяны любят подражать. Они копируют действия вожака — самого сильного и приспособленного животного во всем стаде. У обезьян есть свой язык. Это 40 - 50 сигналов, передающих эмоции либо команды и ответы на них. Как показали многочисленные эксперименты, человекообразные обезьяны способны воспринять элементарные слова человеческой речи (типа папа, мама, дай). Мозг перволюдей — питекантропов и неандертальцев был более развит, и они могли еще лучше усваивать речь. Исследователь проблемы возникновения языка Б. В. Якушин предположил, что среди перволюдей находились более сильные и активные особи, которые становились лидерами и побуждали своих соплеменников к деятельности. Для этого им приходилось разъяснять характер предполагаемых действий. Возможно, у них и произошло превращение командных сигналов в членораздельные слова.
|
Открытие сравнительно-исторического метода позволило с высокой степенью вероятности восстанавливать незасвидетельствованные языки - предки целых семей. Но восстановленные праязыки, во-первых, слишком далеко отстояли от речи первых людей (они стали распадаться 10000 - 15000 лет назад, а современный человек появился примерно 40000 лет назад), во-вторых, очень отличались от первобытного языка: индоевропейский праязык явно принадлежал народу с высокоразвитой культурой. Собственно лингвистическими методами проблема происхождения языка не разрешима.
У науки до сих пор нет объяснения, каким образом дельфины благотворно воздействуют на аутичных детей (испытывающих затруднения в общении и погруженных в мир собственных переживаний). Возможно, с помощью ультразвука или неизвестным энергетическим воздействием. |
В последнее время в связи с попыткой определить отдаленное родство языковых семей снова возник вопрос о восстановлении единого человеческого праязыка. Некоторые ученые считают, что все языки мира родственны друг другу и с помощью лингвистической реконструкции можно дойти до единого языка, на котором говорил в момент своего появления homo sapiens. Сторонники идеи рассуждают так: человек стал человеком, когда заговорил.
Если человеческий род един по происхождению, значит, у него должен был быть единый язык, потомками которого и являются все современные языки (их около 2600). С самого начала своей истории человечество было разделено на племена, а в каждом племени мог возникнуть свой язык.
Впрочем, так это или нет, пока не ясно. Проблема
происхождения языка не решена.
Мысль воплощается в слове. Неговорящий ребенок еще не может мыслить. И человечество чувствует связь языка и с мыслью, и со своей сущностью. Людям кажется, что язык их сотворил. Поэтому языку придаются черты божественности. В Евангелии от Иоанна (1, 1) сказано: «Слово было у Бога, и Слово было Бог». Во многих мистических учениях Востока слово рассматривается как путь от повседневности к высшим, идеальным областям бытия. Соотнесенность между языком и мышлением имеет три основных толкования: мысль и высказывание — одно и то же; мышление и язык развиваются каждый по своим законам, и тесной связи между ними нет; мышление и язык соотносятся друг с другом. Мышление — восприятие и идеальное отражение окружающего мира в голове человека.
|
Карикатура выражает мысль иносказательно, эзоповым
языком. |
Учеными установлен порядок реакции живых организмов на окружающую среду: возникновение ощущения под воздействием внешнего раздражителя; формирование на основе ощущений восприятия окружающего мира; появление некоего представления и его отпечаток в памяти независимо от наличия внешнего воздействия. С представлениями можно работать, предчувствовать последствия и угрозу, строить свои планы относительно них. Ощущение, восприятие и представление свойственны животным (последнее — только высшим). Зачатки мышления находятся именно в представлениях. Высшая стадия мышления имеет дело с понятиями. Понятие — воображаемое соединение предметов и явлений на основе их сходства, когда непохожие друг на друга Иван и Петр получают общее имя «человек». Понятие обычно выражается словом (см. Слово). Многие ученые полагали, что мысль без слова невозможна.
МЫСЛЬ — слабые электротоки, начинающиеся в различных участках мозга и передающиеся по каналам нервных клеток. Для их возбуждения не всегда нужна словесная оболочка. Простейший пример — человек переходит улицу. Он запечатлевает движущиеся машины, принимает решение, ускоряет или замедляет свой ход. В этот момент из его головного мозга поступают различные команды, но ни одну из них он не проговаривает. Значит, в данный момент он мыслит бессловесно.
Классификация типов мышления была предложена одним из крупнейших современных языковедов Б. А. Серебренниковым. Внесловесное (иначе — авербальное; от греч. отрицания а- и лат. verbum — «слово») неоднородно. К нему относятся: практическое мышление, направленное на действие; образное мышление, когда в голове рождаются картины, звуки, берущие свое начало в окружающем мире, а также авербально-понятийное мышление, имеющее дело с понятиями, для которых в языке нет отдельных слов. Например, в немецком языке нет специального прилагательного, означающего «синий», и немцы для передачи синевы моря или вечернего неба используют сложное прилагательное dunkelblau, означающее дословно «темно-голубой».
|
Языковед Б. Л. Уорф, предложивший термин «языковая относительность», по специальности был инженером-теплотехником. Он интересовался языками и культурами американских индейцев. Исследования привели его к мысли, что язык создает картину мира говорящего. Уорф рассуждал так: в греческом языке был глагол быть, обозначавший «существовать» (Мир есть) и одновременно служивший глаголом-связкой (Иван есть человек). В сознании древних греков бытие и свойство отождествились. Это позволило Аристотелю создать свою логику, которой пользуются до сих пор. Эта логика основана на законе тождества (А есть А), законе непротиворечия (А не есть не А) и законе исключенного третьего.
|
Мир сильно изменяется в словесном мышлении. В окружающем мире нет предмета, который бы прямо соответствовал твердости, теплоте или справедливости. Это качества, присущие предметам и не мыслимые отдельно от них. В языке же они выступают как отдельные сущности. Проблема смысловых связей слова была поставлена в лингвистике очень давно. Древнегреческий философ и писатель Платон в диалоге «Кратил» объяснял сущность вещей через поиск начального смысла слов: имя бога подземного царства Аид он выводил из отрицания а и корня idein — «видеть» (Аид — «невидимый»; такую связь считают возможной и современные этимологи).
|
|
|
|
футуристы считали мысль человека прихотливым сочетанием образов, предметов и явлений. |
Пиктография -древнейшая форма письма - передает мысль в виде серии фигур и рисунков (вверху - песни Ваблио). |
В XIX в. в трудах В. фон Гумбольдта появился термин «внутренняя форма слова» — тот корень, от которого слово происходит и с которым оно связано. Особое значение внутренняя форма слова приобрела в лингвистической теории А. А. Потебни. Согласно его учению, слово порождается внутренней формой, но затем захватывает все новые предметные области и отделяется от внутренней формы настолько, что теряет с ней всякую связь — говорящий не вспоминает об ухе, слыша глагол внушить. Развитие словесного значения может осуществляться путем переноса значения по сходству (так, слово «окно» образовано от око. Окно — око дома) или переноса значения по смежности (имя город — однокоренное с городить, огораживать. Ограда — огороженное место — население огороженного места). Таким образом слово отделяется от своей внутренней формы. Все старые города уже давно вышли за пределы крепостной стены, никто не вспоминает о стенах при строительстве новых городов, слово же остается. Метафора и метонимия относятся к образным средствам языка, широко используемым в поэзии. А. А. Потебня показал, насколько глубоко поэтические средства укоренены в языке, общность истоков лингвистики и поэтики.
Открытие А. А. Потебни было использовано русскими теоретиками модернизма. Он предвосхитил некоторые популярные лингвистические и поэтические теории XX в. Символисты постигали слово как носитель и источник бесконечного числа смыслов, ведущих от повседневной реальности к мистическому откровению. Футуристы средствами поэзии пытались постичь первооснову слова. Р. О. Якобсон начинал как поэт-футурист, автор многих работ о поэзии футуристов. Ему принадлежит известная формулировка: «В стихе нет ничего, чего не было бы в языке».
|
В книге Л. С. Выготского «Мышление и речь» (1934)
значение и смысл поясняются так. Когда в басне И. А. Крылова Муравей
говорит: «Так поди же попляши!», то значение этого высказывания
просто - совет станцевать. |
ЯЗЫК воздействует на мышление — полагали некоторые лингвисты. В языкознании известна теория лингвистической относительности. Ее создателями были В. фон Гумбольдт, Э. Сэпир и Б. Л. Уорф. Они считали, что мышление человека определяется его языком. Они проводили сопоставления грамматики и особенностей мышления. Придавать мышлению такое универсальное значение нет оснований. Так, глагол быть имеет двоякое значение в большинстве европейских языков. Но это обстоятельство не помешало европейским ученым разработать в начале XX в. много логических систем, где нет законов аристотелевой логики. А любой индеец-хопи, поступив в английскую школу, может выучить логику Аристотеля, и родной язык ему не будет помехой. С другой стороны, языковые средства совсем не безразличны для течения мысли. Вряд ли кто сможет жаргонным языком всерьез говорить о научных проблемах. Без применения специальной терминологии это невозможно.
Говорящим сознательно выбираются термины, стилевые средства, манера речи. Грамматика и основной словарный запас им используются неосознанно. Следовательно, язык воздействует на мышление говорящего только теми своими чертами, которые говорящий волен в нем сознательно выбирать. На это указывал французский естествоиспытатель и популяризатор науки Ж. Бюффон: «Стиль — это человек». Теория лингвистической относительности, не сыграв особой роли в изучении грамматики, важна для изучения словарного состава и стилей языка.
| Животные, особенно высшие, способны к простейшей мыслительной работе. У них для этого существуют свои знаковые системы, которые русский физиолог И. П. Павлов назвал первой сигнальной системой. У человека она тоже присутствует: интонации и мимика. Они направлены на передачу настроения, эмоций в отличие от слова (второй сигнальной системы), которое передает понятия. Первая сигнальная система играет огромную роль. Собака может быть очень понятливой и проницательной: она правильно реагирует на команды, тонко чувствует настроение хозяина. Это происходит не потому, что она понимает значение слов. Она замечает такие оттенки человеческой мимики и интонации, на которые сам человек не обращает внимания. |
НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ необходимы для ответа на вопрос о связи языка и мышления. До недавнего времени непосредственно наблюдать за мозгом не представлялось возможным в течение многих лет. В настоящее время у исследователей появилась возможность снимать электроэнцефалограмму (от греч. enKephalos — «головной мозг» и gramma — «запись») — запись биотоков, излучаемых мозгом во время мышления. Она показывает, какой участок мозга возбудился. Больше возможностей предоставляет компьютерный томограф (от греч. tomos — «слой» и grapho — «пишу»), в процессе работы которого на экране возникает объемная картина любого исследуемого органа, в том числе мозга. Но проведение и осмысление опытов с этими приборами требует профессиональных навыков медика и физиолога. Поэтому в механизмах порождения речи в мозгу остается много неясного. Разобраться в них — задача науки будущего. Усилия психологов и лингвистов привели к тому, что сейчас достаточно много известно о речи в мозгу. Это связано с исследованием феномена внутренней речи. Внутренняя речь как неотъемлемая часть словесного мышления сильно отличается от речи внешней. Внутренняя речь не служит средством общения. Для успешности сообщения в высказывании должно быть нечто данное (тема — известное собеседникам) и нечто новое (рема — то, что составляет предмет сообщения). Говорящему известно все, о чем он будет говорить, — он не нуждается в проговаривании данного. Во внутренней речи называется только новое. С точки же зрения синтаксиса данное выражено подлежащим (тема), новое — сказуемым (рема). Внутренняя речь состоит из сказуемых, а предикативный характер как раз и является основой для перевода исходного «замысла» в будущее развернутое речевое высказывание. Внутренняя речь включает в свой состав лишь отдельные слова и их потенциальные связи. Так, если во внутренней речи есть слово «купить», то это означает, что одновременно во внутреннюю речь включены все «валентности» этого слова: «купить что-то», «купить у кого-то» и т. д.; если во внутренней речи фигурирует предикат «одолжить», это означает, что у этого предиката сохраняются и все свойственные ему связи (одолжить «у кого-то», «что-то», «кому-то» и «на какое-то время»). Именно это сохранение потенциальных связей элементов первичной семантической записи, имеющихся во внутренней речи, и служит основой развернутого речевого высказывания, которое формируется на ее основе.
|
Как особую разновидность Б. А. Серебренников выделил языкотворческое мышление. Оно создает новые понятия на основе старых слов. Например, русское слово «внушить» состоит из древней приставки вън- (которая в современном русском языке звучит обычно как в-, во-) и корня -уш-, варианта ухо. Иными словами, для тех, кто создал глагол внушить, это действие отождествлялось с нашептыванием в ухо. Язык сохранил эту понятийную связь. |
ПСИХОЛОГ Л. С. Выготский исходя из того, что внутренняя речь представляет собой скрытое стремление человека сообщить новое, сделал несколько важных выводов. Словесное мышление основано не только на языке. В нем представлена предметная область, которую говорящие не называют, но подразумевают. Значительная часть мира во внутренней речи остается неотраженной. Переход от внутренней речи к внешней оказывается сложным. К тому, что говорится, прибавляются имена предметов, о которых сообщается. Имена переходят из разряда подразумеваемых в называемые. Мгновенно их воспроизвести, найти словесную форму мыслям не всегда просто. Поэтому в живой речи так часты заменители имен типа ну, это, как его, это самое (в них зачастую используются местоимения — «вместо имени»). Подобные слова-паразиты заменяют говорящему предмет речи, который он ясно представляет, но не может назвать. Важно и то, что непонимание может относиться не только к высказыванию, но и к отдельному слову. У слова есть как значение (предмет, обозначенный словом), так и смысл (представление, с помощью которого звуковая форма слова связывается со значением). Если значение слова знакомо всему коллективу владеющих данным языком, то смысл слова в значительной мере индивидуален. Это может порождать непонимание. Переход от внутренней речи к речи звуковой — преодоление индивидуальной речи, соединение своего высказывания с языковым опытом сообщества.
Слово наравне с предложением — значимая единица языка. Это центральное понятие лингвистики и литературоведения. Если предложение — базовая единица языка в его роли сообщения, то слово — основное понятие языка в его функции называния.
Предложение целиком относится к уровню синтаксиса (см. Уровни языка). Слово невозможно уместить в один языковой уровень. В нем выделяются две главные составляющие: звучание и значение. Слово звучит и передает понятие. В слове выделимы план выражения и план содержания. Они неоднородны. Первый план состоит из единиц фонетического и морфологического уровня — слово оказывается дважды членимым: на звуковые и значимые единицы. Второй план включает в себя смысл и значение (см. Семантика). Он составляется как из значений полнозначных частей слова (лексическое значение), так и из служебных (морфологическое значение). Значение слова (то, что подразумевается людьми) относит слово к одному из классов (см. Лексика). В слове заключена способность сочетаться или не сочетаться (валентность) — как с другими словами, так и с грамматическими формами. Слово и дважды членимо (фонетически и морфологически), и дважды значимо (лексически и грамматически), и дважды валентно (лексически и синтаксически). В нем сходятся все уровни языка.
Существует большое количество определений слова. Обычно указываются отдельные черты слова: цельность (неразделимость на другие слова); четкое значение, выделяющее его из других слов; полноизменяемость (способность слова склоняться, спрягаться и др.); наличие в слове одного ударения. Слово — единство звучания и значения. Оно существует и обозначает нечто действительно отдельное по отношению к единицам своего уровня.
| Размытость границ между словом и морфемой особенно очевидна в западноевропейских языках, где окончаний очень мало: во французском есть два вида личных местоимений - самостоятельные (moi - «я», toi - «ты», ii - «он», elle - «она») и использующиеся только при глаголах (ie - «я», tu - «ты», iе - «он», iа - «она»). До сих пор сложно определить, из скольких слов состоит фраза il l'а quitte - «он ее бросил» (дословно «он ее имеет брошенной») - два, три или четыре? Еще труднее определить количество слов в сочетании je’l aime - «я ее люблю»: je - местоимение, но поскольку оно может встречаться только при глаголах, то выполняет ту же роль, что и окончание - у в русском люблю [л’убл’-у]. Местоимение iа указывает на прямое дополнение, но во многих языках мира при переходных глаголах используются специальные морфемы, подчеркивающие, что глагол управляет прямым дополнением. Выражение il l’а quitte - составная глагольная форма, так же, как в русском буду читать. |
ГОВОРЯ О ЦЕЛЬНОСТИ СЛОВА, необходимо четко выделять его из других слов. По наполнению значением существуют полнозначные и служебные слова. Полнозначные обозначают действие, предмет, свойство, состояние и др. Служебные передают различные отношения: пространственные, временные, причинные (в, на, до, после, из-за, ради — предлоги), отношения объединения, разделения и противопоставления (и, а, но — союзы) и др. В других случаях те же отношения передаются грамматическими морфемами (войти, наезд, доставить), т. е. не целыми словами, а их частями.
Иногда считается, что слово — единица языка, записанная буквами и заключенная между двумя пробелами. В этом есть смысл. Но в мире существует множество письменностей, где слова не выделяются специальными пробелами (например, в Индии), а в современных европейских языках они активно используются. Говорящий может ощущать отличие слова от других единиц языка, а системы письма создавались и совершенствовались именно с учетом языкового чутья народа. Русский язык находится в стадии бурного лексического роста и грамматического развития. Так, класс наречий стремительно пополняется наречными выражениями, ранее бывшими словосочетаниями (ср. биться насмерть и на смерть поэта; отправиться наудачу и надеяться на удачу). Есть такие наречия, в которых невыделимы бывшие предлоги (дотла, исподлобья, запанибрата: русскоговорящие все чаще используют привычные словоформы).
В морфологии слово отличается от словосочетания тем, что окончание относится к нему целиком (высокопроизводительный/-ого), но и это правило не универсально.
| Между полнозначными словами и
морфемами есть служебные слова и устойчивые выражения (у черта на
куличках). Слово «кулички» не встречается нигде, помимо
этого фразеологизма. Но в нем оно сочетается с полнозначными
словами, несет ударение и морфологически оформлено (окончанием
предложного падежа множественного числа) и поэтому имеет некоторые
черты слова. Сочетание мал мала меньше считается в языке уже
наречным выражением. Это образцы неполноценных слов. Учет
соотношения «ядерных» и «неядерных» слов приближает к ответу на
вопрос: что такое слово? Слово несет в себе бесконечное количество смыслов и эмоциональную окраску. Так, шпион - слово с отрицательной оценкой, а разведчик - с положительной, слуга - с нейтральной, иногда положительной (слуга народа), а лакей - с отрицательной (лакей империализма). С оценкой связан стиль. Разные слова относятся к разным стилям: лик - возвышенный стиль, лицо - нейтральный, морда, рожа - просторечный, харя, ряшка - грубо просторечный. Одно дело спросить: «Светловолосая дева, что ты дрожишь?», - другое - «Рыжая девка, чего трясешься?» Различается оценка говорящим собеседника и его намерения. В первом случае выражается внимание и почтительность, во втором -пренебрежение, может также подразумеваться требование. |
ИНОГДА для нахождения отдельного слова ориентируются на произношение: слово — отрезок речи, объединенный ударением. Этот подход также ненадежен: частицы, союзы, предлоги безударны и произносятся вместе с ударным словом. А в сложных словах иногда появляется добавочное ударение: обе входящие в него основы оказываются, по сути, ударными (высокопроизводительный). Отсюда и трудности написания сложных прилагательных и числительных в русской орфографии: литературно-художественный; раскатисто громкий голос; двадцать три тысячи — двадцатитрехтысячный.
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВИЛ определения слова нет. Отдельный признак не может определить такую сложную единицу, как слово. Слово нельзя рассматривать оторванно от жизни языка. В одном языке сочетаются особенности разных типов языков, поэтому слова в нем могут сильно отличаться.
Мир — огромный механизм, что и почувствовал ранее Леонардо да Винчи. Европейцы пришли к осознанию того, что предметы и явления жизни — детали единого мирового ансамбля. Человеческий язык был одним из фрагментов этого создания. Это осознание прошло через XVII и XVIII вв. вплоть до появления теории эволюции форм жизни. Ч. Дарвин в этой теории наиболее ясно выразил мысль о взаимосвязи жизненных явлений. Идея исторической изменчивости мира охватила все науки, в том числе и языкознание. Ученые XIX в. выработали строгие правила (изучили механизм) изменений в языке.
|
Старинная гравюра: Христофор Колумб встречает аборигенов Америки. Толмач (переводчик) капитана знал много языков, но не смог объясниться с индейцами. |
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА в языкознании обусловлено новой ситуацией в науках Нового времени и накоплением большого объема фактического материала, побуждающего ученых к сравнению и выделению типических черт в разных языках.
В XVII в. сложился новый облик науки. Ф. Бэкон заявил о предпочтении знаний, полученных в результате наблюдения, перед умствованиями, за которыми не стоит опыта. Р. Декарт установил, что познание должно отвечать строгим требованиям, осуществляться не беспорядочно, а по строгой процедуре, которую он назвал методом (греч. methodos — «путь»). Г. Лейбниц подчеркивал, что все разнообразие мира сводится к небольшому количеству более простых схем. Основной принцип его философии — единство в многообразии.
В эпоху Великих географических открытий (XVII в.) многие путешественники, возвращаясь из экзотических стран, стали отмечать слова, напоминающие по звучанию и значению известные им языки. Постепенно стал накапливаться материал для сравнения языков. Встал вопрос о причинах их сходства и различия. Пришло осознание того, что языки могут происходить из одного источника — праязыка. Языки перестали восприниматься европейцами как нечто навсегда данное и неизменное.
|
Герой «Рамаяны» Рама вместе с братом Лакшманом, ищущие жену героя - Ситу (ил. старинного манускрипта XIII в.). |
Возникла необходимость рассматривать язык как строгую исторически изменчивую систему. Прошло около 100 лет, и в XIX в. ученые изобрели сравнительно-исторический метод.
Сравнительно-исторический метод исследует группу родственных языков с целью нахождения в них общих черт, заимствованных от языка-предка, и восстановления отдельных элементов этого языка. Такое сравнение основано на строгих звуковых соответствиях: каждый звук в одном родственном языке должен находить четкое соответствие в другом, если сравниваемые слова имеют общее происхождение. Звуковые соответствия помогают сравнивать друг с другом единицы и более высоких уровней — морфологии, синтаксиса, лексики.
Представление об общем происхождении похоже звучащих слов древнее. В диалоге Платона «Кратил» (V в. до н. э.) есть рассуждения о том, что слова «вода» и «огонь» в греческом и фригийском языках звучат почти одинаково.
|
Написание сомнительных звуков регулируется в русской орфографии правилом такой их постановки, чтобы они хорошо прослушивались: пруд (прудик) - прут (прутик). Оглушение д и т регулируется фонетическим законом современного русского литературного языка - это обязательно для любого слова. Чередования звуков иного рода - пеку - печешь - обусловлено другим законом; перед гласными е, и согласный к превращался в ч. Этот закон - мертвый, он давно перестал действовать. Такие слова, как «кедр», «кекс», «кино», вошли в русский язык после формирования этого закона. В русском просторечии давно утвердились формы пекешь, пекет, пекем - по аналогии с пеку, пекут. Изучая историю языка, лингвист находит множество слов - свидетелей прошлых, умерших фонетических законов.
|
Мысль о родстве языков занимала и М. В. Ломоносова. В набросках к своей «Российской грамматике» он размышляет о том, что есть языки сродственные, происходящие от одного предка, и несродственные, общего предка не имеющие. Для доказательства «сродства» русского и других славянских языков Ломоносов сравнивал имена числительные в них. Он с восторгом отметил несомненное, хотя и более отдаленное родство некоторых языков: «Представим долготу времени, которою сии языки разделились. Польский и российский коль давно разделились! Подумай же, когда курляндский! Подумай же, когда латинский, греческий, немецкий, российский! О глубокая древность!»
В том же XVIII в. главный судья индийской провинции Калькутта Уильям Джонс усердно изучал санскрит - священный язык Древней Индии, на котором написаны главные книги индуизма — Веды, знаменитые эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна». Как любой английский государственный служащий того времени, Джонс получил хорошее классическое образование и прекрасно знал латынь и древнегреческий. Обратившись к санскриту, он нашел в нем множество слов, напоминавших ему греческие и латинские. Так, отец на санскрите — pitar, на латыни — pater, по-гречески — pater, мать — соответственно matar, mater и meter, он есть — asti, est и esti и т. д. Ученый решил, что санскрит является предком и латыни, и греческого, и большинства европейских языков. Строгих доказательств этого у него не было, но интуиция Джонса оказалась точной. Позже лингвисты установили, что санскрит является предком только для современных индийских, но не европейских языков. Однако его родство с большинством европейских языков оказалось очевидным. Все они происходят от общего предка — языка, на котором говорили люди, жившие около 7000 - 9000 лет назад на территории Юго-Восточной Европы или запада Малой Азии. Носители языков, входящих в эту большую семью, живут на территории Индии и в Европе, поэтому вся семья получила наименование «индоевропейская» (см. Языковые семьи).
Но сходство слов еще не доказывает родства языков. Сходство может быть и случайным. Немецкое Laus (вошь) и латинское laus (похвала) звучат одинаково, но вряд ли кто-то будет доказывать их родство. Но и у близких по значению слов похожее звучание не всегда доказывает общее происхождение.
Так, польское слово naczelnik похоже на русское начальник. Польское слово означает «находящийся на челе» (na czelie) — «стоящий впереди».
|
Фонетические законы - основа сравнительно-исторического языкознания.
Они основаны не на внешнем произвольном сходстве, а на соотношениях,
глубоко укоренившихся в языке. Поэтому их открытие превратило
лингвистику в строгую науку, которая, по общему мнению, играет такую
же роль среди гуманитарных наук, как математика или ядерная физика -
среди естественных. |
Русское же начальник произведено от начало, а оно, в свою очередь, — от глагола начать. Если разъять оба слова на морфемы, то будет получено следующее: na-czel-n-ik, но на-ча-л-н-ик. Очевидно, что в этих словах — разные основы, а их сходство случайно (ср.: у слов «начальник», «начало» — их общий родственник, не совпадающий с ними ни в одном звуке, - «конец»).
Первыми поняли необходимость поиска закономерностей в различиях родственных языков немецкие ученые XIX в. Якоб Гримм, Франц Бопп и датчанин Расмус Раск. Они представили их в виде четких систем соответствий, получивших наименование «фонетические законы». На их основе были составлены сравнительные таблицы для звуков различных индоевропейских языков. Имея такие таблицы, ученые получили возможность сравнивать слова в родственных языках и устанавливать их родство — общее происхождение от одного слова-предка.
Древнегреческие, римские, средневековые лингвисты мало интересовались языками, кроме своего родного. Все языковое разнообразие попало в поле зрения европейских ученых только в период Великих географических открытий, когда путешественники стали знакомиться с новыми народностями. С ними необходимо было вступать в контакт: торговать, приобщать к христианству, управлять ими. Все это побудило европейцев изучать языки населения, среди которого они жили. Знакомясь с новыми языками, европейцы стали отмечать их общие черты с уже известными. Исследователи не могли не задумываться о том, что языки могут быть общими по происхождению.
|
Немецкий лингвист А. Шляйхер рассматривал
индоевропейские языки в виде родословного древа (1862), что являлось
перенесением идеи биологической эволюции на лингвистическую.
Путешественники, военные, торговцы и беженцы привозили с собой не только болезни, предметы быта и оружие, товар и деньги, но и свои обычаи, сказания и легенды, взгляды на мир и языки. |
ЯЗЫКОВАЯ СЕМЬЯ — группа языков, для которых удается установить с помощью сравнительно-исторического метода их происхождение от общего языка-предка (праязыка). После распада праязыка носители языков-потомков могут расселиться на больших расстояниях друг от друга и передать свой язык туземному населению. Поэтому языковая общность не тождественна ни культурной, ни этнической. На языках одной семьи могут разговаривать представители резко отличающихся друг от друга языков и культур. Например, к индоевропейской семье относятся языки светловолосых исландцев (северных европеоидов) и черных сингалов (жителей Шри-Ланки), которые считаются переходными от белой (европеоидной) к черной (экваториалоидной) расе. Различаются друг от друга венгры и ханты, говорящие на достаточно близкородственных языках одной уральской семьи. Языковые семьи связаны между собой системой соответствий на звуковом, грамматическом и словесном уровне. Для определения языкового родства значимы закономерные фонетические различия в окончаниях слов — в морфемах. Но не менее важны и лексические соответствия. В составе слов родственных языков можно увидеть за словами вещи, доступные носителям языка-предка. Это позволяет судить о месте обитания, культуре и обычаях народа, говорившего на этом языке.
Внутри семьи могут быть языки, обнаружившие большую близость друг к другу, чем к другим языкам. Это языковые группы. Так, в индоевропейской семье языков выделяются славянская, германская, иранская, другие группы. Уральская семья разделяется на финно-угорскую и самодийскую группы. В отдельных языковых группах обнаруживается особое родство по отношению друг к другу. Такие объединения называются диалектными группами (см. Диалект). В индоевропейских языках выделяется итало-кельтская, балто-славянская, индоиранская диалектные группы. Группы могут делиться на подгруппы: славянские языки традиционно подразделяются на западно-, восточно- и южнославянские.
ОБЩАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЧЕРТА — звуковая, грамматическая или лексическая — называется изоглоссой (от греч. isos — «подобный» и glossa — «язык»). Термин образован по образцу подобных научных выражений в метеорологии и физике: изотермы (линия на карте, объединяющая области с одинаковой температурой), изобары (линия одинакового давления). Так, в славянских языках имеются соответствия: русское, украинское корова, белорусское карова, польское krowa, чешское krava, болгарское крава и т. д. Эти формы восходят к праславянскому *korva. Как видно, праславянский облик слова не сохранен: на месте праславянского *ог в восточнославянских языках прослеживается сочетание оро, в южнославянских — ра. Это изоглоссы, выделяющие восточнославянскую и южнославянскую подгруппы. В лингвистике восточнославянское сочетание оро получило наименование полногласия, южнославянское ра — неполногласия (ср. город — град, хоромы — храм, холод — хлад, солод — сладкий). Изоглосса — общее новшество и изменение старинного праязыкового наследия.
| В одну семью могут включаться
языки, разошедшиеся друг от друга. Если сходство русского и
украинского языков заметно, а русский и польский имеют много общего,
то родство русского и литовского языков известно специалисту. В
доказательство общности румынского (романская группа) и курдского
(иранская группа) надо проводить специальное исследование. Отдельные
языковые семьи входят в более древние макросемьи (от греч. makros
- «протяженный»). В 1912 г. датский лингвист X. Педерсен
предположил: индоевропейские, финно-угорские и тюркские языки
составляют большую семью, названную им ностратической (от лат.
noster - «наш»). Некоторые ученые объединяют в единую семью северокавказские и ки-тайскотибетские языки, присоединяя к ним язык малочисленного народа кетов, живущих на Енисее, а также американоиндейской группы на-дене (синокавказская макросемья). Третья макросемья включает ряд языков Юго-Восточной Азии и тихоокеанских островов (австрическая макросемья - от герм. auster - «южный»). |
ВСЕ ЯЗЫКИ МИРА могут быть либо родственными друг другу (происходить от одного языка-предка), либо неродственными. Наиболее изучены и сопоставлены языки евразийского континента. Условно языки мира можно разделить на индоевропейские и неиндоевропейские. Индоевропейские языки известны лингвистике лучше всего. Неиндоевропейские языки не представляют собой цельной языковой семьи. Они делятся на несколько десятков семей, также неродственных относительно друг друга. Некоторые из этих семей описаны так же подробно, как и индоевропейские (семито-хамитские, тюркские, уральские). Языки африканского континента исчисляются сотнями — их изучение пока затруднено.
После того как родство языков стало в XVIII в. популярным предположением, европейские ученые обратились к родственным связям в родных языках. Семья, к которой принадлежит большинство древних и новых языков Европы, включает в себя также две группы азиатских языков — иранские и индийские. В начале XIX в. эту группу назвали индонемецкой (Indodeutsche), затем индогерманской, а в конце века в большинстве стран утвердилось название «индоевропейская семья». Оно очерчивает местонахождение этих языков: на крайнем востоке — индийские, на западе — европейские, в частности германские (исландский). Открытие родства индоевропейских языков имеет не только научное, но и мировоззренческое значение. Европейские народы убедились, что они происходят из общего источника.
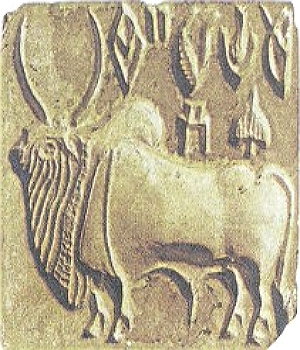 |
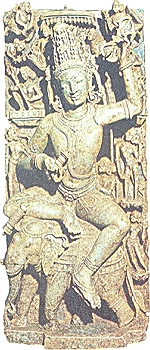 |
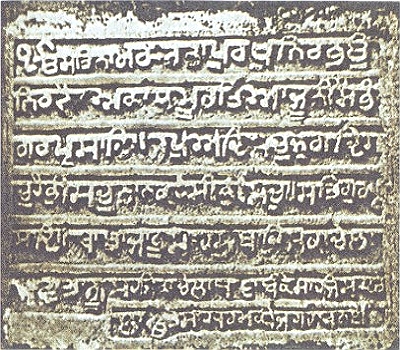 |
|
Смысл большинства подобных печатей (или клише) эпохи Xараппи до сих пор неизвестен. Скорее всего, они содержат надписи на языке индоевропейской семьи. |
Индра, изображенный на горельефе, вооружен молнией (ваджрой). Он непобедимый воин, покровитель ариев, идущих в бой. |
|
В ИНДИЙСКОЙ ГРУППЕ ЯЗЫКОВ (иначе — арийской) представлены ведический, санскрит, пракриты, хинди, урду, бенгали, сингальский (цейлонский), цыганский. Самый древний — ведический. На рубеже новой эры как литературный используется санскрит (от древнеинд. samskrta — «обработанный»). Говоры индийцев превратились в среднеиндийские языки — пракриты (от древнеинд. prakrta — «естественный»). От них появились в XII в. современные языки Индии: хиндустани (в двух вариантах: хинди — государственный язык Индии и урду — государственный язык Пакистана) и другие языки Индийского полуострова. Носителем цыганского языка были кочевые племена, ушедшие около 1000 г. н. э. из Северо-Западной и Центральной Индии в Иран.
К ИРАНСКОЙ ГРУППЕ языков относятся персидский, авестийский, пушту, осетинский, курдский. Они наиболее близки индийским. Современный персидский язык существует в трех разновидностях: фарси, таджикский и дари (язык персо-таджиков Афганистана). Пушту — государственный язык Афганистана. Авестийский язык назван так по единственному письменному памятнику, сохранившемуся на нем, — священной книге зороастрийцев Авесте (записана в III — VII вв.). Язык Авесты по архаичности не уступает ведийскому. К иранским языкам относятся многочисленные живые и мертвые языки Восточной Европы и Западной Азии — Иранского нагорья, Памира, Афганистана, Северной Индии. К этой группе принадлежал и язык скифов — древних обитателей южнорусских степей. Потомки скифов — осетины.
|
Изображение война на золотой пластине, найденной на берегу Амударьи. На нем - скифский колпак, на бедре - меч-акинак. Это подтверждает контакты (в том числе и языковые) тюркских народов Центральной Азии и скифов Причерноморья. |
СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ делятся на восточно-, южно- и западнославянскую группы. К первой принадлежат русский, украинский, белорусский, ко второй — болгарский, словенский, сербохорватский, македонский, к третьей — польский, чешский, кашубский, серболужицкие языки. Существовали два крупных центра формирования литературных языков в восточнославянской области: Киев и Новгород.
Наиболее родственны славянским балтийские языки: литовский, латышский, древнепрусский (вымерший в XVII в.), бесписьменный вымерший куршский (на Куршской косе в Литве и Латвии до недавнего времени жили несколько семей, помнивших родной язык) и известные только по названию языки племени ятвягов и голяди.
Большинство народов Северо-Западной Европы говорят на германских языках. Самый древний германский язык — вымерший готский, на который в III - IV вв. н. э. были переведены части Нового Завета. Готский относится к восточногерманским языкам, скандинавские языки — датский, шведский, норвежский, фарерский и исландский — образуют северогерманскую подгруппу, остальные германские языки — немецкий (верхне- и нижненемецкий), английский, голландский, фризский — включаются в западногерманскую подгруппу.
Языки древнего населения Апеннинского полуострова называются италийскими. Среди них наиболее известна латынь. Со II в. до н. э. латинский язык перешагнул пределы Италии и стал одним из важнейших языков мировой культуры. Он был международным языком более 1000 лет после падения Римской империи. Остальные италийские языки — оскский, умбрский, фалискский — известны нам по надписям, найденным в различных частях Апеннинского полуострова. К рубежу новой эры все они вымерли.
|
Первые памятники на германских языках - надписи, выполненные особым письмом - рунами, датируются III в. н. э. В IV в. готский епископ Вульфила перевел на свой родной язык отрывки из Евангелия. В VI в. записана первая эпическая поэма на древнеанглийском языке - «Беовульф», к X в. - древненемецкая поэма о конце света «Муспилли» и др. Особенно богат был цикл литературных памятников на древнеисландском языке: сборник песен о богах «Старшая Эдда», прозаические сказания - саги, лирическая поэзия, создаваемая профессиональными певцами - скальдами. Для истории скандинавской литературы огромное значение имеют трактаты ученого монаха Снорри Стурлусона (XIII в. н. э.) «Круг земной» и «Младшая Эдда» - учебник скальдической поэзии.
|
Из нелитературной латыни развились романские языки. К западным романским языкам относятся: испанский, сефардский (ладино, язык испанских евреев, изгнанных из Южной Испании в XV - XVI вв., проживавших до недавнего времени на Балканах), португальский, галисийский (язык Галисии, одной из провинций Испании), окситанский (провансальский, язык населения Южной Франции), каталанский (язык Каталонии, провинции Испании), французский языки. Центральнороманские языки — итальянский, сардинский (на одноименном полуострове), рето-романский (один из четырех основных языков Швейцарии), далматинский (был распространен на восточном побережье Адриатики, вымер в начале XX в.). Восточнороманские языки: румынский и отошедшие от него диалекты — арумынские (в Македонии), мегленорумынские (в Греции, к северу от Салоник), истрорумынские (к югу от Триеста).
В античные времена на кельтских языках говорило древнейшее население Европы на территории современных Франции, Испании, Бельгии, Чехии, Испании, Южной Германии, Северной Италии. Следы кельтов обнаруживаются на Балканах и в Малой Азии. В настоящее время кельты живут только на полуострове Бретань (Франция, бриттская подгруппа языков), островах Британия и Ирландия. К бриттской подгруппе относятся: кимрский (валлийский, уэльский — западное побережье Британии), корнский (вымерший в XVII в. язык жителей Корнуолла, на северо-западе Британии) и бретонский (французская Бретань). К гойдельской подгруппе принадлежал древнеирландский язык. Из древнеирландского происходит современный ирландский. Язык коренного населения Шотландии — гэльский и близкородственный ему язык населения острова Мэн близ Шотландии. Кельтские языки близки к италийским.
К греческой группе относится древнегреческий язык, представленный огромным материалом: литературным и эпиграфическим (надписями на надгробиях, стелах и статуях). Новогреческий язык сформировался ко времени захвата турками Константинополя (1453 г.). К концу XIX в. он предстал в виде кафарвуса (уподобляющийся древнегреческому) и димотики («народный»; основан на диалекте Средней Греции). С 1982 г. официальным языком Греции является димотика.
ВЕЛИКИМ ПРОСВЕТИТЕЛЕМ Месропом Маштоцем в IV - V вв. был создан армянский алфавит для тогдашнего языка — грабара. Современный литературный язык (сформировался в XIX в.) существует в двух вариантах — западном (константинопольском) и восточном (ашхарабаре, государственный язык Армении). Армянский язык близок к греческому и индо-иранским языкам.
НЕ ПРИНАДАЕЖИТ НИ К КАКОЙ ИЗ ГРУПП албанский язык. Известны два главных его диалекта — гегский и тоскский.
Первые памятники появляются в XVI в. Существуют грамматические и лексические черты, связывающие его с балтийскими и славянскими языками.
|
Считается, что Месроп Маштоц добавил к 22 знакам сирийского епископа Даниила из Арзенены несколько букв из пехлеви и греческого унциала. Азбука была выполнена армянскими мастерами из золота, установлена на массивную основу из оникса, а буквы украшены бриллиантами. Она хранится в Эчмиадзине - центре Армянской апостольской церкви, резиденции католикоса. |
О ДВУХ НОВЫХ ЯЗЫКОВЫХ ГРУППАХ заговорили в начале XX в. На территории Китайского Туркестана были найдены рукописи на неизвестном языке. В 1908 г. немецкие ученые Э. Зиг и В. Зиглинг установили: язык рукописей — индоевропейский, но не относящийся к известным группам. Они были написаны на двух близких языках, получивших название тохарские (по названию обитавшего неподалеку восточноиранского племени). В настоящее время эти языки именуются турфано-карашарским и куанским — по названию местностей обнаружения.
В 1906 - 1907 гг. в турецкой деревушке Богазкей археологи открыли развалины города Хаттусас — столицы древнего Хеттского царства. В 1915 - 1917 гг. ассириолог Б. Грозный, изучавший клинописные таблички, определил, что они написаны на неизвестном индоевропейском языке, названном хеттским (хетты называли свой язык несийским). Исследования позволили обнаружить еще два языка — лувийский и палайский. В 1947 г. археолог X. Боссерт расшифровал иероглифические письмена юго-востока Малой Азии — язык был родственным хеттскому и лувийскому; его отнесли к хетто-лувийской (анатолийской) группе языков.
Жители Евразии, говорившие на языках индоевропейской семьи, оказались в соседстве с теми, кто говорил на языках, совершенно непохожих на их родные. Авантюризм, воинский дух, тщеславие и голод вынуждали людей покидать насиженные места в поисках приключений, новых пастбищ и чужих богатств. Одни завоевывали своих соседей, судьба других заключалась в растворении и полном исчезновении среди более активных и культурных народов. Вместе со своим скарбом, лошадьми и изобретениями люди переносили и свой язык. Языки мира оказались невероятно перемешанными. В любом случае взаимодействие языков способствовало бурному развитию континентальных цивилизаций.
| В 1828 г. финский ученый и поэт
Э. Леннрот, собрав большое количество карельских песен и легенд,
опубликовал их переработку - знаменитую «Калевалу». По образцу
«Калевалы» писателем и просветителем Ф. Р. Крейцвальдом (1803 -
1882) был создан самый известный эстонский литературный памятник «Калевипоэг». Финны называют себя и свой язык суоми. В русских летописях финские племена назывались сумь. Слово «финн» происходит от германского finn, fenn - «бродяга». Венгры получили в русском языке имя угры (венгры - заимствование из пол. wggry). Это имя, как и лат. Hungari, фр. hongrois, происходит из волго-уральских областей, от названия тюркского племенного союза оnоguг, дословно «десять стрел». Самоназвание венгров - мадьяры. |
НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫ три семьи неиндоевропейских языков: уральская, алтайская и семито-хамитская. Уральская семья делится на две большие группы — финно-угорскую и самодийскую.
НА НЕСКОЛЬКО ПОДГРУПП разделяются финские языки. Прибалтийско-финская подгруппа включает в себя прежде всего финский (государственный язык Финляндии). Очень близкородствен финскому карельский язык, на котором говорит население Карелии (в составе России) — между обоими языками трудно провести четкую границу. Мало отличаются от финского и карельского языки небольших, живущих по соседству народов — ижорский, вепсский (весь древнерусских летописей) и водский языки. Говорящие на них живут в разных районах Ленинградской области. Близок к ним и эстонский язык, ставший в 1991 г. государственным языком Эстонии. К югу от Эстонии сохранилось 150 человек, владеющих ливским языком. Они — потомки некогда многочисленного прибалтийско-финского племени, давшего название целой области (Лифляндия, или Ливония). К прибалтийско-финской подгруппе относят также язык саамов (лапландцев, или лопарей) — коренных жителей скандинавской тундры и Кольского полуострова. Наиболее близка прибалтийской волжская подгруппа, которая включает в себя марийский и мордовский. Марийский язык делится на три наречия — луговое (жители левого берега Волги), восточное и горное. Мордовский язык также существует в виде двух родственных говоров — эрзянского и мокшанского.
Третью подгруппу финских языков составляют пермские языки: коми-зырянский (Республика Коми на севере России) и коми-пермяцкий (диалект зырянского, носители которого проживают в небольшом округе в Пермской области с главным городом Кудымкар). Южнее коми, на берегах Волги и Вятки, живут родственные им удмурты.
Языки угров распространены в Северной Сибири, в низовьях Оби, в Ханты-Мансийском национальном округе, где живут небольшие племена ханты и манси. Самый большой народ, говорящий на угорском языке, оказался за тысячи километров от своих родственников, в Центральной Европе. Это венгры, предки которых до IX в. кочевали в зауральских степях и в 896 г. вторглись на территорию современной Венгрии.
В САМОДИЙСКУЮ ГРУППУ входят две подгруппы: северо- и южносамодийские языки. К первым относятся соседи ханты-мансийцев ненцы, энцы и нганасаны. К южносамодийским относится язык селькупов, живущих на Оби. Алтайская семья языков состоит из трех групп: тюркской, монгольской и тунгусо-маньчжурской. К ней относят корейский и японский. Родство языков, входящих в каждую из этих трех групп, велико — их носители могут понимать друг друга.
|
Литературный марийский основан на луговом и восточном наречиях. Близкородственным марийцам было племя меря, или меряне, известное из древнерусских и средневековых латинских хроник, где оно называлось Merеns. |
|
|
|
|
|
Бурятка |
Якутка |
НА ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ говорят люди, живущие на огромной территории — от Малой Азии до Восточной Сибири, от Полярного круга до китайских степей и среднеазиатских пустынь. Эти языки близкородственные, но наибольшие различия обнаруживаются в их звуковом строе. К ним относятся: татарский, башкирский, турецкий, азербайджанский, якутский и др.
К МОНГОЛЬСКОЙ ГРУППЕ принадлежат монгольский (государственный язык Монголии), калмыцкий (на Волге) и бурятский (в Забайкалье) языки. К ним относятся малочисленные языки в Китае (дунсянский, баоаньский, дагурский и др.) и Афганистана (могольский язык).
Люди, говорящие на монгольских языках, проживают во многих странах. Причина этого — в истории монгольских народов. Так, после смерти Чингисхана созданная им империя распалась, часть монголов переселилась на новые места обитания — в Китай и Афганистан. Одно из племен обосновалось в Северо-Западном Китае (Синьцзянь-Уйгурский район) и получило название ойраты. В XVII в. часть ойратов покинула свое место обитания, перекочевала в низовья Волги и стала звать себя калмыками.
|
О родстве некоторых неиндоевропейских языков люди стали догадываться довольно давно. Еще в XII в. ученый-энциклопедист Махмуд Кашгарский написал трактат «Диван тюркских языков», где показал их близость и наметил классификацию. Общее происхождение арабского и древнееврейского языков первым показал русско-немецкий ученый А. Л. Шлецер. Но в строгую науку изучение неиндоевропейских языков выросло в XIX в. под влиянием индоевропеистики.
Тунгус |
В ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКУЮ группу входят языки жителей Юго-Восточной Сибири, Дальнего Востока и Северного Китая. Они разделяются на две подгруппы: маньчжурскую и тунгусскую. К первой группе относятся живой маньчжурский и мертвый чжурчженьский языки. Их носители, живущие на севере Китая, в разное время завоевывали эту страну и принимали участие в государственном правлении. На северных, или тунгусских, языках говорят жители Северной Сибири (Таймыр, Камчатка), эвенкийцы и эвены, а также обитающие в бассейне реки Амур нанайцы, орочи, удэгейцы. Их быт хорошо описан в повестях русского писателя рубежа XIX - XX вв. В. К. Арсеньева.
В СЕМИТО-ХАМИТСКУЮ (АФРАЗИЙСКУЮ) ГРУППУ входят языки Северной Африки и Западной Азии. Некоторые из них имеют древнейшую письменную традицию, другие остаются бесписьменными. Название «семито-хамитские языки» восходит к Библии, в которой говорится, что азиатские племена (в том числе и евреи) происходят от сына Ноя Сима, а африканские — от Хама. В наше время выяснилось, что так называемые хамитские языки не составляют особой группы, а сами должны разделиться на несколько групп, родственных друг другу не больше, чем семитским.
В семитскую группу входят языки, создавшие великие культуры. Древнейший из них — аккадский, на котором говорили жители Междуречья — ассирийцы и вавилоняне. К началу новой эры аккадский, древнееврейский и финикийский были вытеснены другим языком — арамейским. Этот язык сохранился у современных ассирийцев (айсоров), живущих во многих странах Европы и Азии. К южным семитским языкам относятся арабский язык, современный эфиопский (амхарский), древнеэфиопский (геэз), а также язык южноаравийской письменности, которым пользовались в царстве Саба (библейское Царство Савское) в VIII - V вв. до н. э. От него остались наскальные надписи.
В Тунисе, Марокко, Мавритании говорят на языках берберо-ливийской группы. В этом регионе был язык, известный сейчас только по надписям на оружии (ливийский язык). В Древнем Египте культура создавалась на древнеегипетском языке. Древнейшие тексты, записанные особым иероглифическим письмом, датируются IV тысячелетием до н. э.
К началу новой эры древнеегипетский изменился настолько, что можно говорить о новом языке — коптском, использующем буквенное письмо. Коптский язык, на котором говорили представители особой христианской секты, стал мертвым в XVII в.
К кушитской и чадской группам относятся бесписьменные языки Эфиопии и Центральной Африки. Язык хауса — единственный из чадских языков, на котором письменность существует с XVIII в.
НА КАВКАЗЕ И В ЗАКАВКАЗЬЕ известно около 40 языков, часть которых объединена в три семьи: западнокавказская (абхазо-адыгская), восточнокавказская (нахско-дагестанская) и южнокавказская (картвельская). Эти семьи, по-видимому, не родственны.
В западнокавказскую семью входят абхазский, кабардинский (черкесским и адыгейским диалектами) и др.
Из двух групп состоит восточнокавказская семья: нахской (чечено-ингушской) и дагестанской. В дагестанскую семью входит не менее 30 языков, многие из которых ограничены территорией одного аула. Самые крупные дагестанские языки — аварский, лезгинский, лакский и даргинский. В родстве с восточнокавказскими находились два вымерших языка Передней Азии — урартский (VIII - VI вв. на территории современной Армении) и хурритский (восток Малой Азии).
На юге Кавказа говорят на грузинском, мингрельском, занском и сванском. Грузинский, мингрельский и занский объединяются в западную подгруппу, противостоящую сванскому. Мингрельский и занский (иначе — лазский) — диалекты друг друга.
|
Западные соседи ассирийцев и вавилонян - финикийцы, удачливые мореплаватели и купцы, создатели одной из первых алфавитных письменностей. Их изобретение через потомков (греческое, латинское и кириллическое письмо) стало основой 4/5 письменностей мира. Близкородственны финикийцам евреи. Они создали одну из величайших книг в истории человечества - Библию.
Папирус с письмом на древнегреческом языке. |
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ существует огромное
количество языков, родственные связи между которыми изучены еще недостаточно.
Установлены следующие языковые семьи: дравидская (Южная Индия), сино-тибетская и
австро-азийская. Среди дравидских языков наиболее известны тамильский, телугу и
каннада. Китайский язык относится к сино-тибетским языкам. К ним принадлежат
тибетский, бирманский, тайский и другие языки. Австро-азийская семья языков
включает в себя, например, вьетнамский.
Известно, что живые организмы могут обладать внешним сходством, не будучи родственными. У рыб и у кита подобные формы тела — плавники, хвост, выполняющий роль руля и двигателя, и др. Живые и неживые формы мира устроены как копии, изменяющиеся во времени и пространстве (географически, в зависимости от нахождения в различных средах: воде, воздухе, земле и, наконец, в обществе). У языков людей также есть внешние черты, сходные, но имеющие разное происхождение. Общие черты образуют языковые типы.
|
Братья Вильгельм и Якоб Гримм известны не только как фольклористы, но и как авторы «Истории немецкого языка» (1848), выпустившие четыре тома немецких сказок и преданий (1812 - 1818). Я. Гримм является также одним из основателей сравнительно-исторического языкознания и одним из пионеров германского языкознания. Они занимались в основном германскими языками, сравнивая их с хорошо им известными греческим и латынью.
Романтики продолжили традицию европейского сциентизма. Они пристально изучали природные стихии, переходные состояния природы и психики человека, страсть и сокрушающую силу жизни, К. Фридрих «Крушение «Надежды»» (1823 - 1824). |
ТИП ЯЗЫКА (от греч. typos — «отпечаток», «форма») — основные, характеризующие особенности языка и его структура, взятая не в отдельных деталях, а как целостность. Отдельные типы языка выделяются на основе морфологии языка — формы и значения словоизменительных и отчасти словообразовательных элементов. На других уровнях (фонетика, лексика, синтаксис) говорят об отдельных типологических чертах, но в отдельные типы языки не выделяются. Типологические различия делятся на формальные и содержательные. То есть языки различаются и составляют между собой общности как по внешнему оформлению, так и по грамматическому значению слов.
ТИПОЛОГИЯ как научная дисциплина зародилась в начале XIX в. в Германии. Она связана с романтизмом в искусстве и мировоззрении. Романтизм — это цельное философское учение, развивавшееся, в частности, немецким мыслителем Ф. Шеллингом. Мир романтиков един и многообразен. Он подчиняется общим законам, а его отдельные области обнаруживают общие черты. Так, изучая национальную психологию, они сопоставляли разные области народной жизни: костюм, обряды, кухню, интерьер, верования, язык. Романтики внесли выдающийся вклад в изучение мифологии и языкознания. Современники братьев Гримм Август Вильгельм и Фридрих фон Шлегель попытались осмыслить структуру всех языков мира как механизм. Шлегель в своем трактате «О языке и мудрости индийцев» (1808) сравнил открытый в его время древнеиндийский (санскрит) с греческим, латинским, а также тюркскими языками. Он отметил, что в индоевропейских языках при словоизменении к основе слова не только присоединяется окончание, но и сам корень изменяется. А в тюркских языках к неизменному корню присоединяются однотипные окончания.
Языки с изменением окончаний и основы Шлегель назвал флективными (от лат. flecto — «сгибаться»). Языки без изменений окончаний и основ он назвал аффиксирующими («вбивающими окончание в слово» — от лат. affigo — «вбивать»). Позднее аффиксирующие языки были переименованы в агглютинативные (т. е. «приклеивающие окончание к основе»). Флективные языки, по мнению Шлегеля, — богатые, долговечные, склонные к творчеству, а аффиксирующие — бедные и механистичные. Его брат А. фон Шлегель дополнил этот перечень еще одним типом — языки без окончаний. Таким является китайский язык. Он назвал китайский язык бесформенным — лишенным грамматической формы.
| Крупнейший лингвист Август Шляйхер расширил и уточнил классификацию Шлегелей, но в отличие от В. фон Гумбольдта не рассматривал инкорпорирующие языки. Он был дарвинистом, полагал, что язык проходит в своем развитии такие же стадии, как живой организм, и видел эти стадии в изменении языкового типа. Каждый язык, по мнению Шляйхера, зарождается как изолирующий - наиболее примитивная стадия языка, затем изоляция превращается в агглютинацию: служебные слова превращаются в окончания (это молодость языка). Затем эти окончания могут сливаться с корнем, корень начинает под их влиянием изменяться, и языки превращаются во флективные (это зрелость, высший расцвет языков). Затем окончания выпадают, их место занимают служебные слова. Языки превращаются в аналитические, что означает их старение и упадок. |
ФЛЕКТИВНЫЕ ЯЗЫКИ А. фон Шлегель разбил на синтетические и аналитические. В синтетических языках грамматические изменения слова осуществляются с помощью окончаний, которые не могут употребляться отдельно. В аналитических языках слова изменяются через употребление служебных слов (предлоги, вспомогательные глаголы).
Современник Шлегелей Вильгельм фон Гумбольдт существенно уточнил и дополнил их классификацию. Он полагал: в языке не может быть никакой бесформенной материи.
Язык — сам форма и одновременно живой дух. Он оказывает прямое и непосредственное воздействие на мышление человека. Гумбольдт не считал китайский язык бесформенным — грамматические отношения выражены порядком слов и интонацией. Имеются в них и служебные слова. Он предложил термин «изолирующий язык» — состоящий из слов, внешне не связанных друг с другом (изолированных). Кроме этого, изучая индейские языки Америки, Гумбольдт выделил еще один тип языка — инкорпорирующий (от лат. incorporare — «включать»), в котором корни слов сливаются в единое слово-предложение. Гумбольдт пояснил это на примере одного из мексиканских языков: ninakakwa («я ем мясо»), где ni- — «я», -naka «ем-», -kwa — «мясо», причем по отдельности эти корни не употребляются.
|
Искусственно окрашенный агат может служить подобием синтетического языка, а их ряд - образом аналитического языка. |
В СИНТЕТИЧЕСКИХ ЯЗЫКАХ наблюдается изменение слов с помощью окончаний. Каждое слово в предложении выполняет определенную роль (подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство — например, для существительных). С этим связана относительная свобода порядка слов. К синтетическим языкам относятся большинство славянских языков, санскрит, древнегреческий, латынь и др.
В АНАЛИТИЧЕСКИХ ЯЗЫКАХ словоизменение гораздо проще, чем в синтетических: отношения выражаются служебными словами. Роль слов в предложении во многом определяется порядком слов, так как морфологические признаки более ослаблены. Один уровень языка берет на себя большинство функций другого (синтаксис у морфологии). Порядок слов — фиксированный. В словаре синтетических языков больше слов, чем в аналитических. А в аналитических отдельные слова более многозначные. Так, в английском языке нередки слова, у которых около 100 значений (set, take, do и др.). В аналитических языках есть общие языковые правила. Грамматические отношения передаются служебными словами не произвольно, а в соответствии со значениями слов (французский предлог de, английский of, немецкий von означают и «отделение», и «принадлежность». Русский предлог от тоже может означать и то и другое (отойти от дома, платье от Диора). В русском языке отношения между словами выражаются как падежными окончаниями, так и предлогами, действующими вместе с падежами. Русский язык находится в состоянии начального перехода от синтетического к аналитическому. В других языках, например в санскрите, предлогов нет вообще. К аналитическим языкам относятся большинство языков Западной Европы.
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ показывают общность развития языков по ряду одинаковых законов. Они позволяют найти универсальные черты языков. Изучение этих законов играет определяющую роль в типологическом (занимающемся структурными соответствиями) и в сравнительно-историческом (предметом которого является общность происхождения языков) анализах.
Черты разных типов есть почти во всех языках. Нет абсолютно чистого типа языка (аналитического, синтетического или изолирующего). В аналитическом английском языке время Past образовано синтетически — с помощью суффикса -d или чередования звуков в корне: see — saw; в глаголе write — wrote. А в синтетическом русском есть аналитическая форма будущего времени — с вспомогательным глаголом буду: буду читать. Лингвистическая типология использует понятие языка-эталона, не существующего в природе, вся структура которого образована именно в соответствии с данным типом. Тип живых языков определяется по приближению или отдалению от языка-эталона.
| Тоны (или тонемы) играют в китайском языке и смыслоразличительную роль: bing («лед» - ровный тон) - bing («постель» - нисходящий тон); tang («суп» - ровный тон) - tang («сахар» я-восходящий тон). |
АГГЛЮТИНАТИВНЫЕ ЯЗЫКИ построены по иным правилам, чем флективные (синтетические и аналитические). Каждое окончание в агглютинативном языке выражает только одно грамматическое значение (падеж, число, время, лицо). Во флективных языках каждое окончание выражает несколько значений (падеж, число, род). В агглютинативных языках имеются формы слов без окончаний, что невозможно во флективных (в них есть нулевое окончание: дом-≥). Под влиянием корня слова звучание окончания немного изменяется. Эта черта называется «сингармонизм» (от греч. syn и harmonia — «созвучие»). К агглютинативным языкам относятся большинство языков уральской и алтайской семей (например, финский, венгерский, тюркские и монгольские языки).
В ИЗОЛИРУЮЩИХ ЯЗЫКАХ порядок слов более жесткий, чем в аналитических. В китайском языке подлежащее стоит на первом месте, сказуемое — на втором, дополнение — на третьем. Если предложение отрицательное, то отрицание ставится перед сказуемым: wo Ьu ai chi гоu («я не люблю есть мясо»). Служебное слово является самодостаточным. Это определяется тем, что каждое отдельное слово в изолирующих языках произносится с особой интонацией — тоном (повышенным/пониженным или ровным голосом). Развитая система тонов — важная черта, которую изолирующая морфология предписывает отдельному уровню языка — ударению. К изолирующим языкам кроме китайского относятся вьетнамский, тибетский и многие языки Юго-Восточной Азии (ли, мяо-яо, карнский и др.).
|
В конце XIX в. Гуго Шухардт, изучая кавказские языки и баскский - язык коренного населения Пиренеев, отметил, что в них подлежащее сильно отличается от привычных европейских языков. Например, на одном из дагестанских языков (аварском) можно сказать: дица бече бачана («я привел теленка»), где дица - подлежащее с характерным окончанием, а бече - дополнение. Кажется, что подлежащее в аварском языке оканчивается на -ца, а дополнение имеет нулевое окончание. В другом предложении - бече б-ачьана («теленок пришел») - слово «бече», бывшее дополнением, стало подлежащим. Изучив это явление, Г. Шухардт пришел к выводу, что в этих языках падеж зависит от глагола. Этот падеж он назвал эргативным. |
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ имеют кроме перечисленных формальных сторон содержательную основу. Содержательное основание — грамматическое значение слов в предложении. Центром предложения является отношения подлежащего и сказуемого (например, я читаю). Опираясь на это соотношение, типология в языкознании различает пять типов (строев) языка: нейтральный, классный, эргативный, активный и номинативный.
Нейтральный тип отличается отсутствием специальных окончаний для подлежащего, сказуемого и других членов предложения. К этому типу относятся большинство изолирующих языков.
Классный тип представляет особое объединение слов по классам: животных, растений, людей, общих понятий и др. Классы напоминают собой категорию рода в европейских языках. Имена снабжены специальной морфемой — показателем Kjvacca. Например, в языке суахили (Юго-Восточная Африка) человек называется mu-swahili, его язык — ki-swahili, племя — wa-swahili, область его обитания — U-swahili.
Эргативный тип характеризуется тем, что при непереходном глаголе (например, идти, стоять) подлежащее стоит в том же падеже, что и прямое дополнение переходного глагола (создавать, разрушать). У непереходного глагола может быть только подлежащее, у переходного — подлежащее и прямое дополнение. В эргативных языках подлежащее при переходном глаголе стоит в особом падеже. Этот падеж получил наименование эргатива (от греч. ergates — «действующее лицо»). К эргативным языкам относятся большинство кавказских языков, баскский язык (населения Пиренейского нагорья), эскимосский и несколько мертвых языков Малой и Передней Азии (Палестины, Ливана: хаттский, хурритский, урартский).
Активный тип языка близок к эргативному. Но в нем различаются между собой не переходные и непереходные, а глаголы, обозначающие действие (идти, делать) и состояние (лежать, сидеть). Подлежащее при глаголах состояния находится в том же падеже, что и дополнение при глаголах действия. К активному типу относятся некоторые языки индейцев Южной Америки: аймар, тупи, кечуа и др.
В номинативном типе падеж имени зависит от синтаксической роли, которую оно играет в предложении. Глагол на имя не оказывает влияния: человек идет, человек читает книгу, человек лежит — подлежащее выражено одним падежом. К номинативному типу относятся почти все европейские языки.
|
Едва ли не половина важнейших открытий, в том числе изобретение бумаги и подвижной шрифт для печати, впервые появились в Китае. |
Типологические исследования, изучающие особенности отдельных языковых типов, создают основу для универсальных обобщений.
При всем безграничном несходстве языков оказывается, что они созданы как бы по единому образцу. Языковые универсалии — это свойства, присущие всем языкам или большинству из них. Что касается формального выражения универсальных категорий, то, наверное, среди них немного найдется таких, которые во всех языках будут выражаться одинаковыми средствами. Поэтому здесь можно говорить об универсальности лишь как об определенной тенденции, о стремлении большей части языков к тому или иному способу выражения. Универсалии могут быть дедуктивными и индуктивными, абсолютными и статистическими (вероятностными), простыми и импликативными.
Если типология исследует сходства и различия между языками, то
выведение универсалий показывает, какие лингвистические характеристики и
взаимозависимости универсальны, присущи всем языкам. Описание типологических
особенностей языков и выведение языковых универсалий — это две стороны одного
исследовательского процесса.
Уровни языка — подсистемы, входящие в него и принимающие участие в порождении высказывания. Они относятся друг к другу подчиненно по принципу матрешки. Язык — сложная система. Система — набор связанных между собой подсистем. Подсистемы в сложной системе вступают между собой во взаимоотношения. Отношения могут быть равноправными (горизонтальными) и неравноправными (вертикальными). Жизнестойкость системы обеспечивают уровни. Особенность системы в том, что простой механизм менее ломок и уязвим. Но к постоянно меняющимся обстоятельствам приспосабливается только сложная система. В силу ее универсальности одни части системы активируются более, другие же временно прекращают работу. Простой механизм действует только в тех условиях, для которых был создан. Поэтому эволюция живых организмов и технических устройств идет в сторону их усложнения. Система эволюционна. Такой системой является и человеческий язык.
|
Количество предметов в мире бесконечно. Мир постоянно меняется, в нем возникают все новые и новые вещи, которые нужно называть. На помощь приходят возможности, обеспеченные сложностью и многоуровневостью языка. Все гигантское разнообразие предметов передается сочетаниями 30 - 50 фонем, разнообразнейшие отношения - несколькими десятками морфем и базовыми синтагмами (частями предложений), число которых тоже не превышает нескольких десятков. Из ограниченного количества значимых единиц можно построить неограниченное количество высказываний, что позволяет языку реагировать на любое изменение в мире. Названия для новых предметов возникают при помощи старых, хорошо известных корней и словообразовательных морфем. Так, когда Н .М. Карамзин создавал слово для сравнительно новой в его время отрасли производства, он использовал хорошо известную основу промысел, промышл-я-ть (причастие промышлен-н-ый) и суффикс абстрактного существительного - ость. Так появилось слово «промышленность». |
ЯЗЫК использует только упорядоченные звуки. Отдельно взятый звук ничего не значит. Значение рождается в упорядоченности или в ритме (стихи, верлибр). Порядок расположения частей слова — промежуточная зона между звуковым (незначимым) и невещественным (смысловым) уровнями. Этот уровень называется формальной стороной языка. Его единицы образуют языковые формы — от морфемы до высказывания, состоящего из куска фразы, целого предложения или их сочетания (переходящего в текст). Это уровень грамматики.
Звукам можно присваивать разные значения. Некий абстрактный звук, не существующий в природе, различает смысл слов (ср. код — кот, пруд — прут; фонемы д и т различают лексические значения). Звук воспринимается на слух, фонема различает слова. Фонемы означают понятие о звуке. То или иное понятие в человеческом сознании подразумевает необходимый в данный момент звук. В речи это определяется контекстом (словесным окружением: Поменяйте код замка на двери или Шел кот и мяукал), а на письме — выбором необходимой буквы. Фонема составляет отдельный уровень (см. Фонетика и фонология). Уровень грамматики неоднороден. Корень и суффикс образуют один тип отношений, а слова в высказывании — совсем иной. Формальный уровень разделяется на два менее общих уровня: морфологию (науку об изменении слов) и синтаксис (науку о соединении слов в высказывание и предложение). Морфология распадается на словоизменение (или формообразование) и словообразование.
В языке выделяются следующие уровни: звуковой (фонетический), из элементов которого состоят языковые знаки; фонемный (фонематический, фонологический — см. Фонетика и фонология), единицы которого служат различению по смыслу частей слов; морфологический, включающий в себя единицы, изменяющие слова и производящие новые слова (см. Морфология); синтаксический (см. Синтаксис), на котором происходит соединение слов в высказывание; лексический (см. Лексика. Семантика), единицей которого является значение слова.
| В выражении А. Блока «Ночь.
Улица. Фонарь. Аптека» представлена цепь слов. Они же
одновременно являются и предложениями. Это подчеркивается интонацией
(расстановкой пауз) и знаками препинания. Такие номинативные
предложения описывают не действие, а только называют ситуацию.
Смысл предложения - в описании неизменного, статичного мира, о
котором идет речь в этом стихотворении. Существуют еще более емкие
языковые единицы. Говорят, как-то два римлянина поспорили, кто из них может сказать более короткое предложение. Один произнес: «Ео rus» («Я иду в деревню»). Другой ответил: «I!» («Иди!»). Последнее высказывание является одновременно фонемой, морфемой (корень i- - «идти»), словом (повелительное наклонение от глагола ео - «идти») и предложением. |
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО в языке занимает морфология. Она определяет тип и характер языка и его родственные связи. Фонология с одной стороны и синтаксис — с другой связывают грамматически оформленное слово с другими уровнями: звуковым и значимым. Фонетика и лексика связывают язык с неязыковыми областями: первая — с физиологией и акустикой (изучающей звуки в природе), вторая — с окружающим миром, который описывает язык.
Единица фонетики — звук, наименьшая часть речи. Единица фонологии — фонема, самый малый смыслоразличительный фрагмент языка. Единица морфологии — морфема, минимальная значимая часть слова. Так, морфема не существует сама по себе. Морфология рассматривает слово в его формальном членении (слово состоит из корня; в слове, как правило, есть суффиксы и часто — приставки). Единица синтаксиса — предложение. Единица лексики — слово с точки зрения значения. Ее ядром является изучение групп слов: синонимов, омонимов, антонимов, заимствований и др. В лексике можно выделить подуровень семантики — науки о значении конкретных слов. Морфемы состоят из фонем, слово — из морфем, фраза иди предложение — из слов, высказывание — из слов или предложений. Так связаны между собой уровни языка.
Мы окружены звуками: ветра, волн, грома, листьев и деревьев. Они ничего не означают. Живое существо издает осмысленные звуки: гнева, радости, боли, восхищения, страха, побуждения. Человек производит целую гамму членораздельных звуков. Мелодия мысли преобразуется в журчание слова. Звук — его материал. Письменный текст — отражение звучащей речи. Поэтическое сознание придает звукам особый смысл: подражание природным шумам, передача ощущений страха или восторга с помощью групп согласных или недостатка гласных. В любом случае звук человеческой речи многозначен и загадочен.
| Споря с М. В. Ломоносовым, В. К.
Тредиаковский утверждал, что в русском языке существуют два разных
звука г - взрывной (северные и центральные диалекты) и
г-щелевой, придыхательный (церковнославянское и южнорусское
произношение). Последний решил такой звук обозначать старой буквой
г (глаголем), а для взрывного звука ввести в алфавит новую
букву «га». М. В. Ломоносов в стихотворении «О сомнительном
произношении буквы г в российском языке» (языковеды XVIII в.
не различали звук и букву) перечислил множество слов со звуком г и
заключил: «От вас совета жду, я вам даю на волю: // Скажите, где быть га и где стоять глаголю?» Он считал, что нет двух разных слов, различавшихся именно ими (москвич произнесет [град], курянин - [hрад], но это одно и то же слово). Но в древнеиндийском звуки g и h играют именно смыслоразличительную роль: gati (ходьба, путь) и hati (убийство). |
ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ — науки о звуковой стороне языка. Фонетика (от греч. phonetiKos — «голосовой») изучает звуки с точки зрения их звучания. Она смыкается с рядом негуманитарных наук — акустикой, физиологией речи и восприятия. Фонология изучает роль и значение звуков в языке. Фонология (от греч. phone — «звук», logos — «учение») перебрасывает мостик от языкового звучания к языковому значению. Она пользуется результатами изучения более высоких и значимых уровней языка — морфологии и лексики. Фонологический уровень языка тесно связан со значимыми языковыми ярусами, а фонетический — с вне-языковой реальностью.
Фонетический и фонологический уровни тесно связаны: говорящий и воспринимающий речь всегда ориентируются и на фонетику, и на фонологию, даже если они не знают этих терминов. Это во многом объясняется с несовершенством человеческого слуха: звуки, составляющие человеческую речь, очень сложны по своей структуре, ухо человека далеко не всегда может уловить все тонкости их произношения. Правильно воспроизвести речь человек может только тогда, когда он ее понимает. А слух, например, птиц гораздо тоньше человеческого: они воспринимают все оттенки звука. Поэтому говорящие птицы без труда и без искажений воспроизводят человеческую речь.
|
Часто трудно разграничить в речи слова незнакомого языка. Так, в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (1863 - 1869) передается несоответствие произнесенных слов с понимаемыми: русский солдат, услышав французскую песенку «Vive Henri quatre, Vive, se roi vaillant» («Жил Анри Четвертый, жил доблестный король»), передал ее: «Вива-рика. Вифсерувару!»
Схема речевых и звукообразующих органов:
1 - фронтальные
и гайморовы пазухи (полости); |
с точки ЗРЕНИЯ ФОНЕТИКИ в звуке существенны две стороны: артикуляционная и акустическая.
Артикуляцией (от лат. articulus — «сочленение», «речь») называется воспроизведение звука речевыми органами. Их роль играют легкие, выдыхающие воздух; гортань с голосовыми связками, через которые воздух проходит, заставляя связки вибрировать; ротовая полость, из которой выходят воздух и звук, в ротовой полости звук может натолкнуться на препятствие в виде сдвинувшегося язычка, приподнявшегося языка и сомкнутых губ. Приподниматься могут разные части языка, поэтому и звуки могут определяться как передне-, средне- и заднеязычные.
Звуки, в произношении которых принимают участие только голосовые связки (дополнительно может — и сужение-расширение ротовой полости), называются гласными. Звуки, встречающие препятствия (сомкнутость губ, контур зубов, положение языка), называются согласными.
Акустика (от греч. akustiKos — слуховой) — наука о звуках. Звук — частое колебание какого-либо предмета, вызывающее волны в различных средах (воздухе, жидкостях). Человеческое ухо воспринимает колебания от 16 до 20 000 герц (1 герц = 1 колебание в секунду). Человеческий голос находится в диапазоне от 80 (бас-профундо) до 1400 (колоратурное сопрано) герц. Индивидуальная характеристика голоса, как средняя высота его звуков, называется тембром (от фр. timbre — «окраска звука»). Громкость звука определяется амплитудой (от лат. amplitudo — «ширина») колебания, т. е. длиной пути, который проходит колеблющийся предмет. Звуковые волны различны. Некоторые из них колеблются равномерно (за единицу времени строго определенное количество колебаний). Такие колебания воздуха называются периодическими, гармоническими. У других эта мера неустойчива. Такие колебания называются непериодическими. Звук, образованный гармоническими колебаниями, называется тоном (от греч. tones — «напряжение», «ударение»), непериодическими — шумом. Тоны образуются благодаря вибрации голосовых связок, ротовой и носовой полости, шумы — в результате действия мышц языка и губ. С точки зрения акустики звуки, состоящие из одних тонов, называются гласными, из тонов и шумов или только из шумов — согласными.
Итак, согласные состоят из шума (акустика), вызываемого прохождением выдыхаемого воздуха через препятствие (артикуляция). Гласные состоят из голоса (артикуляция) и имеют тоническую окраску (акустика).
Люди издавна заметили разницу между отдельными звуками речи. Одни звуки можно произносить протяжно, и они могут составлять слог. Это гласные звуки. Другие же образуют слог только в сочетании с гласными (согласные). Согласные, в свою очередь, делятся на глухие и звонкие. Термины «гласные», «согласные» заимствованы у греческих и латинских грамматиков (V в. до н. э. - V в. н. э.).
Основой для классификации гласных звуков служат следующие артикуляционные признаки: часть языка, приподнимающаяся при их произнесении (гласные переднего, среднего и заднего рядов: и, э; ы, а; о, у), высота подъема этой части (гласные верхнего, среднего и нижнего подъема: ы, и, у; э, о; а). Кроме того, при произнесении некоторых гласных вытягиваются губы, и у таких звуков — о, у — появляется признак лабиализованности (от лат. lаbium — «губа»). Строгие наблюдения над артикуляцией начались в конце XIX в. Рентгеновские фотографии речевых органов говорящего, введенные в рот испытуемого, пластинки, запечатлевающие движения языка и неба, микроскопические фотоаппараты с осветителями точно фиксировали движение ротовых мышц. Артикуляция органов речи становится ясной в мельчайших деталях.
|
В перечне звуков древнеиндийских грамматик содержится зачаток современной артикуляционной классификации звуков. Звуки распределяются в зависимости от зоны возникновения: от гортани к кончикам губ («трубочка»). Такая тонкая классификация была напрямую связана с музыкальной культурой индийцев - сваритой. В музыкальном гармоническом ряду индусов не семь нот, как в европейском, а несколько десятков. Индийцы «услышали» гласные и согласные раньше ученых античности.
Произнесение звуков обусловлено изменением формы речевых органов (на иллюстрации - звуки -а и -е) |
АКУСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ рассматривает звуки, находя в них сочетания волн различных частот. Она получила развитие с конца XIX в., когда были изобретены различные приборы, фиксирующие звучащую речь: фонограф (и его «потомки» следующего столетия — граммофон, патефон, электролазерный проигрыватель), кимограф (прибор, записывающий звуковые волны на бумагу), осциллограф и спектрограф, дающие изображение звуковой волны на экране. В настоящее время звучащая речь анализируется в основном на компьютере.
В начале 1950-х гг. Р. О. Якобсон и его коллеги по Массачусетскому технологическому институту США Гуннар Фант и Моррис Халле определили общие фонетические составляющие звуков речи. Их наблюдения над звуками различных языков привели к нахождению 12 признаков звука человеческой речи. Эти параметры не всегда проявляются в речи. В русской фонетике существенны следующие девять признаков:
1. Вокальные — невокальные. Вокальностью (от лат. vocalis — «голосовой») обладают гласные и сонорные звуки (р, л м, н, j). Невокальны шумные согласные (к, m, g...).
2. Консонантные — неконсонантные. Консонантны (от лат. consonans — «согласный») только согласные. Сонорные согласные совмещают признаки вокальных и консонантных звуков.
3. Высота — низость основного тона. Высоким тоном отличаются звуки, образующиеся в передней части рта: гласные переднего ряда (и, э), зубные (g, m, з, с) и переднеязычные согласные (р, ж, ч, ш/щ), а также звук [j], который образуется поднятием языка к твердому небу.
4. Диффузность — компактность. Этот термин возник из наблюдений над спектрограммами звуков. Диффузным называется такой звук, который состоит из разных частот (лат. diffusus — «рассеянный»): гласные верхнего подъема (и, ы, у), губные (б, n) и зубные (g, m) согласные. В компактном же звуке составляющие его частоты группируются вокруг определенной частоты (а, э, г, к...). Компактный звук более «чистый» и гармонически определенный.
|
|
5. Бемольность — небемольность. Термин «бемоль» (от итал. bemolle) заимствован из музыки, где означает понижение основного звучания ноты. То же значение он имеет в фонетике. Когда губы принимают участие в образовании звука, он понижается. Все звуки, так или иначе связанные с работой губ (губные согласные, лабиализованные гласные: б, п, в, ф; о, у), — бемольные.
6. Диезность — недиезность. Музыкальный термин (от греч. diesis — «полутон»), означающий повышение тона. В речи звук повышается, когда язык приподнимается к твердому нёбу. Такие звуки называются палатализованными: это все мягкие согласные (б', n', g', m'...). Непалатализованные (немягкие) звуки — недиезные.
7. Прерывность — непрерывность. Прерывные звуки — смычные («вскрывание» смычки, например губ — б, n, задней части языка с задним небом — к, г...), за исключением носовых (произносятся «в нос» — м, н).
| Особенно тщательно фонетическая классификация разработана древнеиндийскими грамматиками (по исследованиям санскрита). Их труды оказали влияние на азбуку деванагари (запись древних санскритских текстов и современных на языке хинди). В ней расположение букв в отличие от большинства алфавитов мира связано со способом образования звуков. Начинают индийскую азбуку гласные звуки: а, i, u, е, дальше - слоговые г, I (образующие слоги), далее - о, а за ними - двузвучия ai и аu с первым долгим гласным. Каждый гласный известен в двух вариантах - кратком и долгом. Исключение составляют е и о - они происходят из более древних дифтонгов ai, аu. Далее следуют смычные гласные. Их особенность в том, что выходящая из легких струя воздуха наталкивается на препятствие в виде сжавшихся (сомкнутых) мышц рта и преодолевает препятствие, «взрывая» смычку (взрывные согласные). Каждый ряд взрывных согласных завершается носовым согласным, который по месту образования близок к этому ряду. За взрывными следуют сонорные (им нет парных по глухости), свистящие и шипящие согласные. |
8. Резкость — нерезкость. Смычные и дрожащие (дрожание языка — р, л) — резкие, остальные — нет.
9. Звонкость — глухость — признак, известный всем неспециалистам.
Такая классификация позволяет ясно и непротиворечиво описывать любой звук.
Подробный перечень акустических звуков речи позволил использовать их в прикладных областях человеческой деятельности: например, при обучении глухонемых, в настройке радиолокационных систем, в устройствах цифрового распознавания и симуляции человеческого голоса, при диктовке текста компьютеру, в охранных системах. Эксперименты в фонетике были огромным шагом вперед в лингвистике. Нерешенным оставался вопрос о распознавании звуков речи слушающим. Первые фонетические эксперименты показали, что реальное произношение звуков сильно отличается от того, что при этом представляет человек. Лингвистика должна была объяснить, почему слушающие в целом правильно воспринимают звуки в речевом потоке.
Ответ на этот вопрос нашел И. А. Бодуэн де Куртенэ. Он показал, что в языке звуки ориентированы на смысл: они соответствуют психическим представлениям, существующим в голове каждого человека. Мозг человека различает звуки в зависимости от придания им в нужный момент необходимого смысла. Мозг придает звуку смысл. Он различает похожие слова, если в них есть хотя бы один по-настоящему отличный звук: дом/том, Бог/бок, сом/сам и другие. Ученый назвал ориентированные на смысл звуки фонемами.
ФОНОЛОГИЕЙ называется наука о фонемах. Она разрабатывалась учениками Бодуэна де Куртенэ — Л. В. Щербой и Е. Д. Поливановым. Особую роль в ее развитии сыграли представители школы Ф. Ф. Фортунатова и оказавшиеся после октябрьского переворота на Западе Р. О. Якобсон и Н. С. Трубецкой. Они создали Пражскую фонологическую школу. Московскую фонологическую школу основали А. А. Реформатский, П. С. Кузнецов, Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров.
Согласно Московской фонологической школе фонема выполняет следующие функции:
1. Фонема различает смысл и помогает человеку разбивать поток речи на ясные звуки;
2. Фонема указывает на границу слова или морфемы — делимитативная функция (от лат. delimitare — «ограничивать»). Например, в немецком начало слова с гласного отмечено особым призвуком — кнаклаутом (der Anfang — «начало» — произносится слегка «в нос», резко, с ударением); в чешском языке начало слова ударно; в древнегреческом языке шумные согласные (кроме s) не встречаются в конце слова.
Фонема состоит из различительных признаков: дифференциальных и интегральных. Они взяты из артикуляционной и акустической классификации звуков.
|
Изобретатель телефона американец А. Г. Белл (на фото - делает первый звонок из Нью-Йорка в Чикаго в 1892 г.) был специалистом по акустике и физике речи. Он много лет преподавал в школе для глухих. Именно эти занятия подвигли его на создание прибора, передающего человеческий голос (впервые он убедился в такой возможности, позвонив в соседнюю комнату своему помощнику с просьбой прийти к нему. Каково же было удивление ученого! Его услышали. Служащий пришел к нему). |
Дифференциальные признаки противопоставляют фонему другим (от лат. differentia — «различие»), интегральные признаки не образуют подобных противопоставлений (от лат. integer — «целостный»). Например, все согласные могут быть либо мягкими, либо твердыми. Это дифференциальный признак. Они же могут быть зубными, переднеязычными и т. д. Это интегральные признаки. Глухость дифференциальна для к (есть противопоставленная звонкая фонема г), но интегральна для х (нет противопоставленной звонкой фонемы).
Не все различительные признаки фонемы есть в речи. Их наличие зависит от позиции. Различаются сильные и слабые позиции. В сильной позиции проявляется вся индивидуальность фонемы, в слабой часть ее особых признаков утрачивается. Так, для русских звонких согласных сильная позиция — положение перед гласной (без-образие ср. с бессмысленность) или сонорной (без-различие ср. с бес-полезный); слабая позиция — перед глухой (бес-конечный) или в конце слова (мороз ср. с мороз-ы). Для гласных о и е слабая позиция — безударное положение (вода, беда). Первая из них теряет огубленность и заднерядность, звуча как гласный звук среднего ряда нижнего подъема языка (ослабленное и усеченное а). Вторая реализуется как гласный верхнего подъема (и, склонное к э — иэ).
|
Отдельный звук на спектрограмме распадается на ряд призвуков. Так, в слове «ад» звук отличается от а в слове «барин». Проводились такие эксперименты: из потока звучащей речи изымался (вырезался кусок магнитофонной ленты) один звук; испытуемому предлагалось его, прослушав, определить. С этой задачей никто не мог справиться. Распознание происходило тогда, когда звук прослушивался вместе с другими, составляющими значимое слово. Тогда становилось ясным значение и смысл его нахождения в части слова - звучание. Из ничего не значащего призвука он становился значащей фонемой. |
В слабой позиции фонема нейтрализуется. Нейтрализацией фонемы называется ее уподобление другой фонеме. Звонкие гласные в слабой позиции уподобляются глухим (в слове друг фонема г звучит как к, а в слове лоза фонема о звучит как а). Нейтрализация позволяет отличать сильную позицию от слабой. Там, где ее нет, нельзя говорить о слабой позиции (ее нет для фонемы у в любом слове, так как она не совпадает ни с какой другой фонемой: бушевать и переулок). Для того чтобы определить, какая перед нами фонема, надо поставить ее в сильную позицию. На этом основывается фонематический принцип русского правописания (например, «для того чтобы проверить безударную гласную в слове, поставьте ее под ударение» или «для того чтобы проверить сомнительный согласный в слове, поставьте его перед гласным»).
Московская школа применительно к фонемам, которые нельзя поставить в сильную позицию, ввела понятие гиперфонемы (фонема сверх известного «списка», своеобразный кентавр, объединяющий свойства двух звуков). Например, для слова «собака» невозможно найти такую словоформу, где бы первый слог находился под ударением (фамилия Собак, судя по всему, — плод фантазии писателей И. Ильфа и Е. Петрова). С точки зрения фонологии нельзя сказать, какая в первом слоге этого слова стоит фонема: о или а. Говорят: в слове «собака» присутствует гиперфонема о/а. Это словарное слово.
Звучание фонемы в сильной позиции называется ее основным тоном. Звучание фонемы в слабой позиции и преобразование ее в некий призвук называется аллофоном (от греч.'аllos — «чужой», «иной»).
Ленинградская фонологическая школа — одно из направлений в исследовании звукового уровня языка. Основоположником школы был выдающийся лингвист Л. В. Щерба. В соответствии с его определением фонема рассматривается как единица, способная дифференцировать слова и их формы. Языковую функцию фонемы Щерба также связывал с ее способностью участвовать в образовании звукового облика значимой единицы языка — морфемы, слова. Последователи Щербы (Л. Р. Зиндер, С. И. Бернштейн, М. И. Матусевич) развили его идеи о том, что система фонем того или иного языка — не просто результат логических построении исследователя, а реальная организация звуковых единиц, обеспечивающая каждому носителю языка возможность порождения и восприятия любого речевого сообщения. Понятие фонемы в Ленинградской фонологической школе отличается от того, как оно трактуется другими фонологическими и фонетическими учениями (Московской фонологической школой. Пражской лингвистической школой), прежде всего тем, что оно обеспечивает возможность и обязательность использования характеристик конкретных материальных явлений (акустических, артикуляторных) для образования значимых единиц языка. Именно этим обеспечивается принципиальный интерес последователей этой школы к материальным свойствам звуковых единиц, к исследованиям в области экспериментальной фонетики, к поиску новых методов анализа и синтеза речи, к разработке рекомендаций для различных способов передачи звучащей речи на большие расстояния. За последние годы в этих областях российская наука достигла выдающихся успехов.
|
Не фонологично написание слов заря - зорька; гореть - гарь, выгарки; расти-рослый, отрасль. В них присутствует традиция написания. По-разному пишутся слова «чеботы» и «чоботы», означающие ботинки (вспомним фамилию Чеботарев). То же с фамилией Печорин (лермонтовское написание) и Печерин, хотя регион России - Печоры. Иногда написание слов указывает на частеречную принадлежность и омоформность (одинаковы формы слов «печь» и «печь» - «выпекать»), В большинстве случаев необходимо сверяться с орфографическим словарем. Русское правописание складывалось в течение столетий: шли разные фонетические процессы, влияли разные традиции, в метрических книгах или при переписи документов делались ошибки, ставшие позже нормой. Реформы русской орфографии (первая - в 1708 г.) пытались сделать написание более предсказуемым. О влиянии большевистской конъюнктуры говорят применительно к реформе 1917 г.; про попытку реформы 1960-х гг. говорят в связи с деятельностью «неграмотного» Н. С. Хрущева (1894 - 1971). Но последние реформы готовились крупнейшими учеными: А. А. Шахматовым, М. В. Пановым и др. Они основывались на глубинных законах русского языка. |
В ПРАЖСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ такие понятия фонологии, как признак и нейтрализация фонемы, тоже относятся к базовым. Но вместо позиции пражане оперируют понятием оппозиции. Оппозицией (от лат. oppositio — «противопоставление») пражская школа называет противопоставление фонем по ряду признаков (в словах годы — гады есть оппозиция фонемы о/а). В слове «вод» такой оппозиции быть не может — здесь присутствует архифонема. Архифонемой называется нейтрализованная фонема. Понятие слабой позиции пражане не используют. Так, в пражской школе слово «вода» записывается так: вАда, где А — архифонема, возникшая благодаря отсутствию оппозиции а и о.
Значение фонологии для лингвистики и гуманитарных
наук трудно переоценить. Методы исследования единиц в соответствии с их
оппозициями приобрели большую популярность в изучении единиц более высокого
уровня, чем фонемы. Они вышли далеко за пределы лингвистики, успешно
используются в этнологии и социологии, французский антрополог К. Леви-Строс
говорил, что фонология сыграла такую же роль в развитии гуманитарных наук, как
ядерная физика — в естественных. А один из крупнейших отечественных фонологов В.
К. Журавлев писал. Для многих представителей гуманитарных наук лингвистика через
фонологию стала наукой-эталоном». Все это произошло благодаря строгому и
непротиворечивому фонологическому аппарату исследования.
Влияние на мир — основная устремленность человека.
Он, рожденный в природе, пытается осмыслить ее, преобразовать по своему плану. Мир непознаваем изначально, и тем сильнее рывок человека к нему — для слияния с ним или возвращения в него. Люди возомнили себя творцами, но их деятельность — лишь подражание природе. Магический посыл в рисунке и фигурке с веками превращается в абстрактный знак или многозначный символ. Такой знак терял свое предметное и колдовское основание. Человек изменил отношение к написанному или начертанному знаку: он захотел преодолеть свою смертность, сообщить мысли далекому собеседнику, передать ребенку свой опыт. Но знак, бывший когда-то рисунком, не изменил своего отношения к человеку. Начертательная магия осталась. Изгибы линий, сочетание прямых в букве загадочным образом продолжают воздействовать на человека, читающего книгу, работающего с компьютером, рассматривающего рекламный плакат, слоган, телевизионную заставку.
|
Изучая в 1940-х гг. в Киргизии традиции национального эпоса «Манас», русский лингвист В. М. Жирмунский встречал сказителей, способных воспроизвести на память около 700 000 строк (общий объем эпических поэм «Илиады» и «Одиссеи» VIII - VII вв. до н. э. Гомера не превышает 28 000 строк). С подобными же феноменами сталкивались английские фольклористы и литературоведы М. Парри и А. Лорд, работая со сказителями на Балканах. Некоторые высокоразвитые культуры в древности базировались именно на бесписьменных текстах. Так, древнеиндийские священные книги Веды возникли приблизительно в XII в. до н. э., а были записаны на рубеже новой эры. Несколько столетий только в бесписьменном виде существовали и древнеиндийские эпические поэмы «Махабхарата» (200 000 строк) и «Рамаяна» (50 000 строк). Их огромный объем не был препятствием для их запоминания.
Два писца пользуются разными видами письма: один наносит клинопись на глиняную табличку, другой - выводит буквы на папирусе. |
Основная форма существования языка — звук. Звуковое высказывание существует ровно то время, за которое оно произносится. Перед человечеством стоит задача продлить жизнь сообщения. В дописьменных культурах главным фиксатором и хранилищем текстов служит человеческая память. Однако бесписьменная форма хранения информации имеет ряд недостатков. Во-первых, человеческая память не слишком точна. В ней прочно фиксируются фолыслорные тексты, отличающиеся стереотипными ситуациями и частыми повторами (формулами), которые облегчают запоминание. Во-вторых, запоминание текстов такого объема требует профессиональной подготовки. В обществе, лишенном письменности, появляется особая группа людей, чьей профессией становится запоминание и воспроизведение текстов (в Индии — высшая каста, брахманы; в Киргизии — манасчи). Непосвященные члены общества получают к текстам ограниченный доступ. Такая замкнутая группа приобретает большую власть над обществом. Магистральная линия развития человечества состоит в том, чтобы явления культуры были доступны как можно большему количеству людей. В общественном быте используют язык письменных документов (административно-канцелярских, судопроизводства, торгово-финансовых). Чиновнику необходимы письменный приказ и инструкция, судье — писаный закон. Человечество довольно рано стало искать более надежный и не зависящий от произвола отдельного человека или касты инструмент воспроизведения высказывания. Таким способом стало письмо. Наука, изучающая письмо, называется графикой (от греч. grapho — «пишу», «черчу», «рисую»). Она изучает соотношение звуков (или понятий — для иероглифов) и визуальных знаков.
| Современный комикс (череда кадров) отличается от пиктограммы подрисуночными подписями. Пиктографию вытеснили более совершенные системы письма, но окончательно она не исчезла. И в наши дни, во время, например, больших международных соревнований, когда в одном пункте оказывается много людей, говорящих на разных языках, с помощью рисунков обозначаются важные объекты: стадионы, рестораны, бензоколонки, больницы, городские маршруты. |
ВИДЫ ПИСЬМА классифицируют в соответствии с единицами определенного уровня. Таких видов письма три: пиктография, идеография и фонография. Любой знак письма называется графемой.
Самый древний и примитивный способ записи — пиктография (от лат. pictus — «нарисованный» и греч. grapho). Пиктография передает сообщение с помощью рисунка. Она была распространена у американских индейцев, эскимосов, жителей тропической Африки, аборигенов Сибири и Австралии вплоть до начала XX в. Пиктографический текст называется пиктограммой. Пиктография, во-первых, ориентирована на высказывание в целом и соответствует единице языка не меньше предложения, во-вторых, она не точно соответствует высказыванию. Это еще не письмо. Сообщение, содержащееся в пиктограмме, можно прочитать на любом языке, отдельный знак может передаваться разными словами или словосочетаниями. Более сложные системы пиктографии, где знаки расчленены, представляют собой уже не целостную картинку, а набор «кадров». Это важнейший шаг вперед — пиктография становится линейной, уподобляясь речи.
Точность и адекватность сообщения побудили создать настоящее письмо, передающее речь, а не ситуацию.
|
|
|
|
С помощью развитых систем пиктографии можно записывать сложные тексты: индейцы-делавэры в Северной Америке так запечатлели свой эпос «Валам Олум». |
Клинопись древнего Шумера сочетала графические изображения и письмо (аспидный сланец, ок. 3000 г. до н. э.). |
ИДЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО использует особые знаки — иероглифы (от греч. hieros — «святой» и glyphe — «вырезанное»). Они соответствуют цельному слову или его значимой части. Идеографическое письмо развивалось из пиктографического через протописьменность. Это уже не рисунок, но еще не письмо. Протописьменность была в Междуречье и в долине реки Инд (IV тыс. до н. э.), в Китае (в сер. II тыс. до н. э.) и у племени ацтеков (современная Мексика) в X в. В протописьменности отдельные знаки соответствуют знаменательным словам, но не передаются грамматические отношения. Такая письменность передает не связный текст, а его краткое изложение, чем и отличается от настоящего письма.
При переходе от пиктографии к письму особое значение приобретает выражение абстрактных понятий: не все слова предметны. Общие понятия выражались с помощью образов. Образы создавались через сочетание рисунков предметов. Или предмет понимался иносказательно (метафорически, метонимично). Необходимость отличать фонетические написания от иероглифических привела к выработке детерминативов (определителей — от лат. determinare — «определять»); в китайской традиции они называются ключами. Детерминативы указывают, к какому классу слов (см. Тип языка. Типология) относится именно данная лексема. при чтении детерминативы не произносятся. Их можно сравнить с заглавными буквами русского языка, указывающими на принадлежность слова к именам собственным (или в немецком — указание на существительное).
|
Письменность: |
ФОНОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО выглядит менее громоздким, чем идеографическое. В звуковой письменности число букв не превышает нескольких десятков: оно должно быть не меньше 16 и не больше 80 — это связано с числом фонем в различных языках (в некоторых полинезийских языках — 16; в некоторых абхазо-адыгских — 72). Для чтения китайской газеты необходимо знать около 2000 иероглифов, а художественные тексты требуют не менее десятка тысяч. Однако направленность письма на значение, а не на звучание может иметь и немаловажные преимущества. В китайском языке велико количество диалектов, сильно отличающихся друг от друга, но пользующихся одной системой письма. И если пекинец может не понять устной речи шанхайца, то иероглифическая запись равно понятна им обоим. Обозначение чисел и количества является иероглифическим компонентом в любом письме. Отдельно число и цифры изучали с древнейших времен нумерологии (пифагорейцы, основывавшиеся на тайных знаниях жрецов Востока). Цифра понятна всем народам.
Фонографические письменности получили большое распространение из-за трудности усвоения идеографического письма. Фонография возникла из иероглифического через стадию слогового, единица которого соответствует слогу. Основой же для слогового письма явились фонетические значения иероглифов. Русский языковед А. А. Реформатский пояснял это развитие таким образом. Например, если французский язык воспользуется иероглифами, то запись русского имени Шура можно передать иероглифом «капуста» (фр. chou, читается как [шу]), а второй слог — иероглифом «крыса» (rat — [ра]). Сочетание chou и rat дает искомое имя. Подобным путем развилась слоговая письменность. Самые ее известные образцы — древневосточная клинопись, развившаяся из шумерской протописьменности, и две японские слоговые азбуки. Для них есть общее название — «кана», произошедшее из китайских иероглифов. В слоговой письменности обычно от одной до нескольких сотен знаков. Слоговые письменности упрощались, и их знаки соответствовали не слогу, а звуку. Возникло полностью фонографическое письмо. Процесс перехода к фонографическому письму занял несколько тысячелетий.
|
Многие финикийские буквы сохранили названия предметов: первая буква, А - aleph, означает «бык». Она происходит из рисунка стилизованной бычьей головы и передает гортанную смычку, с которого это слово начинается. Вторая буква, В -beth («дом»), третья, Г - gimel («верблюд»). Гласные же изображались в финикийском письме непоследовательно, с помощью близких по звучанию согласных: буква waw в основном читалась как [в], но в контексте могла значить [у, o], yod - [й], а также [и, е]. В России учили алфавит вслух: «аз» (А), «буки» (Б), «веди» (В) и др. Алфавит -сокращенная философия мира: «Я букву знаю, Глагол (слово) есть добро. Живет земля как люди мыслящие наш покой. Скажи слово твердо...» Порядок букв в алфавитах строго связывается с мирозданием. В такой последовательности учили алфавит. Смена порядка - магическое разрушение мира.
|
СЧИТАЕТСЯ, что письменность зародилась в Междуречье в IV тыс. до н. э. Это была шумерская протописьменность. В самом Междуречье письменность изменилась по неожиданной причине. Основным материалом для письма служили глиняные таблички, на которые специальными заостренными палочками (стилами) наносилось изображение. Эта форма палочек превратила прямые линии, которые составляли фигуры, в клинообразные. Появилась знаменитая клинопись — древневосточное письмо, быстро ставшее слоговым. Пережиток иероглифического написания сохранился в системе детерминативов. У шумеров письменность заимствовали древние семитские племена аккадцев, создавшие могущественные государства Ассирию и Вавилон. Письмо финикийцев проделало тот же путь, что и клинопись Междуречья. Письмо финикийцев близко угаритскому, в котором бывшие иероглифы превратились в настоящие буквы. Финикийское письмо происходит из до сих пор полностью не расшифрованного письма древнего города Библ (побережье Ливана) — отчасти иероглифического, отчасти слогового. Корни письма города Библ, возможно, лежат в шумерской протописьменности, развившейся не по пути клинописи. При образовании букв был использован акрофонический принцип (от греч. akros — «начало» и phone — «звук»): бывший иероглиф называет тот звук, с которого начинается соответствующее слово. Обозначение гласных звуков не играло важной роли. К финикийской письменности восходят десятки письменностей мира, живых и мертвых. Наибольшее распространение среди письменностей-потомков получили греческое и арамейское письмо.
|
Большинство ученых сейчас сходятся во мнении, что Константин и Мефодий создали именно глаголицу, а кириллица возникла позже. Руководитель археологической экспедиции в Новгороде В. Л. Янин (р. 1929) считает, что кириллицу в отличие от глаголицы никто специально не создавал. Она стихийно эволюционировала путем приспособления греческого письма к славянской речи.
Буквы в виде рисунков на часах Шарля Дангулема (ХУ в.). |
Греческий язык сильно отличается от семитских. Б нем гласные не менее значимы, чем согласные. Письмо с непоследовательным обозначением гласных было для него неудобным. Б греческом письме появились специальные знаки, обозначающие только гласные. Финикийское aleph превратилось в греческую альфу, iod — в йоту, hei — в эпсилон, heth — в эту (см. таблицу). Б греческом письме впервые был последовательно проведен фонологический принцип: каждой фонеме соответствует отдельный знак. Поэтому греческое письмо и его производные — латиница и кириллица — смогли быть приспособлены к сотням языков самой различной структуры. Древнейшие памятники алфавитного греческого письма появились в VII в. до н. э. Греческое письмо существовало в двух вариантах — западном и восточном. Они отличались друг от друга значением отдельных знаков. Западный вариант был широко распространен в греческих колониях (Южная Италия), восточный — в Балканской Греции. Восточное греческое письмо в IV в. до н. э. было признано каноническим для греческого языка. С некоторыми изменениями оно используется в Греции и сейчас. Западный вариант греческого алфавита у греков заимствовали их соседи — италийские аборигены. Из него происходят особые письменности осков, умбров и этрусков. Римляне получили свой алфавит (латинский) либо прямо от италийских греков, либо через посредничество этрусков. Самые древние надписи на латинском языке относятся к началу V в. до н. э. Уже в то время латинский алфавит принял современный вид. В нем отсутствовали только буквы j и w, появившиеся в XVI в. во Франции. Восточногреческое письмо имело значительно больше потомков. На его основе два выдающихся славянских филолога — Кирилл (в миру — Константин) и его брат Мефодий в IX в. создали азбуку (кириллицу) для славян. Считается, что свою работу они закончили и перевели на церковнославянский отрывки из Евангелия к 24 мая 863 г. Однако имеется еще одна древнеславянская азбука — глаголица (от церковнославянского глаголъ — «слово»). Существует мнение, что Кирилл создал сразу две азбуки. По преданию, комбинацию букв монах увидел во сне. Вопрос создания славянской азбуки — важная научная проблема славистики (см. Славянская филология).
|
|
СУДЬБА СЛАВЯНСКИХ АЗБУК оказалась различной. Глаголица употреблялась только для богословских книг (Библия, жития святых) в монастырях Моравии (Западная Чехия), Болгарии и Хорватии (сохранилась до XVIII в.). Кириллица стала письменностью не только духовной, но и светской. В самом ее старом варианте насчитывалось 44 буквы. Русский император Петр I, проведя реформу письма, упразднил («похерил» — зачеркнул буквой х — хер) восемь из них и существенно упростил начертание остальных. Так появился гражданский шрифт — предтеча всех современных типографских и рукописных кириллических шрифтов. С небольшими изменениями и дополнениями петровская азбука является тем, что называется современной кириллицей (хотя справедливее было бы назвать ее «петровицей» — термин академика Д. С. Лихачева). На базе кириллицы в начале XIX в. сербский языковед Вук Караджич создал оригинальное письмо для сербохорватского языка (вуковица). В 1930-х гг. появились многие письменности для народов бывшего СССР (дагестанские, абхазо-адыгские языки и др.).
|
|
|
|
Обложка книги, выполненная художником и фотографом А. Родченко (1925). |
Кириллический шрифт в заставке И. Билибина к русской сказке (1900). |
Арамейское письмо — важнейший потомок
финикийского. Из вариантов арамейской письменности развились современный
арабский и еврейский квадратный алфавиты. В Средние века арамейские народности
придерживались различных христианских вероисповеданий (несториане, монофизиты и
др.). Их представители несли свое вероучение на Восток, а вместе с ним и азбуку.
Из арамейского письма происходят древнеуйгурское письмо, а также письменности
всех среднеиранских народов — согдийское, пехлевийское, хорезмийское. Из
арамейского же письма, по-видимому, происходит древнейшее индийское письмо
брахми, а из него — несколько десятков алфавитов для языков Индии, Индокитая и
Индонезии. Из этих письменностей наиболее распространено девангари,
использующееся для записи текстов классического санскрита и хинди. По образцу
греческого алфавита, но с использованием начертания арамейских букв в IV в. н.
э. армянский просветитель Месроп Маштоц создал азбуку для своего родного языка (грабара).
По мнению некоторых исследователей, он принял участие и в создании грузинского
письма.
Человек обычно не изобретает новых слов. Он пользуется доставшимися ему по наследству от предков. История большинства слов теряется в далеком времени. Но большинство из них появились не из пустоты: в их корнях можно найти более древние слова, иногда принадлежащие родному языку, а иногда заимствованные у других народов. Истоки этих слов могут быть прозрачными или, наоборот, совершенно замутненными. За каждым словом стоит многовековая история и культура.
| Еще Платон произвольно выводил имя владыки подземного царства Аида из приставки а, выражающей отрицание (ср. симметрия и асимметрия) и глагола idein - «видеть». Эта этимология заслуживает внимания и в наше время. А вот предположение о связи имени бога Зевса (Zeus) с глаголом zen - «жить» с позиций нашего времени выглядит фантастически. То же относится и к исследованиям римского грамматика I в. до н. э. М. Т. Варрона: латинское слово aqua - «вода» он производил из высказывания а qua - «от которой», имея в виду то, что все сущее происходит из воды. Очевидно, что донаучная этимология основана на случайных созвучиях слов. |
ЭТИМОЛОГИЯ — раздел языкознания, изучающий происхождение слов. Задачей любого этимологического исследования является нахождение начального смысла и, по возможности, звучания слова во времена его возникновения.
Интерес к происхождению слов мог появиться у человека с момента зарождения языка. Но в древности не существовало способов этимологического анализа слов; не появились они и в Средневековье. Этимология не сложилась в то время как наука. Существовала произвольная, или народная, этимология.
Термин «этимология» появился в сочинении VI в. «Этимология» архиепископа Севильского Исидора (Испания). Это слово ученый образовал из греческих слов 'etymon — «истина» и logos — «учение». В его представлении этимология — наука о природе вещей. Его «Этимология» — одна из первых энциклопедий. Впоследствии утвердилось иное значение этого слова. Этимология стала пониматься как наука о природе слова — вначале о его изменении (в старых учебниках этимологией назывался раздел о словоизменении и словообразовании), затем — о его происхождении. Итальянский лингвист Витторе Пизани считал, что «этимология — это наука о том, что означало данное слово в момент его возникновения». До XIX в. не существовало корректных методов лингвистической реконструкции. Так, выдающийся русский поэт и филолог В. К. Тредиаковский пытался доказать, что все названия европейских народов происходят из русского языка. По его мнению, Норвегия — искаженное русское Наверхия, страна наверху карты, Италия — Удалия, удаленная страна, жители южнорусских, уральских и сибирских степей скифы — скиты, скитающиеся, амазонки — омужонки, мужеподобные женщины, а древнее италийское племя этруски — хитружки, мастера на всякие хитрости и изобретения. Тредиаковскому принадлежат блестящие работы по русскому стиху и русской орфографии. Но этимологические его построения сейчас могут вызвать только улыбку. Они построены на случайных созвучиях, а не на научных закономерностях. Изыскания Тредиаковского — образцы народной этимологии.
|
В словаре П. Я. Черных приводится объяснение слова «ерунда» через местное нижегородское слово «еранда», означавшее «хмельной шипучий напиток». Слово «бог» оказывается в близком родстве с богатством и убожеством. Сравнение с санскритским bhaga («добро», «благо») указывает на значение «часть, добрая участь». Богатый - тот, у кого много добра; убогий - тот, у кого оно отсутствует: древняя приставка у - означала отрицание. Такая приставка есть в слове у-вечье: оно в прямом родстве со словом «век». Это слово может означать «жизнь», «жизненная сила» (прожить свой век; вечный -это не «столетний», а «сохраняющий жизнеспособность»). Увечный - тот, кто лишен этой силы.
Через латинское к греческому слову, означавшему «склад», восходит слово «аптека». |
Народная этимология порой видоизменяет слово, приближая его к знакомым понятиям. Так, во время Великой Отечественной войны тем, кому необходимо было уехать из родного города, выдавали особую рейсовую продуктовую карточку. В народе ее переименовали в рельсовую (выдаваемую «когда по рельсам катишься»). В XIX в. у здания Академии художеств в Санкт-Петербурге поставили двух сфинксов. Народ переименовал их в свинок. Русское имя Силантий, происходящее из французского silence («молчание»), в сокращенном варианте звучало как Сила и было отождествлено с нарицательным словом «сила». Этим воспользовался А. Н. Островский в комедии «Свои люди — сочтемся» (1850). Главный герой пьесы — замоскворецкий купец Самсон Силыч Большов. Его отчество подчеркивает силу и мощь библейского Самсона, имя которого носит персонаж. Самсон теряет свои волосы и ослабевает — замоскворецкий Самсон теряет свое имущество. Оба Самсона нарушают свой обет и за это терпят наказание — попадают в плен к врагам или в долговую тюрьму.
НАУЧНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ основана на понимании того, что звуки должны находиться друг с другом в регулярных соответствиях. Основа же соответствия — не сходство, а закономерность различий. Этимология как строгая наука появилась только в XIX в. вместе с развитием сравнительно-исторического метода (см. Сравнительно-исторический метод в языкознании).
|
Слово «время» произведено от глагола
вертеть, вращать. Время представлялось предкам кругом,
олицетворяющим вечно повторяющиеся события: день - ночь, смена
сезонов, рождение - умирание. Возможно иное понимание времени - как
линии, приводящей к цели. И слово «пора» одного корня с
глаголом переть («двигаться вперед»).
Слово «оркестр» в древности означало «место для танцев» (в латинском и греческом языках). |
В ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ должны соблюдаться требования: фонетического закона; морфологического закона; семантического закона (соответствия значений).
Действие фонетического закона ограничено во времени. Например, во всех славянских языках в доисторическую эпоху (в начале новой эры) существовал фонетический закон: согласные к, г, х перед гласными е, и произносились сначала как мягкие, а затем и вовсе преобразовывались: к превращалось в ч, г — в ж, х — в ш (ср. крепк-ий — крепч-е, долг — долж-ен, глух-ой — глуш-е). Этот закон называется первой палатализацией (от лат. palatum — «небо»; к нему поднимается средняя часть языка — согласный смягчается). Через несколько веков первая палатализация прекратилась, вступил в действие новый закон: к перед теми же гласными превратилось в ц (лик — лицо; венок — венец); г — з (нога — нозе, форма дательного по-старославянски), х — с (гръхъ — гръс, гръси). Это вторая палатализация (VIII в.). Согласные, стоящие перед старыми гласными, успели видоизмениться в соответствии с первой палатализацией. Вторая палатализация затронула согласные, стоящие перед новыми гласными, возникшими из сочетаний oi (превратилась в ъ), еi (превратилась в и). Так появились чередования типа церковнославянского: влъкъ — предложный падеж влъцъ, именительный падеж множественного числа влъци; врагъ — вразъ, врази. Для русского слова «цена» (церковнославянское цъна) без труда устанавливается родство с литовским kaina — «цена».
В языке сосуществуют результаты действия фонетических законов разного времени. Один из них действовал раньше появления новых гласных, другой — одновременно с ним. Так фонетические законы можно расположить во времени относительно друг друга. Слова же, в которых гласные появились после действия обоих законов, остались неизменными: кипеть (из более древнего кыпъти), кедр (заимствование примерно IX в.), кино (заимствовано в XX в.; по правилам первой палатализации произносилось бы чино, а по второй — цино).
Другое ограничение фонетического закона — аналогия, или видоизменение единицы языка под влиянием другой. Это очевидно при сравнении современных русских слов с церковнославянскими: уже не говорят о волце, о вразе, о гресе, но только о волке, враге, грехе. Формы предложного падежа видоизменились под влиянием остальных (волк, волка, волку, волке; грех, греха, греху, грехе). В одном родственном языке аналогия может не действовать, а в другом — выравнивать слова по определенному образцу: русское могу — можешь (в соответствии с первой палатализацией), но украинское можу — можешь. Отсюда ошибки произношения: «У меня текет ручка» (по аналогии теку, текут, но следует говорить «течет»), детское «я искаю», «я плакаю» (от искать, плакать, но следует ищу, плачу). Закон уже не действует, но аналогия побуждает создавать неверные с точки зрения современности слова. Уподобление слов играет большую роль в этимологии. Примером может быть случай, произошедший с известным артистом начала XX в. В. П. Далматовым. В спектакле он должен был попросить перо и чернила, но оговорился: «Перо и черо!», затем попытался поправиться: «Перила и чернила!»
|
В России существует несколько специальных словарей, исследующих этимологию русских слов. Первым был свод Н. В. Горяева (опубликован на рубеже XIX - XX вв.). Затем появился словарь (1908 - 1917) А. Г. Преображенского. Следующий словарь был опубликован в ФРГ (1954 - 1958) М. Р. Фасмером, родившимся в Санкт-Петербурге и учившимся у знаменитого лингвиста И. А. Бодуэна де Куртенэ. Новейшим является словарь П. Я. Черных (1993).
Скорее всего, слово «каравай» связано со словом «корова», которое в русских диалектах имеет значение «невеста». Этот дар должен был быть волшебным средством, вызывающим плодовитость, подобно тому как бык символизировал жениха. Подобное объяснение относится и к слову «козуля» (пряник в форме рога, коровы или оленя). |
Заимствование из другого языка или диалекта тоже может рассматриваться фонетическим законом как нарушение. Тем не менее новое слово будет употребляться. Русское цвет соответствует украинскому квiт и белорусскому квят во всем, кроме первой фонемы. Это слово заимствовано из церковнославянского, а котором сугцествовал закон, неизвестный другим славянским: сочетание кв перед е переходило в цв. Таким образом, это слово не нарушает цельности славянских фонетических законов. Исконно русское слово должно было звучать как «квет» (редкая фамилия — Кветной).
Этимологии слов подчиняются и морфологическим законам. Они не так четко формулируются, как фонетические, и значительно менее устойчивы. В языке обычно имеется несколько десятков фонем. Число служебных морфем исчисляется уже одной-двумя сотнями, а счет словам идет на тысячи.
Законы, управляющие значением слова, труднее формулировать, чем фонетические или морфологические, по той же причине. Это семантические законы. Их требование состоит в том, что изменение значения одного слова должно повториться и в словах сходного значения. Так, в русском языке слово «журавль» означает и длинношеюю птицу, и разновидность колодца. В основе таких названий лежит метафора — уподобление механизма птице по некоторому сходству силуэтов. Но то, что эта метафора имеется в разных языках, доказывает, что она — закономерное явление. Это указывает на возможность подобных семантических изменений в других языках.
Что вкладывает в сказанное ваш собеседник? Иногда оказывается нечто иное, чем то, что вы могли предполагать. Возникают курьезы. Подчас бывает не до смеха. Люди даже ссорятся. Иными словами, чтобы правильно понять собеседника, необходимо знать тот набор индивидуальных смыслов (значений), который привык вкладывать в слова ваш знакомый. Во избежание недоразумений. Ведь это и есть его неповторимый стиль общения (словечки, присказки, выражения) . Порой можно говорить и об уникальной манере письма писателей, речи политиков, стиле лекций преподавателей и др. Смещение значения слов происходит и в жаргонах, профессиональной и иной лексике.
|
Индивидуальный выбор слов служит неиссякаемым источником художественного творчества. Художественное сознание многослойно и неоднозначно. Тропы и стилистические фигуры, окружающие образ в произведении неповторимой хрупкой аурой, основываются на постоянном и нормальном для художника расслоении и смещении денотатов, смыслов и значений. Задача художника - сделать образ доступным читателю. У поэта Э. Багрицкого в строках «Он долину озирает Командирским взглядом; Жеребец под ним сверкает Белым рафинадом» необычность сравнения белого коня с сахаром-рафинадом - собственное представление поэта, воплощенное в этой метафоре, помогающее ему передать читателю свою картину мира: солнечную долину и командира на белом коне. Кинжал и игральные карты М. Ю. Лермонтова, шинель и шкатулка Н. В. Гоголя, футляр и сад А. П. Чехова, трость, очки и лужи В. В. Набокова приобретают в их произведениях совершенно иной, нетривиальный, непривычный обывателю смысл. |
СЕМАНТИКА (от греч. sema — «знак») — наука о языковых значениях. Семантика исследует причины и пути наполнения слов и морфем значением. Для нее важно исследование соотношений слов между собой, состав значений в многозначном слове, причины и способы превращения многозначных слов в омонимы и соотношение основного значения слова с контекстуальным. Знак произволен: значение слова изначально не связано с его звучанием. Один и тот же предмет в разных языках называется по-разному. В лошади нет ничего, что бы позволяло утверждать, что русское ее название больше ей подходит, а французское cheval — меньше. Этимологическое исследование приводит к восстановлению слова или корня со значением, которое уже ничем не мотивировано (дом, конь и др.). Это и есть произвольность знака.
Другие (производные) слова мотивированы в своей истории: коричневый цвет назван так по сходству с корицей, петух — поющая птица и т. д. Всеми этими многочисленными мотивациями слова занимается семантика.
Языковой знак трехсторонен. Первая сторона — материальная часть («тело» знака). Вторая сторона — означаемое. Это предмет, называемый также денотатом (от лат. denotatus — «отмеченный»), или референтом (от лат. referens — «относящий»). Третья сторона — мыслительный образ, которому соответствует предмет. Такой образ называется одними лингвистами десигнатом (от лат. designatus — «обозначенный»), другими — сигнификатом (от лат. significatus — то же), третьими — концептом (от лат. conceptus — «принятый», «понятый»). Так, слово «петух» состоит из: «тела» знака (комплекса звуков) — [п'итух]; денотата (предмет, обозначенный «телом» знака, — нечто летающее, относящееся к домашнему хозяйству и кричащее по утрам) и смысла («птица семейства куриных, относящаяся к роду Alectrium»). Каждый говорящий может вложить в это слово свое представление, или семы: «домашняя птица», «будильник», «продукт для сациви». Понимание петуха в значениях «задира» или «униженный человек» образует новые слова — в переносном смысле. Можно говорить об омонимии. Такое понимание этого слова — уже не семы, так как эти смыслы вышли за пределы денотата — птицы. Любой толковый словарь указывает в пределах одной словарной статьи все возможные для того или иного слова семы.
Таким образом, значение слова образуют две важные составляющие: денотат и смысл. Немецкий философ Г. Фреге, разграничивший их, определял первое как предмет, обозначенный словом, а последнее как мыслительную операцию, когда конкретное слово связано с конкретным предметом, а представление как индивидуальное понимание вещи.
|
Особенность значения слова состоит в том, что одному денотату может соответствовать множество смыслов, разнящихся между собой, а порой и противоположных друг другу. Например, планету Венера называют Утренней или Вечерней звездой. Существуют слова и высказывания, имеющие смысл, но лишенные денотата, - имена разного рода мифических персонажей и высказывания о несуществующих лицах. В конкретном высказывании слово может утратить свой денотат. Если слушающий знает об этом, то он ощущает иронию говорившего. Читающий художественную книгу всегда знает, что все в ней описанное - сплошное отсутствие денотата, заведомая неправда.
|
Индивидуальное восприятие мира выражается в придании слову иных значений — коннотатов (от лат. connoto — «имею дополнительное значение»). Коннотат представляет собой эмоциональную или оценочную стилистическую окраску, часто случайного (пинчер — «человек маленького роста»), разговорного (губошлеп, валандаться) характера или вошедшее в арсенал изящной словесности как троп (кровавая заря, солнышко, воздвигать).
Денотат, смысл и представление — три компонента, составляющие значение слова. В речи они сложны, прихотливы и непредсказуемы. Для называния предмета или ситуации используется только один признак, а их существует бесконечное количество.
Закономерности, управляющие семантикой,
определяются в двух направлениях: диахронной (в историческом плане) и синхронной
(единовременной). Историческая семантика исследуется этимологией: слово
анализируется историей его изменения. Синхронная семантика пользуется двумя
способами: компонентным анализом и изучением соотношений слов (модель «смысл —
текст»).
Если слово само по себе — неповторимое создание, то совокупность их — мощный хор, звучащий в сознании человека. У каждого говорящего свой словесный мир. Но он не является полностью независимым. Коллектив людей способствует постоянному притоку или забвению слов. Сама история и культура людей воплощаются в неограниченном и открытом новым влияниям словаре человека. Слова, как и люди, сходятся, расходятся, образуют противоборствующие группировки или объединяются в «союзы», одни вытесняют других. В словах воплощаются характеры и типы людей. Есть слова навязчивые и бесцеремонные, гордые и скромные; внешне благозвучные, но лукавые; резкие и откровенные; мягкие и деликатные.
|
В русский язык были заимствованы слова «грамота»,
«тетрадь», «лента», «палата». |
ЛЕКСИКОЙ называется совокупность слов в языке (от греч. lexikos — «относящийся к слову»), его словарный состав (лексикон, от греч. lexikon — «словарь»). Лексику изучают две тесно связанные лингвистические науки: лексикология — наука о самом словарном составе (ее задачей является его описание, выявление структуры и основных характеристик) и лексикография — наука о составлении словарей. Лексикография имеет две стороны — теоретическую и практическую. Теория лексикографии устанавливает типы словарей и правила словарного описания слова; на практике словари создаются.
Словарный состав любого языка насчитывает сотни тысяч слов (без учета специальных терминов). Такое огромное количество единиц может быть устойчивым, только если они объединены в сложную многоуровневую систему. Цель лексикологии — выявить эту систему.
Слово в словаре можно описывать различными способами. Строго организованный по тематическим разделам словарь языка, в отличие от набора слов по алфавитному принципу (лексикона), называется тезаурусом (от греч. thesauros — «сокровищница»). Способ описания слова в словаре зависит от избрания нужного взгляда: по происхождению слов (этимологический и исторические словари), по взаимоотношениям друг с другом (грамматический, сочетаемости слов, словари синонимов, омонимов), по функционированию (словари толковый, фразеологический, идиоматический, жаргонов и арго), по стилистическим характеристикам (просторечия, диалектологический, бранных слов словари). Лексикология изучает словарный состав разных слоев общества или отдельных авторов (например, А. С. Пушкина). Лексикон языка многомерен и выполняет разные роли.
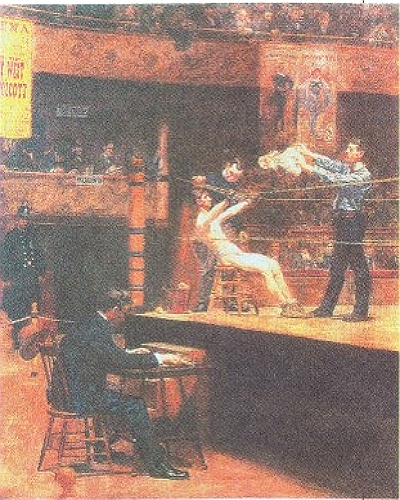 |
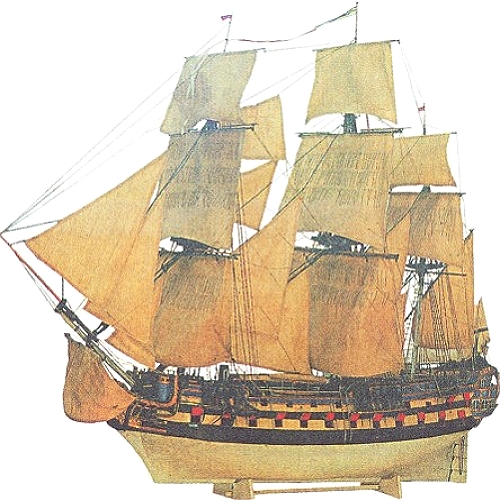 |
| «Бокс», «нокдаун», «нокаут», «раунд», «хук», «рефери» описывают суть и ход одного из спортивных поединков. | Слова «гавань»,
«каюта», «мачта», «матрос», «рында», «шлюпка», «штурман» позволили
русским кораблестроителям, военным и мореплавателям точнее упоминать в речи понятия, описанные голландским языком. |
По происхождению лексика разделяется на исконную и заимствованную. Словарный запас языка набирается из разных источников. Часть его языком унаследована от предшествующих языковых состояний или языков-предков. Русский язык относится к славянской группе индоевропейской семьи, и значительная часть его лексики происходит из праславянского и общеиндоевропейского фонда. Например, такие слова, как мать, сын, дочь, брат, сестра, — общеиндоевропейские; изба, храбрость, дело — общеславянские; сударь, барин сформировались в самом русском языке. Они — часть исконного состава языка. Языки не существуют изолированно, они вступают в контакты с другими, заимствуя что-то у своих соседей. Чаще заимствуется лексика. Наиболее распространено заимствование слова вместе с предметом, но нередко заимствуется и одно слово.
В этом случае оно становится синонимом исконному и подвергается тем же изменениям, что и слова-аборигены.
Особую группу заимствований составляют интернационализмы — слова, имеющие общее происхождение в большинстве языков единой, как правило культурной, общности. В такой культурной общности целые сферы человеческой деятельности оказываются связаны с одним-двумя языками. В Европе наука, образование, юриспруденция развивались на греко-римском фундаменте: около 1000 лет латынь была практически единственным языком университета и судопроизводства. Римляне во многом использовали знание, а вместе с ним терминологию культуры греческих полисов. Поэтому большую часть научной, образовательной и юридической терминологии составляют либо латинские термины (профессор, доцент, аудитория, эксперимент; юстиция, прокурор, адвокат), либо греческие в латинской передаче (химия, физика, биология, статика, динамика, хрусталь). Слова «алгебра», «алгоритм», «магазин» и отражают влияние средневековой арабской культуры.
| Иногда только специальное этимологическое исследование может прояснить происхождение слова и найти его чужеземные корни. Трудно, например, определить происхождение слова «виноград». Его первое значение - именно «виноградник», состоящее из двух корней - вино- (заимствовано из латинского vinum) и -град, присутствующее также в город, ограда, городить. Но в готском языке есть слово, совпадающее с русским почти по каждому звуку, - waingards. Готское wain тоже заимствовано из латинского vinum, а gards - «сад», «ограда» - является исконно германским словом. Русско-церковнославянское виноград заимствовано из готского потому, что славянское град/город никогда не означало «сад». Это характерное германское значение (ср. немецкое Garten и английское garden). |
Путь заимствований может быть многостзшенчатым. Например, арабское gahwa (слово, происходяш,ее от названия одного из аравийских племен) заимствовалось во французский в форме cafe, в немецкий — Kaffe. Русское «кофе» было, по-видимому, заимствовано из немецкого, а «кафе» — из французского. Слова «университет», «факультет» происходят не непосредственно из латинских universitas (разнообразие), facultas (возможность), а из немецких Universitdt, Fakultdt (по произношению последнего гласного).
К заимствованиям близки кальки (от франц. calgue — «копия») — дословные переводы, передающие не слово в целом, а его составные части. Так, французское impression было переведено русским «впечатление» (im- как приставка в-, корень -press - печат(л), суффикс -ion — ени-; окончание среднего рода -е).
По взаимоотношениям слов лексика подразделяется на многозначные слова, синонимы, антонимы, омонимы.
Большинство слов многозначны. Например, главное значение слова «зверь» — «представитель класса млекопитающих, за исключением человека». Но зверем называют и жестокого палача или разбойника, находящего удовольствие в расправах над жертвой, и чересчур сурового экзаменатора. Другое подразумевают в выражении «Он на работе — зверь». Имеется в виду: человек обладает завидной энергией и опытом. Основное значение слова — только первое, а все остальные — переносные, опирающиеся на метафору (см. Язык художественной литературы). В первом случае уподобление основано на представлении о звериной жестокости, во втором — на силе и ловкости зверя. Эти значения и составляют многозначность слова (полисемию). Многозначность слова оказывает влияние на его сочетаемость (ср. смотреть в сочетании с предлогом на означает «глядеть», «созерцать», а с предлогом за — «заботиться»). Многозначность в конкретном тексте или речи исчезает или подчеркивается («игра слов») благодаря контексту.
С МНОГОЗНАЧНОСТЬЮ связана омонимия (от греч. homos — «одинаковый» и onuma — «имя») — обозначение одним по форме словом двух различных сущностей. Это явление распространено довольно широко. Слова относятся к одной части речи (например, существительные — лук (растение) и лук (орудие стрельбы), брак (женитьба) и брак — изъян в изделии).
В словоизменении они образуют набор омонимичных форм. Однако в словообразовании они различны. Например, слово «грибок» (маленький гриб) произведено от гриб; оно одного корня с грибной, грибница. Грибок же (род заболевания) — первичное слово, от которого происходит прилагательное грибковый. Словообразовательный ряд весьма знаменателен для различения омонимов.
Есть несколько видов омонимов: дивергентные и конвергентные. Дивергентные (от лат. divergerе — «разделять») омонимы — слова, разошедшиеся в своем значении настолько далеко, что их нельзя рассматривать как значения одного слова (например, мир «вселенная» и мир «покой, состояние, противоположное войне»). Эти слова в дореволюционной орфографии писались по-разному: первое — миръ, второе — мiръ (поэтому роман Л. Н. Толстого и поэма В. В. Маяковского называются совершенно по-разному: первый — «Война и миръ», и в нем речь идет о жизни людей на войне и в мире, вторая — «Война и мiръ», в ней говорится об отражении войны в жизни людей). Дивергентные омонимы происходят из общего источника (ср. литовское mieras «хороший», «приятный» и русское мир). Конвергентные (от лат. converge — «схожусь») омонимы — слова разного происхождения, случайно совпавшие в звучании. Иногда конвергентными становятся производные от исконных слов: грудка («маленькая грудь» и «маленькая груда, кучка»).
|
Кажущиеся исконными слова «царь» и «король» оказываются видоизмененными заимствованиями. Первое существительное образовано от собственного имени римского императора Гая Юлия Цезаря: по-латински имя писалось как Caesar (Цезар). В древнерусский язык было заимствовано в форме цьсарь (слово к тому времени стало нарицательным - «владыка»). Затем слово упростилось до царь. То же произошло и с королем: имя франкского правителя Карла Великого перешло в ставшее нарицательным русское слово «король».
Карл Великий |
БЛИЗКИ ОМОНИМАМ омоформы, омографы и омофоны. Омоформами называются формы слов с одинаковым звучанием, но несходным значением. Например, стекла — прошедшее время единственного числа женского рода от глагола стечь (слеза стекла по щеке) и родительный падеж единственного числа от существительного стекло (резка стекла). Омоформы легко различаются в контексте.
Омографы — слова, одинаково пишущиеся, но по-разному произносящиеся. Классический пример — замок («род жилища», «большой, хорошо укрепленный дом») — замок («приспособление для закрывания дверей»). Омофоны, наоборот, — слова, пишущиеся по-разному, но произносящиеся одинаково: гриб (тип растений) — грипп («вирусное заболевание»), То же относится и к правописанию наречий вперемежку и вперемешку. Первое наречие означает «действие с перемежением» (последовательным чередованием), второе — «действие с перемешиванием» («в кучу»). Эти формы имеют общий источник: изменчивость и сложность системы языка, которая приводит к тому, что отдельные языковые элементы могут совпасть в своем звучании.
|
Два яблока могут сильно отличаться друг от друга (крошечное райское яблочко и огромный апорт). Понятие об одном предмете зависит от того, что именно объединяется под одним словом (крутой обрыв и крутой кипяток - омонимы). А вот крутой кипяток и крутой нрав - это прямое и переносное значения одного слова). Слова могут быть омонимами, если образуют разные словообразовательные ряды: крутой обрыв - крутизна, крутой кипяток - крутость, крутой нрав - крутость. Словообразование - главный критерий различения омонимов.
|
ПРОТИВОПОЛОЖНЫ ОМОНИМАМ СИНОНИМЫ, Синонимы (от греч, syn — «с», «совместно» и оnуmа) — слова с различным звучанием, но близким или даже тождественным значением. Синонимы можно подразделить на следующие группы.
1. Синонимы, отличающиеся друг от друга тем, что выражают разную степень признака, например: большой — огромный — гигантский; победа — разгром — уничтожение. Они называются градационными (от лат. gradus — «ступень», «степень»).
2. Синонимы, относящиеся к различным стилям речи: лицо (литературный стиль) — лик (возвышенно-поэтический стиль), физиономия (разговорный стиль), морда, рожа (просторечие), харя, ряшка (грубо-просторечный стиль). Один синоним может входить в общий язык, а другой — в специальную систему терминов: предел — лимит (первое слово — исконно русское, второе — латинское заимствование), чесотка — фавус. Такие синонимы часто различаются оттенками значений: собрание — это любое сборище людей, а симпозиум — научное совещание.
3. Среди синонимов, относящихся к разным пластам времени, один из них является архаизмом (устаревшим словом), другой — словом общего языка. Например, лохмотья — общеязыковое слово, а рубище — архаизм.
Возможно также сосуществование неологизмов (новых слов) и общеязыковых слов.
Например, слова «аэроплан» и «геликоптер» в 30-е гг, XX в, были общеупотребительными, а «самолет» и «вертолет» — неологизмами. Сейчас же именно они входят в общий язык, а «аэроплан» и «геликоптер» превратились в архаизмы.
4. Есть синонимы, различающие оценку чего-либо говорящим. Например, слуга — слово, имеющее нейтральную оценку, а прислужник, лакей — отрицательную; разведчик — положительная оценка, шпион — отрицательная. Поэтому разведчиком сотрудник спецслужб будет назван в своей стране, шпионом — по месту службы.
5. Существуют также синонимы, не отличимые друг от друга ни стилистически, ни исторически. Они иногда называются полными: базар — рынок, труд — работа. Но в языке не бывает абсолютных синонимов. В языке нет абсолютно равнозначных слов. Значение слов, входящих в подобные пары, может сближаться в одних контекстах и резко расходиться в других. Например, выражения пойти на рынок и пойти на базар практически не различаются, тогда как рыночные отношения — это совсем не то же, что базарные. Рынок может пониматься в расширительном смысле: не только «место, где торгуют», но и «отношения купли-продажи». Базар — это «шум, гомон, скандал». В слове «рынок» акцент сделан на торговле, а «базар» — на отношениях продавца и покупателя. Так же не вполне тождественны «гостиница» и «отель». Второе слово называет гостиницы по преимуществу за рубежом, а в России применимо только к высококлассным гостиницам.
|
Слово «дом» отличается многозначностью и связано с разными синонимическими рядами. Дом к словам здание, многоэтажка, изба, дача, сакля, юрта относится как общее (гиперонимы) к частному (гипонимы). Другим рядом синонимов являются слова гнездо, логово и нора; Отчизна и Родина: род, фамилия и пенаты; alma mater; дом моды, торговый дом, издательский дом. |
АНТОНИМЫ — слова с противоположным значением: идти, бежать — стоять, тепло — холод, белый — черный. Антонимы подразделяются по своему значению по категориям:
1) контрарные (от лат. contrarius — «противоположный») обозначают такую противоположность, в которой может быть найдена некая средняя точка: молодой — старый (промежуточная точка — средних лет), холодный — горячий (теплый, прохладный);
2) контрадикторные (противоречащие друг другу) антонимы, из которых один обозначает признак, а другой — его отрицание. Промежуточной точки между ними нет. Обычно такие антонимы образуются с помощью отрицательной частицы: большой — небольшой, маленький — немалый. Иногда антонимами являются одинаково звучащие слова: одолжить («занять деньги» и «дать деньги»). Такое явление называется энантиосемией (греч. enantios — «противоположный» sema — «знак»): одно слово используется в противоположных значениях (наверное — «может быть» и «несомненно», «наверняка»).
Человеческая речь сложна и многообразна. Она зависит от культуры, воспитания и образования человека. Есть слова и выражения, которые человек сознательно употребляет, чтобы не выделяться из того круга, куда он попал. Важно то, что они, подобно маске, могут остаться с ним навсегда, и начнут характеризовать своего хозяина с совершенно иной стороны. Иными словами, он начинает играть во многом искусственную роль, которую ему навязала действительность. Если человек говорит резко и грубо, значит, таковы его характер и мышление. Интеллигентная же речь обычно свидетельствует о душевной чуткости человека.
|
Весьма показателен жаргон программистов (отстучать на клаве - напечатать на клавиатуре; пентюх - тип процессора Pentium; писюк - персональный компьютер; зависнуть - сбой программы; Аська - сокращенно от: автоматизированная система приема электронных сообщений - ICQ; собака - символ электронной почты @; мыло, Емеля - электронная почта - e-mail; паутина -Интернет), студентов (сачок - вестибюль в институте; тошниловка - столовая; зарубон - зарубежная литература; хвост - несданный экзамен; Долгопа - по аналогии с Голгофой - Физико-технический институт в г. Долгопрудном; Плешка - Экономическая академия им. Г. В. Плеханова); школьников (шпора - шпаргалка, бомба - то же, только больше).
|
ПРОСТОРЕЧИЕ — ненормированная речь малообразованной части общества. Социальные диалекты — разновидности языка, свойственные отдельным общественным группам, которые объединяются по профессиональной, сословной или какой-нибудь еще принадлежности. Жаргон — разновидность социальных диалектов, носители которого противопоставляют себя остальному обществу. Арго — жаргон деклассированной части общества (воров, наркоманов, проституток и др.), обслуживающий их специфический быт и деятельность.
РАЗЛИЧИЯ В ЯЗЫКЕ отдельных слоев общества затрагивают все уровни языка — от фонетики до синтаксиса и лексики. Иногда различия эти оказываются такими большими, что можно говорить об особых диалектах — социальных. Просторечие, по существу, — социальный диалект низов общества. Их не следует смешивать с территориальными диалектами (например. Архангельской, Курской, Воронежской областей, Алтая). Социальные диалекты отличаются друг от друга фонетикой, лексикой и синтаксисом. Литературный язык складывается благодаря установлению норм, регулирующих произношение и значение слов. Морфология более устойчива и едина для лексики всех слоев общества. Социальные же диалекты, особенно свойственные маргиналам, обычно включают речь людей, в силу судьбы весьма далеких во всех отношениях от носителей нормы. Кроме того, для обозначения предметов и действий, не употребляющихся в других общественных сферах, необходимы особые слова (вырубить свет — у электриков; задраить люк — у моряков; выгнать норму — у рабочих).
|
В фонетике просторечного типа, ориентирующегося на «высокую речь», есть любопытная черта. Люди старшего поколения помнят, как Н. С. Хрущев (1894 - 1971), занимавший в 1953 - 1964 гг. пост первого секретаря ЦК КПСС и не отличавшийся культурой речи, произносил слова с суффиксом -изм с неоправданно смягченным з: [сациал’из’м, камун’из’м]. Та же ошибка в произношении была у Д. Т. Язова, в 1987 - 1991 гг. министра обороны СССР и члена известного ГКЧП. Происхождение этой просторечной черты объяснил известный фонетист М. В. Панов. В начале века в московском интеллигентском произношении появилась черта, которая затем пропала: гласные переднего ряда и, э (см. Фонетика) смягчали не только стоящий перед ними согласный, но и предшествующий им. Таким образом, имена на -изм склонялись так: им. пад. [къмун’изм] - предл. пад. [къмун’из’м’э]. А поскольку эта особенность появилась в речи тех, кто чаще всего и употреблял такие слова, то люди с невысокой культурой речи решили, что это и есть норма, и распространили ее на все склонения. Именно так складывалось произношение у выходца из шахтерской среды Хрущева, сына сибирского крестьянина Язова. |
Особенно своеобразен в русском просторечии словарный состав. Это связано с тем, что, говоря на сниженном языке, человек часто выражает такие эмоции и чувства, которые не принято открыто высказывать в обществе. Поэтому среди просторечной лексики много слов, выражающих пренебрежительную или просто злобную оценку называемого: морда, харя, грабли (руки), брехня, рыпаться. Такие слова имеют в словарях помету «просторечное»: пользующиеся этим стилем обычно не склонны к церемонии (пацан, писака, матюгальник (рупор). Многие слова выражают неодобрение: мурыжить, стибрить (украсть). Главная особенность большинства просторечных слов — их экспрессия. «Упрощенно» говорящие люди не стесняются. Просторечие, подделывающееся под язык более высоких слоев общества, развивается по тем же законам — незакономерного искажения фонетики и морфологии слова. Его экспрессивность проявляется в том, что «высокие слова», по мнению их произносящего, повышают его статус («Это же утопия, если всех жильцов выселять» — М. М. Зощенко; непонятное герою слово «утопия» кажется чрезвычайно культурным и соответствующим слову утопить).
Носитель просторечия пытается подражать тем слоям общества, которые кажутся наиболее престижными и культурными. Таков в его глазах язык канцелярии, так как это управленческое учреждение, язык науки, а наука в его глазах — заоблачная сфера, наконец, язык чувствительных романсов. В очерке известной судебной журналистки О. Чайковской фигурировала некая преступница, которая объяснялась с журналистом: «Заостряю Ваше внимание на моем разбитом сердце». Здесь просторечность проявляется в некорректном смешении канцелярского заостряю Ваше внимание и романсового разбитого сердца. Но просторечное искажение высокого стиля бывает гораздо резче. В «Плодах просвещения» (1891) Л. Н. Толстого действует мужик, привыкший беседовать с «господами» и поэтому насыщающий свою речь выражениями типа хворменно, двиствительно, предлагать. Нередко в просторечии искажается смысл высоких понятий (скоммуниздить — украсть).
Просторечие все же не развилось в русском языке в настоящий социальный диалект. Оно само пополняется из различных диалектных источников. Этим русское просторечие отличается от, например, английского, где язык городских низов в Лондоне выделился в оригинальный диалект (по преимуществу жителей района Ист-Энд — кокни (cockney). А в Америке потомки ввезенных из Африки рабов унаследовали от своих предков сильно искаженный вариант английского. Поскольку они в течение десятилетий жили замкнуто, то отступления от нормы английского сложилось в целый ряд систем, составивших так называемый Black English («черный — негритянский — английский»). В предисловии к повести «Приключения Гекльберри Финна» (1885) ее автор, М. Твен, отмечает, что она была написана с использованием семи вариантов негритянских диалектов.
| Есть три группы условных языков:
условно-иносказательный язык, тарабарщина, язык офеней. На условном
языке говорит Пугачев с хозяином постоялого двора в «Капитанской
дочке» (1836) А. С. Пушкина, разбойники в «Князе Серебряном» (1862)
А. К. Толстого: «Кто идет?» - «Бабушкино веретено!» В тарабарских
языках обычные слова коверкаются. Таков жаргон бурсаков у Н. Г.
Помяловского («Очерки бурсы»): Хер-я хер-ни хер-че хер-го хер-не
хер-зна хер-ю - «Я ничего не знаю». Некоторые слова из
тарабарского языка вошли в общерусский: шуровать - «шу-во-ровать»,
шустрый - «шу-вострый», шпынять - «ши-пинать». Язык офеней, бродячих торговцев, заимствован у греческих купцов, приезжавших на Русь со времен князя Владимира. Слово «офеня», по-видимому, происходит от названия г. Афины. Он включил помимо греческих тюркские и цыганские элементы, повлиял на воровское арго. Одно из названий жаргона уголовников - феня (по фене ботаешь?) происходит от офеня (в общенародном языке от него образовалось ахинея). Арготизмы греческого происхождения пришли в арго из офенского языка: кирять, кемарить (спать), клевый (хороший, красивый). Жаргон, арго и условный язык переходят друг в друга, а слова и выражения заимствуются общенародным языком. |
К СОЦИАЛЬНЫМ ДИАЛЕКТАМ близки жаргоны и арго, а также тайные и условные языки. Эти понятия зачастую смешивают. Язык идиш, в самостоятельности которого нет сомнения, долгое время считался еврейским жаргоном немецкого (он долгое время был языком местечковой бедноты). Жаргон (от Франц, jargon) — язык определенной группы населения, объединяемой либо профессией (жаргон программистов), либо социальным положением (жаргон дворян, студенческий), либо возрастом (молодежный жаргон), либо общими интересами (жаргон хиппи). Жаргон отличается от просторечия и социальных диалектов тем, что говорящий на нем отчетливо это осознает. Жаргон — род языковой игры. К нему обращаются, потому что он служит опознавательным сигналом — по специфическим выражениям свой узнает своего; это своеобразный протест против официального, слишком казенного и нормативного языка. Говорящий на жаргоне желает выделиться, противопоставить себя остальным. Это прежде всего относится к молодежному, особенно школьному, жаргону. Писатель, критик и переводчик К. И. Чуковский (1882 - 1969) считал школьный жаргон своего рода «детской болезнью» языка, которая часто поражает именно незрелых душой подростков и от которой избавляются по мере взросления; говорящий на жаргоне старается щегольнуть своей образованностью и показать близость к своим кумирам (хиппи говорят: «Собрались мы на флэте» (от англ. flat — «квартира») или «Это моя герла, она меня ловит» (от англ, girl — «девушка», love — «любить»), одновременно щеголяя знанием английского и подражая кумирам — американским хиппи и рок-певцам. Жаргон представляет мир в искаженном и нелепом виде.
|
В арго карманников слов для обозначения процесса и орудий кражи, жертвы больше всего. Специфические выражения шулеров касаются крапленых карт; наркоманы говорят о разных препаратах, шприцах, самочувствии после приема наркотиков (кайф) и в момент абстиненции - болезненной жажды наркотиков (ломка).
|
Возникает жаргон следующим образом. Во-первых, многие слова общего языка изменяют в нем смысл: Шнурки в стакане — «Родители дома» (хиппи); Я тащусь — «Я наслаждаюсь» (молодежь); крутой по отношению к человеку в общелитературном языке означает «суровый, жесткий, скорый на расправу», а в молодежном жаргоне — «богатый, авторитетный, решительный», а также «необыкновенный». Во-вторых, большое количество слов заимствуется из других языков. Помимо этого, в них можно встретить такие слова, как чувак — «парень» (из цыганского), мусор — «милиционер» (из древнееврейского muser — «охранник», так же, как и ксива — «документ»). В-третьих, в жаргоне появляются словообразовательные суффиксы, которых нет в общем языке или которые в нем реже употребляются: -лово: винтилово, долбилово — «долбежка, зубрежка». Разные жаргоны в одном языке легко заимствуют слова друг у друга. В молодежном жаргоне много слов из языков деклассированных элементов.
Арго (от фр. argot) — условный язык
узких групп населения. Разграничение арго и жаргона — одна из проблем лексики.
Для ее решения следует проверять слова на сочетаемость с названиями разных групп
населения. Арго — более узкое понятие, чем жаргон. Этим вариантом языка
пользуются не столько группы населения сколько его деклассированные представите
ли — уголовники, наркоманы, проститутки и др. Арго неотделимо от их деятельности
(что сближает его с профессиональными жаргонами). Говорящий на арго скорее
гордится своей принадлежностью к миру его пользователей и старается выразить
свою враждебность ко всему, в этот мир не входящему.
Все люди говорят по-своему. У них различается не только тембр голоса, но и интонации, особенности произношения, любимые слова и выражения. Такие же отличия заметны в речи людей, живущих на одной территории, — в Рязанской области люди говорят иначе, чем в Вологодской. Человеческий коллектив неосознанно делится на отдельные группы, стремится к камерности. Люди ограничивают пространство своего обитания — оградой и межой, обычаями и искусством украшать свой дом и костюмы. Отделение одних людей от других вызывает изменение и в их языках. Свое отделяется от чужого. Диалект — материнское лоно нового языка.
|
Пути русского, украинского и белорусского народов разошлись в XIV в., когда Украина и Белоруссия находились под властью Литовского княжества и Речи Посполитой, а великорусские территории оставались под Золотой Ордой. Раздельное существование в течение трех-четырех столетий привело к тому, что некогда единая древнерусская народность стала осознавать себя как три разных народа с тремя разными языками. Поэтому видные литераторы XIX в. - П. А. Кулиш и Т. Г. Шевченко на Украине, М. А. Богданович в Белоруссии, - устанавливая нормы литературного языка, стремились к наиболее далекому от великорусского варианту. |
ДИАЛЕКТОМ (от греч. dialektos — «беседа», «говор») называется любой вариант языка, территориальный или социальный, который обладает особенностями, отличающими его от других таких же вариантов. Диалектные особенности речи противоречат языковой норме, в которой язык предстает как совершенно однородное явление. Однако язык вариативен и изменчив. Одна из форм этой вариативности — существование диалектов. Сами диалекты не вполне однородны. В них могут выделяться небольшие территории, язык которых несколько отличается от окружения. Такие подразделения диалекта определяются как говоры (или наречия) . Существует цепочка, классифицирующая варианты языка: язык — диалект — говор — речь отдельного человека (иначе — идиостиль: от греч. idios — «свой» и стиль).
Для отделения языка от диалекта необходимо учитывать некоторые лингвистические способы их определения. Такими критериями являются: степень взаимопонимания носителей разных диалектов; наличие авторитетных текстов на диалектных языках. Важно самосознание говорящих. Носители одного национального языка должны понимать друг друга, даже говоря на своих диалектах. В условиях частых контактов может образоваться говор, соединяющий в себе черты двух и более диалектов. Русский, украинский, белорусский являются языками потому, что так осознают их говорящие на них. Но между ними нет резких языковых границ: говоры территорий северо-восточной Украины переходны от русского к украинскому языку. Полесье — переходная зона между украинским и белорусским языками. Диалект осознается таковым, если он воспринимается как часть целого — национального языка. Таким объединителем обычно выступает какой-либо текст, который не связан с одним диалектом, а соединяет в себе черты нескольких. Этот текст называется наддиалектным.
Наддиалектная и диалектные формы речи соотносятся по-разному. В некоторых случаях наддиалект оказывается специально смешанным — так образовался поэтический наддиалект поэм Гомера в Древней Греции. Он широко использует формы двух диалектов — ионийского, на котором говорили жители Средней Греции, и эолийского, объединявшего говоры греков Малой Азии. Иначе сложился общегреческий литературный язык в IV в. до н. э., именуемый «койне» (от греч. koine glotta — «общий язык»). В его основе лежит аттический говор ионийского диалекта (на котором писали Платон и Аристотель). Именно этот язык лег в основу дальнейшего развития греческого языка. После 395 г. — времени образования Византийской империи — греческий язык широко распространился по Балканам и Малой Азии, а после захвата турками Константинополя (1453) многие греки-христиане бежали на побережье Черного моря и в Италию. Старое ионийско-аттическое койне распалось на две большие диалектные группы: северную и южную. Литературный греческий — димотика (от греч. dimotiki — «общенародный»), основан на говоре Афин, принадлежащем к южной диалектной зоне.
|
При наличии взаимопонимания все же остаются области лексики, непонятные соседям. Трудно понять, например, новгородское-вологодское диалектное У нас еще пол не пахан! (ведь пашут землю, а не пол). Но в северных диалектах пахать означает «мести» (ср. литературное опахало), тогда как литературному пахать здесь соответствует глагол орать. Фраза Батька на заднем дворе орет будет не более понятна. А в китайском языке вообще отсутствует взаимопонимание между носителями северных и южных диалектов и роль языка-посредника выполняют иероглифы. Если же русский и болгарин будут говорить каждый на своем языке, то они смогут понять друг друга. Это еще в большей степени относится к русскому, украинцу и белорусу (отдельные слова могут остаться непонятными).
С. Павлова наглядно показывают различия в одежде крестьян Воронежской (вверху) и Тамбовской губерний (слева). |
К ИЗУЧЕНИЮ ДИАЛЕКТОВ применимо основное положение сравнительно-исторического языкознания: важны закономерности в различиях (если вологодец произносит безударное о как [о], то москвич или курянин — как [а]). Многие диалектные черты распространены на больших территориях. Для упорядочения диалектного материала было введено понятие «изоглосса» (греч. isos — «равный» и glossa — «язык»). Изоглосса — общая языковая черта любого уровня, объединяющая одну или несколько территорий. На карте местностей она представляет собой непрерывную линию. Так, изоглосса оканья объединяет северные и поволжские диалекты, изоглосса аканья — центральные (московский говор) и южные (Краснодар, Ростов-на-Дону). Каждый диалект можно определить как набор изоглосс. Метод был впервые использован французскими диалектологами, а в настоящее время с большим успехом применяется в русской диалектологии.
Грамматика — уровень языка, соотносящий слова друг с другом. Грамматикой определяется строй языка: набор правил словоизменения (морфологических форм); правил словообразовательных моделей; сочетаний слов. Первые два типа правил относятся к морфологии, регулирующей форму слова, третий — к синтаксису. Грамматика превращает набор слов в связную речь.
|
Любое слово имеет грамматическую форму. Так, в слове «волк» есть нулевое - внешне никак не выраженное - окончание. Оно обозначает именительный падеж, способный выступать в роли подлежащего или именной части сказуемого, сочетаться с прилагательными в том же падеже, обозначает единственное число и сочетаемость с прилагательными и глаголами тоже в единственном числе. Совокупность этих возможностей составляет грамматическую форму слова - именительного падежа II склонения существительного. Сравним ее с другой словоформой (словоформа - вариант слова с грамматическим показателем) - коров. Это существительное I склонения в родительном падеже множественного числа. Нулевое окончание имеет другое значение. Перед нами - грамматические омонимы. А волк и коров-а, коров и волк-ов - разные грамматические способы, но сходное грамматическое значение; грамматические синонимы. |
Одной из центральных единиц грамматики является слово, которое здесь выступает с иной стороны, чем в лексике. Слово для грамматики значимо своей формой. Грамматическая форма — мельчайшая единица грамматики (как звук в фонетике, фонема в фонологии, морфема в морфологии, слово в лексике).
Грамматическая форма — объединение в одном слове грамматического способа и грамматического значения. Грамматический способ — любое средство, которым выражено грамматическое изменение слова (окончание или приставка — различные флексии) или корня (внутренняя флексия). Эти способы выражают грамматические значения (в словах книг-а, книг-е, книг-у, книг-ой смена окончаний — грамматический способ выражения определенных падежных значений). Отношение единиц языка (частей слова и слов между собой) — предмет грамматики.
Грамматическое значение — то отношение, на которое указывает грамматический способ (в слове книг-ой окончание выражает грамматическое значение «орудийности» (удивить приятеля необычной книгой) или «совместности» — на столе лежали карандаш с книгой). Имя (существительное, прилагательное, числительное, местоимение) сочетается со строго определенными окончаниями (в слове книг-ой основа в сочетании с окончанием -ой, означающим творительный падеж, и есть грамматическая форма). Система окончаний слова, охватывающая весь набор его словоизменений, называется парадигмой. Современное учение о парадигмах слов создал Ф. Ф. Фортунатов, утверждавший, что слово принадлежит к двум множествам — по основе и по форме. Первая принадлежность иллюстрируется таким рядом, как стол, стол-а, стол-у, вторая — стол-у, волк-у, человек-у. Основа слова определяет его лексическое значение, форма — характеристику слова по сочетаемости с другими словами (например, дательный падеж). Важно, что одна и та же грамматическая форма может быть представлена разными материальными единицами (ср. выражения мало толк-а и мало толк-у). Варианты не указывают на вхождение форм в разные парадигмы, но могут иметь тонкие различия в своем значении. Например, родительный падеж на -у имеет оттенок количественности (появляется там, где речь идет о мере и массе). Такое окончание больше свойственно разговорному стилю (см. Языковая норма). Грамматические формы объединяются в более крупные единицы. Набор всех синонимических грамматических форм — всех способов, выражающих одно значение, — называется граммемой. Например, окончания -ы, -а, -у, -и в русском языке обслуживают одну граммему родительного падежа единственного числа. Граммемы же объединяются в более крупные единицы — грамматические категории. Грамматические категории охватывают не одно грамматическое значение, а их группы (если родительный падеж имеет граммему, то падеж вообще — уже грамматическая категория). Парадигмы также относятся к грамматическим категориям. Набор грамматических категорий определяет строй языка. Так, категория глагольного вида — достаточно яркая черта славянских языков. В европейских аналитических языках почти исчезла категория склонения. На основе грамматических категорий выделяются части речи — большие группы (классы) слов, объединенных общими чертами — словоизменяемостью, способностью к сочетаниям, а также значением. Считается, что важнее всего значение (например, имя существительное означает «предмет» или что-то неизменное, глагол обозначает действие или процесс, прилагательное — признак). В языке достаточно много однозначных слов. Но ряд слов обозначает, например, процесс, но по форме принадлежат к сугцестви-тельным (например, слово «бег»).
|
Термин «грамматика» появился в труде древнегреческого ученого II в. до н. э. Дионисия Фракийца «Grammatike techne» («Искусство писать»). Вопросом сочетания слов занимались и индийский лингвист Панини (V в. до н. э.), позже - Чандра и Джайнендра. Панини составлял свою грамматику устно и опирался на устные свидетельства.
Фронтиспис «Грамматики» М. В. Ломоносова, С.-Петербург (1755 - 1757). |
Прямому отнесению слов к частям речи препятствует транспозиция. Транспозицией называется переход слова из одной части речи или грамматической категории в другую. Это происходит с помощью специальных частей слова, в ряде случаев — без них (например, дом, дом-ов-ой. Домовой означает «домашний предмет» и «мифологическое славянское существо — дух». В первом случае говорят о притяжательном прилагательном, во втором — об одушевленном существительном). Существует несколько видов транспозиции: субстантивация, вербализация, адвербализация, адъективация.
Всякий предмет обладает определенной формой: шар — круглый, стол — прямоугольный, куст — извилист и разветвлен. Слово, услышанное нами, напрямую не связано с окружающими предметами (их значение — результат договора людей) и не отражает их формы. Слово оказывается самодостаточным явлением. Его форма задана грамматическим замыслом, который развивается по иным законам, чем окружающий мир. Познание грамматических законов позволяет понять язык.
|
Понятия «новое слово» и «производная форма» неоднозначны. Так обстоит дело со степенью сравнения прилагательных: крупный и крупнейший -это одно слово или два разных? И если это одно слово (как считают все грамматики), то почему дом - домище - это два разных слова? Первая пара слов имеет одно значение (величины), а вторая - два («жилище» и «огромное жилище»).
|
МОРФОЛОГИЯ (от греч. morphe — «форма» и logos — «учение») — совокупность всех единиц языка, имеющих значение (морфем и слов). Этим она отличается от фонологии, имеющей дело с минимальными и незначащими элементами, и от лексики, единицы которой самостоятельно значимы. Так, слова «волк», «сапогам», «коров», «степью» вполне понятны всякому, кто знает русский язык, а вот ов, ый, у сами по себе — бессмыслица, как и ство, ный, чик. Но в сочетании с другими единицами (кулак-ов, черн-ый, че-ловек-у, а также бешеп-ство, длин-ный, воз-чик) они не вызывают никаких затруднений. Такие значимые, но несамостоятельные единицы получили название «морфемы».
|
Многозначность морфемы очевидна в следующих словах: утренник («утренний спектакль»), дневник («ежедневные записи»), вечерник («студент вечернего отделения вуза»), ночник («ночной светильник»): суффикс -ник указывает на разные, несопоставимые вещи. Например, суффикс -ник можно истолковать как «имеющий отношение к чему-либо». Поэтому дети часто ошибаются, встречаясь с новыми словами, образованными от известных им корней; приказчик - «тот, кто отдает приказы», секретарша - «та, кто секретничает». Суффикс превосходной степени -ейш- всегда указывает на превосходную степень прилагательных, тогда как -ищ-е далеко не так однозначен. Ведь городище - это не «огромный город», а «раскопки исчезнувшего города», точно так же, как кострище, пожарище - не «огромный костер», а «след костра», а чудовище - не столько «огромное чудо», сколько «нечто страшное, поражающее своими размерами или безобразием». Именно такая многозначность суффикса -ищ-е доказывает, что дом - домище - словообразовательное отношение.
|
Морфология подразделяется на две большие области: словоизменение и словообразование.
Словоизменение означает образование новых форм от одного слова (дом, дом-а, дом-у). Словообразование означает появление новых слов (дом — домовой). Новое слово обладает новым значением, указывает на новый предмет («жилище», «принадлежащий дому» или «мифологическое существо — дух дома»).
Главное отличие словообразования от словоизменения состоит не только в том, что в одном случае появляется новое слово, а в другом — нет. Словообразовательные морфемы резко отличаются от словоизменительных — они могут иметь несколько значений.
Значение словоизменительных морфем гораздо жестче. Нулевое окончание во II склонении существительных указывает на именительный падеж единственного числа, а в I — родительный падеж множественного числа. Граммема родительного падежа включает в себя значения: «принадлежность» (дом брата), «отделение» (отойти от брата), а также прямое дополнение при отрицании (доброго не бегай, худого не делай). Кроме того, родительный падеж указывает на подлежащее и прямое дополнение при именах, образованных от глаголов. Например, словосочетание посещение отца может означать, что «отец посетил кого-то» (подлежащее) или «кто-то посетил отца» (прямое дополнение). Любое имя, стоящее в родительном падеже, может в зависимости от контекста означать все упомянутое. Поэтому можно говорить о едином родительном падеже, к которому относятся все имена с соответствующими окончаниями. Словоизменительные морфемы с их более жестким значением образуют и более устойчивые системы окончаний — парадигмы, чем словообразовательные. В парадигмах склонения или спряжения к основам прилагаются только жестко закрепленные окончания соответственно их типу.
| Один из создателей современной фонологии Р. О. Якобсон попытался описать словоизменение как связную систему. Он предложил перечень различительных признаков падежей: пространственность, объем, периферийность. Пространственные падежи, например винительный и дательный, указывают на направление действия по отношению к ним (пройти город: подарить подарок другу). Объемные падежи, родительный и предложный, указывают на то, что предмет взят как мера или как пространство. Творительный и дательный падежи обозначают, что предмет не находится в центре высказывания: они периферийны. Каждый падеж подобно фонеме может быть представлен как набор различительных признаков или их отсутствия (как бемольность, диезность, диффузность - см. Фонетика и фонология). Именительный падеж - центр предложения, который ни от чего не зависит. Остальные падежи соотносятся с ним. Поэтому он непространственен, необъемен и неперифериен. А предложный падеж, наоборот, никогда не занимает центрального места в высказывании, представляет предмет как место и указывает на направление действия (В вере мы ищем спасение). Он пространствен, объемен и перифериен. |
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ — создание новых слов с помощью различных грамматических способов. Оно не образует таких четких и полных парадигм, как словоизменение. Каждое слово может порождать большое количество новых слов, но далеко не все из них реально существуют в языке (от Земля образуется земной, от Луна — лунный, но от Венера не образуются притяжательные прилагательные). Неполнота моделей словообразования проявляется при сравнении близких по морфологии и значению слов. Например, варить и жарить — два глагола II спряжения, означают «действия по приготовлению пищи». От них образовано много слов с помощью одних и тех же грамматических способов (вар — жар, варка — жарка, варение — жарение), но от варить произведены самовар и скороварка, а саможар и скорожарка русскому языку неизвестны. В свою очередь, жаркое — вполне реальное русское слово, включенное во все словари, тогда как варкое можно сказать разве что в шутку. Это и есть неполнота словообразовательных моделей, так отличающаяся от полноты словоизменительных. Ведь невозможно представить себе имя, к которому бы присоединялись не все падежи, или глагол, сочетающийся не со всеми личными окончаниями. В словообразовании же это — обычное явление. Словообразовательная модель работает на узком участке языка (локальна) и создается традицией для конкретных случаев словоупотребления (например, для отраслевых терминологических тезаурусов — в приборостроении, агрономии, астрономии и др.).
Главную роль в словообразовании играют мотивирующее слово и производящая основа. Мотивирующее слово — то, от которого образуется новое. Основой вообще называется часть слова без окончания — корень, приставка и суффикс (слово «лес» — мотивирующее по отношению к лесной; основа слова «лес» — производящая, а лесной — производное, мотивированное слово). Большинство слов в языке — производны, но и от них могут образоваться новые слова. В этом случае слово, производное по отношению к одному, становится мотивирующим по отношению к другому, а его основа, соответственно, становится производящей. Слова, для которых не удается найти мотивирующие, называются корневыми (слово «лес» — корневое; от него производно прилагательное лесовой, а от прилагательного — существительное лесовик; по отношению к лес основа лес-ов- производна, а по отношению к лесов-ик — производящая).
| Не всегда бывает просто провести границу между словообразованием и словоизменением. В русском языке имена, обозначающие время, в форме творительного падежа иногда выражают то время, в котором происходит событие; Весной я болен (А. С. Пушкин). Но точно такая же форма может выражать и обычную творительность: Я доволен прошедшей весной. Нет никаких формальных зацепок, которые бы позволили различить два этих значения; приходится полагаться на общий смысл. Значит, в этом случае окончание творительного падежа расщепилось: с одной стороны, собственно творительный падеж, с другой - наречие времени. Это большое различие позволяет определить его во втором значении именно как словообразовательную морфему. |
Мотивированность слова меняется со временем. Многие мотивирующие слова в языке могут либо исчезнуть, либо потерять свое прежнее значение. Так, для древнерусских путьникъ, цвътъникъ мотивирующими были прилагательные путьнъ («находящийся в пути») и цвътънъ («покрытый цветами»). Именно так от ум-ный (образовано от ум) произведено умн-ик, от утренний — утренн-ик (от производящей основы на -н- производятся слова с суффиксом -ик). Но в современном русском языке значение старых прилагательных поменялось. Так, слова, путный (толковый, полезный, правильный) и цветной (отличающийся по цвету от черного, белого и серого) уже не могут мотивировать путник и цветник. Поэтому с точки зрения современного языка эти слова образованы от корневых путь и цвет с помощью суффикса -ник. (Впрочем, и слово «цвет» сейчас утрачивает значение «цветок», обозначая «масть, оттенок». Поэтому слово «цветник» сейчас воспринимается как однокоренное со словом «цветок», но не производное от него.) А в языке появился новый суффикс -ник. Он имеется в слове коровник. Ведь от корова не образуешь прилагательного коровный; известно только коровий. Значит, это слово образовано суффиксом -ник от имени существительного «корова».
Стройность словообразовательных моделей нарушается явлением, которое называется «деэтимологизация». Деэтимологизация означает утрату словом связи с мотивирующим. Это может происходить по трем причинам: изменение до неузнаваемости облика основы слова; использование редких, малоупотребительных морфем; расхождение по значению. Один из видов деэтимологизации называется «опрощение». Оно заключается в том, что в слове как бы стираются границы между морфемами. Например, в слове «искусство» сейчас выделяется корень искус-, хотя исторически это сочетание приставки ис- и корня -кус- (ср.: искушать, искушенный; искусный — «умелый», «мастеровитый»). Слово «воздух» также воспринимается как корневое, хотя в его составе — приставка воз- и корень -дух-.
| Словообразовательные модели настолько случайны, узуальны (от лат. usus - «использование») - зависят от конкретного случая употребления, что попытка применить подобные схемы для других слов могут вызвать улыбку. Так, в 1960-е гг. после начала полетов в космос стали появляться слова с общим значением «прилететь на другую планету» по аналогии с приземлиться: прилуниться, привенериться. В одном пародийном рассказе герой, прибыв на одну из планет созвездия Гончие Псы, сообщает, что «присобачился благополучно». Глагол приземлиться образован не от слова «Земля» как названия планеты, а от слова «земля» со значением «твердая поверхность». |
Словообразование осуществляется благодаря по преимуществу присоединению аффиксов (от лат. affixus — «прикрепленный»): приставок и суффиксов. Приставка (иначе — префикс; от лат. praefixus — «прикрепленный впереди») — морфема, стоящая перед основой слова. К слову могут присоединяться от одной до трех приставок (за-расти — одна приставка, по-за-расти — две, по-при-от-крывать — три). Поскольку они присоединяются к цельному слову, они не меняют его морфологии и не превращают его в другую часть речи. Но некоторые приставки могут соединяться с такими основами, которые больше ни в каких словах не засвидетельствованы. Например, вы-козюливаться (по-видимому, от русского диалектного козюля — «змея»), вы-комариваться (у этого слова нет бесприставочного глагола, а от корневого слова оно ушло слишком далеко). Так что приставки иногда порождают совершенно новые слова.
Суффикс (от лат. suffixus — «прикрепленный») — морфема, стоящая между корнем и окончанием. К корню может присоединяться от одного до трех суффиксов (воз-чик — один суффикс, у-стар-е-л-ость — три). Суффикс очень широко изменяет слово, способствует образованию одних частей речи от других: имя от глагола (чита-ть — чита-тель, де-ла-ть — дела-н-ие), глагол от имени (врач — врач-ева-ть), имя от имени (коров-а — коров-ник), существительное от прилагательного (угодн-ый — угодн-ик, нелеп-ый — нелепость), прилагательное от существительного (длин-а — длин-н-ый).
Суффиксы могут быть не только словообразовательными, но и словоизменительными. Например, -ть, с помощью которого образуется инфинитив в русском глаголе, — именно словоизменительный суффикс. Он отличается от словообразовательных суффиксов тем, что включен в словоизменение, а от окончания — тем, что образует особую основу (ср. слова бр-а-ть — бер-у; тер-е-ть — тр-у). То же можно сказать о суффиксе прошедшего времени глагола -л: он словоизменителен, но образует особую основу.
Иногда в образовании новых слов принимает участие несколько полнозначных морфем или слов (словосложение). Это относится и к таким словам, как слово-изменение — «изменение слов» и слово-образование — «образование слов». Таким образом образуются научные термины (право-порядок, законо-творчество) и разговорные наречия: на-удачу — на-об-ум, в-перемешку («мешая в беспорядке») и в-перемежку («распределяя в нужном порядке»), в-попы-хах (от пыхтеть), на-вз-ничь (от никнуть), с-по-за-ранку (от за-ранее, рано).
| Деэтимологизация проявляется в сильном изменении внешнего облика в результате различных чередований звуков. И те, для кого русский язык - родной, обычно не ощущают связи слов при-выч-ка и об-ыч-ай: корень -ык-/ -ыч- в начале слова и после гласного получает звук -в-, так как в русском языке ы- не может начинать слова. Очень сложно без специального исследования найти вариант того же корня в словах уч-ить, наука. Только специалист может сказать, что слово «товарищ» образовано от товар. Древнерусское слово «товар» означало «стан, лагерь», а также «обоз (в том числе и торговый)», а затем - «предметы для торговли». Оно заимствовано из тюркского tabur, от которого происходит и слово «табор». Суффикс -ищ- тоже заимствован из тюркских языков и не встречается в других словах. Поэтому связь между товаром и товарищем не ощущается. Слова, не изменяя своей формы, могут далеко разойтись и по значению. И если родство существительного бег и глагола бежать очевидно, то глагол ум-еть, образованный от ум, далеко ушел от производящего слова. |
Кроме приставок и суффиксов в словообразовании определенную роль играет чередование звуков (ср. слова: бер-у — с-бор — бр-ать — в глаголе чередуются гласные е, о и отсутствие гласного). Изменение звукового состава основы получило название «внутренняя флексия» — оно имеет определенное грамматическое значение. Внутренняя флексия играет большую роль в словоизменении и словообразовании германских и особенно семито-хамитских языков. Внутренняя флексия входит в более широкий класс явлений, которые получили название «морфонология» (образовано из морфема и фонология). Предметом морфонологии являются все чередования звуков, не обусловленные позицией. Например, сто-[к] — стога — позиционное чередование, связанное с тем, что в русском языке в конце слова не различаются глухие и звонкие согласные. А чередование друг — друж-ок нельзя объяснить никакой позицией в современном русском языке. Именно такие чередования изучаются морфонологией. Их особенность состоит в том, что они всегда значимы. Они помогают различать производящую и производную основы слова: первичное друг и производные друж-ба, друж-еский. Иногда они принимают участие в словоизменении (теку — теч-ешь, мог-у — мож-ешь).
Морфонологические чередования, как правило, возникают благодаря изменению фонологической структуры языка. Каждый фонетический закон действует строго ограниченное время, оставляя после себя старые чередования звуков. Иногда, чтобы найти истоки морфонологических чередований, достаточно обратиться к истории отдельных языков. В славянских языках известен закон трех палатализаций; чередование венок — венчик — венец отражает две первые, а на-стигать — стезя — третью палатализацию. А вот такие чередования, как беру — бр-ать — сбор (т. е. е — о — нулевой гласный) известны во всех индоевропейских языках. Происхождение этого чередования гласных до сих пор с точностью не выяснено, однако его роль в морфологии довольно очевидна: е, как правило, встречается у глаголов, а о — у отглагольных имен.
Мировому хаосу противостоит система строгих правил, определяющих расположение отдельных элементов мироздания. Божественный промысел проявляется в четком порядке и гармонии. Музыка сфер отражается в человеческом сознании и языке. Слова, как и числа миропорядка, строго следуют друг за другом, образуя продуманные сочетания, выражающие любой смысл вплоть до высшей идеи. В противном случае в беспорядочном потоке перечисления они утратили бы свое значение.
|
Слова и мысли, их прародители: чувства и предметы, тела и свет в полотне «Движение» (слева внизу - 1935) В. В. Кандинского представлены в виде пересечений, пульсации и танца плоскостей и сущностей мира. То же движение и музыку сфер осознал в 1543 г. Н. Коперник (модель планетария - справа). |
СИНТАКСИС (от греч. syntaxis — «порядок») — наука о сочетаемости слов. Предметом изучения синтаксиса являются словосочетание, предложение и текст в своей целостности. Синтаксис наряду с морфологией — основной раздел грамматики. Главная его задача— описать отношения, в которые слова вступают друг с другом в этих языковых единицах.
Словосочетание — соединение двух слов, которые могут быть равноправны или неравноправны друг другу. Степень свободы/несвободы входящих в словосочетание слов позволяет выделить три типа словосочетаний: сочинительные, подчинительные и предикативные. Словосочетание — основная синтагма (от греч. syn — «совместно» и tagma — «строй») синтаксического уровня языка. Сочинительными словосочетаниями называются те, в которых слова равноправны друг другу. Они состоят из однородных слов, относящихся к одной части речи и находящихся в одной грамматической форме (большой и красивый, вершки и корешки, найти и обезвредить). Однородность таких слов становится очевидной, когда они сами сочетаются с другими словами: большой и красивый дом — то же самое, что и большой дом и красивый дом; вершки и корешки проданы — вершки проданы и корешки проданы; преступника надо найти и обезвредить — преступника надо найти и преступника надо обезвредить. Получившиеся фразы выглядят достаточно неуклюже, но сочинительные словосочетания устраняют эту неловкость.
|
Понятие предложения в языкознании относится к числу самых спорных: известно около 1000 его определений. Часто используют фразу из школьной грамматики: «Предложение выражает законченную мысль». Это определение не ошибочно, но недостаточно ясно и полно. Что такое законченная мысль? Мысль может развиваться в целой цепочке предложений. Есть предложения, не выражающие законченной мысли: Я встретил друга, который приехал в наш город. Который приехал в наш город - это предложение, но оно не выражает абсолютно законченной мысли, так как в нем, взятом отдельно, непонятно, о ком идет речь.
|
Сочетания неравноправных слов называются подчинительными. В зависимости от типа подчинения и частеречного состава они подразделяются на несколько групп: определительные, объектные, релятивные. Определительными (атрибутивными — от лат. attribuere — «приписывать») словосочетаниями являются те, в которых подчиненный член словосочетания (атрибут) указывает на свойство или признак (серый волк, белый снег, сильный ветер, добрый человек). В этих словосочетаниях главный член (определяемое) — существительное, а зависимый — прилагательное.
Возможны и другие сочетания: два существительных в одном падеже (старик-крестьянин), подчиненное существительное в родительном (дом отца) и в предложном (дядька в Киеве) падежах. Несмотря на разницу в форме выражения, они внутренне близки друг другу. Определения, стоящие в родительном или предложном падеже, могут быть превращены в прилагательные (отцов дом, киевские родственники). Такие прилагательные называются притяжательными. Определяемое обычно выражается именем (существительным, местоимением, числительным или субстантивированным прилагательным: рабочий, прохожий). Объектное (от лат. obiectum — «прямое дополнение») словосочетание содержит глагол, обозначающий воздействие на предмет (строить дом, петь песню). Наименование предмета является прямым дополнением. Глагол, как правило, — переходный. Может использоваться и косвенное дополнение — существительное в дательном падеже — и обозначать адресата (верить другу, аккомпанировать певцу), или вообще без дополнения — существительное в творительном падеже — и обозначать орудие действия (рубить топором, пропитать жидкостью). Релятивное (от лат. relatio — «отношение») словосочетание содержит глагол, и подчиненный член обозначает образ действия при нем (жарко гореть, усердно работать). Подчиненное слово может выражаться, как правило, наречием или деепричастием (идти подпрыгивая) и существительным в творительном (работать вечером, плыть морем) или винительном падеже (весить тонну, пройти город). Такие словосочетания внешне похожи на объектные. Для формального различения необходимо заменить подчиненные слова на близкие по значению (работать вечером — работать по вечерам, плыть морем — плыть по морю; весить тонну — весить много, целую тонну; идти день — идти долго, целый день). Имена в объектных словосочетаниях не допускают таких подмен.
|
Центральное для синтаксиса понятие - синтагма - может пониматься довольно широко. Синтагма - сочетание двух или более единиц одного уровня. Поэтому можно говорить о синтагмах звуков и фонем, морфем и слов. Звуковые синтагмы определяются позицией: перед гласным е смычные согласные смягчаются, звонкие согласные оглушаются перед глухими, а глухие озвончаются перед звонкими. У фонемных сочетаний есть свои ограничения. Морфемы разбиваются на классы в зависимости от того, являются ли они словообразовательными или словоизменительными и какую часть речи обслуживают. Синтагматическое отношение - способность элементов языка сочетаться друг с другом - одна из важнейших черт языка. |
Предикативными (от лат. praedicatum — «сказуемое») словосочетаниями называются группы слов, описывающие состояние дел, событие, протекающие во времени. Предикативность создается несколькими способами:
1) временем и наклонением глагола;
2) специальными частицами и наречиями;
3) порядком слов и
4) кратким прилагательным.
Время может быть прошедшим, настоящим, будущим и всеобщим (мифологическим). В таких сочетаниях определяется время события относительно момента речи. Прошедшее время указывает на событие до момента высказывания (шел дождь), настоящее — в момент речи (идет дождь), будущее — после акта говорения (пойдет дождь), а всеобщее — независимо от высказывания (Земля вращается). Кроме «привязки» ко времени в предикативных словосочетаниях есть указание на наклонение глагола — на отношение говорящего к высказыванию.
В русском языке — три наклонения глагола (есть и больше — семь в санскрите, четыре в греческом, четыре во французском): изъявительное (называние происходящего), условное (событие предстает как желательное, возможное), повелительное (говорящий побуждает к действию). Время и наклонение свойственны глаголу, однако в предикативных сочетаниях часто встречаются и имена (человек велик; дождь — сильный; Иван — в деревне).
Имена в предикативной позиции имеют нулевые показатели настоящего времени и изъявительного наклонения (как существительные обладают нулевым окончанием).
|
«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека». Рисунок М. Добужинского (1910-е) |
Другие времена и наклонения нельзя выразить нулевыми формами, поэтому можно сказать только так: дед был стар; дождь будет сильным; Иван был бы в деревне. Глагол быть выполняет роль показателя времени и наклонения. Он возможен в предложениях настоящего времени (Квадрат есть прямоугольник со сторонами одинаковой длины.) В русском языке это свойственно научному стилю, а во многих европейских языках глагол быть при именном сказуемом обязателен.
Предикативный характер словосочетаний без глаголов могут подчеркивать и другие слова. Ими являются частицы и наречия, указывающие на время (старик в тулупе может быть и атрибутивным, и предикативным, а старик уже в тулупе — только предикативным; в нем появились время и утвердительность).
Предикативность выражается и порядком слов. Сказуемое в русском языке обычно ставится после подлежащего, поэтому прилагательное, стоящее после определяемого им слова, скорее будет предикативным, чем атрибутивным (сильный дождь и дождь — сильный). Предикативность выражается и путем использования кратких прилагательных (великий человек и человек велик).
Связь слов в словосочетании бывает различной. В русском языке выделяют три типа связи: согласование, управление и примыкание.
Согласованием называется связь прилагательного с существительным (в атрибутивных и предикативных сочетаниях слов). Оба слова имеют общность в грамматической форме. Прилагательное стоит в том же числе, падеже и роде, что и определяемое существительное (красивая книга; Фортунатов — лингвист).
Два существительных в одном числе и падеже, согласованы друг с другом. Такие существительные обычно относятся к одному роду; если же нет, то высказывание приобретает особенно эмоциональный характер (Эта старая сплетница Петров!).
Управлением называется связь слов, при которой подчиненное стоит в строго определенной форме независимо от формы главного слова (писать картину; жить в городе). Подчиненный член словосочетания требует нужный ему падеж: несогласованное определение — родительный, прямое дополнение — винительный, адресат — дательный, а орудие — творительный (высота здания; увидеть друга; написать матери; ударить молотком соответственно).
Примыканием называют отсутствие внешне выраженной связи. Это достигается использованием наречия как неизменяемого слова (жить долго; виднеться вдалеке; яйца вкрутую).
|
Слова в словосочетании должны сочетаться по смыслу. Иначе можно получить грамматически правильное, но абсурдное высказывание: Кентавр выпил круглый квадрат. Языковед Л. В. Щерба разбирал со студентами сочиненную им фразу: Глокая куздра штеко будланула бокра и кудлачит бокренка. Хотя здесь нет осмысленных слов, студенты без труда понимали, что куздра будланула и кудлачит - предикативное словосочетание «кто-то энергично действует», будланула бокра - объектное словосочетание «один раз ударила кого-то», кудлачит бокренка «треплет детеныша». Атрибутивное сочетание глокая куздра осмысляется как «кто-то яростный», а релятивное штеко будланула - «сильно ударила». Значит, и форма словосочетаний важна для понимания смысла. |
Словосочетания — строительные блоки предложения. Предложение — группа словосочетаний, одно из которых должно быть предикативным (Ночью на улице рядом с аптекой горят фонари). Любые другие сочетания могут быть опущены (Горят фонари) или превращены в самостоятельные предикативные единицы-предложения (Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. — А. А. Блок).
Предложение, состоящее только из предикативного словосочетания, называется нераспространенным (Идет дождь; Мороз силен).
Сочетание предиката и различных обстоятельств, дополнений и определений, добавочно характеризующих ситуацию, составляет распространенное предложение.
Одна предикативная ситуация составляет простое предложение, несколько — сложное. Сложное предложение содержит несколько событий (предикаций), простое — одно. Теория словосочетаний позволяет определить место и роль членов предложения. Для наглядности присвоим каждому члену предложения цифру и попробуем разобрать его. То слово предикативного сочетания, которое связано со временем и наклонением, становится
1) сказуемым. Другой член этого сочетания —
2) подлежащим. При подлежащем стоят
За) согласованные и
3б) несогласованные определения, образуя вместе с ним атрибутивные словосочетания. Сказуемое управляет
4) прямым дополнением, которое составляет с ним объектное словосочетание, а также словами, обозначающими адресата, —
5) косвенное дополнение и
6а) обстоятельство образа действия (орудия). Релятивные словосочетания включают в себя обстоятельства
бб) времени,
бв) места и
бг) образа действия. Например:
Брат (1) отца (36) в прихожей (бв) на рассвете (бб) быстро (бг) написал (2) карандашом (ба) письмо (4) своему (За) другу (5).
|
Синтаксис напрямую определяет пунктуацию (от лат. punctum - «точка»), выделяющую синтаксические элементы. Пунктуация руководствуется тремя принципами: смысловым, грамматическим и интонационным. Смысл важен в предложении: Он нежился, как сытый кот, в постели у мадам Каротт. При постановке запятой после сытый кот дальнейшее относится к тому, кто нежился. Отсутствие запятой помещает кота в постель мадам Каротт. Грамматическое членение проявляется в выделении однородных членов предложения, придаточных, приложений, причастных и деепричастных оборотов, вводных слов и вставных конструкций (К сожалению, завтра будет холодно, сыро, что вынудит меня остаться дома, скучая и дожидаясь новостей). Интонация подчеркивает цель высказывания (восклицание, побуждение, вопрос, утверждение), ритмико-смысловые единицы. |
Сложные предложения делятся на сочинительные и подчинительные. Сочинительные предложения, по сути, независимы друг от друга, закончены и связаны между собой только отношениями соединения или противопоставления: Льет дождь, и дует ветер] Мартышка в старости слаба глазами стала, а от людей она слыхала... (И. А. Крылов).
Подчинительные предложения имеют разветвленную классификацию: определительные, обстоятельственные и дополнительные. Они состоят из главной и придаточной частей. Определительные предложения относятся к одному члену предложения (подлежащему, прямому или косвенному дополнению, реже — к обстоятельству) и сообщают о нем развернутую информацию: Студенты, чьи конспекты не одобрены профессором, к экзамену не допускаются; Футболистов, что проиграли в полуфинале, освистали болельщики; Я обратился к знакомому, в чьих возможностях было помочь мне с работой; На ипподроме, который только что открылся, состоялись первые скачки.
Обстоятельственные придаточные характеризуют сказуемое главного предложения, указывая на 1) цель, 2) следствие, 3) причину, а также 4) место и 5) время: Чтобы отремонтировать дом (1), следует заранее запастись материалами там, где ими торгуют (4), поскольку их может не быть (3); так что, когда настанет время (5), не придется беспокоиться о необходимом ((2) вместе с так что). Дополнительные придаточные употребляются при глаголах речи, оценки и мысли.
Дополнительные предложения могут быть свернуты в имя, которое будет прямым дополнением при глаголе: Он считает, что экзамены в университеты сдавать не надо — Он утверждает ненужность сдачи экзаменов в университеты.
Языковая норма — совокупность правил построения языкового высказывания. Она обусловлена изменчивостью языковых единиц. Язык неоднороден, на всех уровнях одно и то же содержание может быть передано разными элементами языка. Языковая норма, опираясь на традиции и авторитет и оперируя понятиями «хорошо — плохо», «допустимо — недопустимо», «культурно — некультурно», выбирает одно и отвергает другое. Она складывается в результате сложных исторических процессов. В общенародный язык вторгаются формы из разных слоев языка: диалектизмы, жаргонизмы, просторечия, неологизмы, в нем присутствуют и устаревшие элементы. Они могут относиться к фонетике, морфологии, синтаксису (преимущественно к управлению) и лексике. Одни языковые элементы представляются допустимыми, другие — «неправильными». Эти представления интуитивны: человек не задумывается о причинах своих оценок, но твердо знает: так говорить можно, а так нельзя. Например, в одном рассказе К. Г. Паустовского маленькая деревенская девочка поет: «Так во время воздушной трявоги // Народилась красавица дочь», а ее подруга, не изучавшая основ культуры речи, насмешливо комментирует: «Темнота! Надо говорить — тревоги, а не трявоги».
|
Современная языковая норма в России складывалась в речи образованных людей, живших в Москве в XIX в. |
Представление о правильности или неправильности речи возникает в первые годы жизни ребенка. Общеязыковая норма складывается сознательно благодаря процессу, который называется «кодификация» (от лат. codificatio — «утверждение»). Кодификацию обычно производят авторитетные люди, ученые и наделенные властными полномочиями комиссии. Они устанавливают языковые нормы по образцу. Образцом может служить речь какой-либо престижной социальной группы, компактно проживающей и объединенной как территориальным, так и социальным диалектом. Так, московский говор стал нормообразующим для русского языка, а диалект провинции Иль-де-Франс — для французского. Языковая норма — один из компонентов национального литературного языка. Национальный литературный язык — язык официального быта. Ему обучают в школе. Официальный быт — производство, общественные отношения, администрация, судопроизводство, образование. Семейная и частная жизнь не являются официальным бытом.
Становление русского литературного языка связано с деятельностью Н. М. Карамзина и особенно А. С. Пушкина, ориентировавшегося на живой разговорный язык и призывавшего писателей учиться языку в «московских просвирнях». Французский литературный язык был кодифицирован Французской академией в XVII в., которая взяла эталоном язык литераторов-классицистов: П. Корнеля, Ж. Расина, Н. Буало. Французский язык более книжный, чем русский. Для немецкого языка решающую роль в создании нового литературного языка сыграл перевод Библии М. Лютером в 1522 - 1542 гг.
|
Одна из корреспонденток К. Чуковского познакомилась на пляже с красивой женщиной. Но, когда та заговорила, ее собеседница пришла в ужас; «Ну и взопрела я на этом пляжу!» «Красавица показалась мне уродиной», - сообщила она писателю. Неудивительно: в коротком предложении встретились три грубые ошибки: лексическая (взопрела вместо вспотела), морфологическая (слово «пляж» не допускает предложного падежа на -у) и акцентологическая (в слове «пляж» ударение всегда стоит на корне). Такие речевые искажения характерны для того слоя населения, который принято было называть простонародьем.
Бернард Клервоский (из ордена цистерцианцев) в молитве о хорошем урожае среди братьев. Алтарь Юрга Брея в церкви в Цветтле (1500). |
ПОНЯТИЕ НОРМЫ связано со стилем. Стиль (от греч. stylos — «заостренная палочка для письма») — разновидность языка, которую традиция закрепила за одной областью жизни. Стили противостоят друг другу. Противопоставление охватывает все сферы языка — от фонетики до лексики.
Понятие стиля многозначно: деление языка по вертикали, во многих языках начиная с античности выделяют стили высокий, средний и низкий (конь — слово высокого стиля, лошадь — среднего, кляча — низкого); индивидуальная манера языка (стиль Пушкина) (индивидуальные стили сливаются в общий — говорят, к примеру, о стиле русской литературы XIX в.); функциональный стиль — разновидность языка, связанная с общественной деятельностью говорящего.
Различаются следующие стили литературного языка: обиходно-литературный (и его сниженный вариант — разговорный), деловой, производственно-технический, газетный и близкий к нему публицистический, научный стили. (См. Язык художественной литературы). Отступления от нормы бывают двух видов: речь, не превращаясь в просторечие, может не соответствовать ситуации; речь может склоняться к просторечию.
| В речи важна уместность - соответствие ожиданиям и подготовленности слушателей, для которых она звучит. Стиль узуален, т. е. соответствует определенной ситуации. Смешения стиля нужно избегать. Исключением могут быть те случаи, когда говорящий иронизирует. Самая распространенная ошибка стиля - использование канцелярских оборотов в ситуации, не требующей этого. К канцеляризмам русского языка относятся: замена глагола отглагольным именем (осваивать производство вместо начать выпускать), образование новых имен, не существующих в общелитературном языке (оборачиваемость, метраж, строкаж, обилечивать), большое количество устойчивых оборотов (так называемых штампов, или клише); бороться за вместо добиваться, решительный поворот, крутой подъем (производительности), зеленый массив (лес) и др. |
В ОБЛАСТИ ФОНЕТИКИ норма русского языка ориентирована на московский говор (см. Диалект): аканье, иканье, взрывное г. Но поскольку более 200 лет столицей России был Санкт-Петербург, его произношение тоже оказало влияние на общерусскую норму. По-московски сочетание чн произносится как [шн], по-питерски — [чн]. Современное литературное произношение допускает варианты: (ср.: було[чн]ая / було[шн]ая и ску[чн]о / ску[шн]о). В русской фонетической норме при произнесении слова важен выбор места ударения. В русском языке ударение свободно — может стоять на любом слоге. Закономерности в его постановке имеются, но не определяются сразу. Говорящий должен просто помнить об ударении в том или ином слове. В различных формах слова ударение может быть неподвижным или менять свое место. Такие вариации называются «акцентуационные парадигмы» (от лат. accentus — «ударение» и греч. paradeigma — «образец»: см. Грамматика). В русском языке имеются следующие типы акцентуационных парадигм: слова с ударением, всегда стоящим на одном и том же слоге (деньги, клад, верблюд, засуха, мускул), иногда у таких слов в предложном падеже, если он оканчивается на -у, ударение сдвигается на это окончание (на виду, в плену); слова, у которых ударение стоит всегда на окончании: слова с суффиксом -аж (блиндаж, гараж) и другие (гончар, жара, графа, ковыль, кабан); подвижное ударение. Чаще всего оно встречается среди существительных. У существительных с подвижным ударением выделяют пять разновидностей: ударение на основе в единственном числе переносится на окончания во множественном (орден — ордена); ударение в единственном числе и именительном множественного стоит на основе, а в косвенных падежах множественного числа — на окончании (голубь, голуби, но голубей); ударение в единственном числе — на окончании, во множественном — на основе (коза — козы); ударение в большинстве падежей — на окончании, но в именительном, родительном и винительном множественного числа — на основе (волна, волне — волны, волн); ударение передвигается в винительном падеже на основу (рука — руку). Русское ударение прихотливо. Разнообразно оно в прилагательных и глаголах. Языковая норма требует неукоснительного соблюдения всех этих правил. Надежный помощник здесь — орфоэпический словарь. Правильность произношения слов определяется орфоэпией (от греч. orthos — «правильный» и 'ероs — «слово»).
В ОБЛАСТИ МОРФОЛОГИИ трудности нормы связаны с изменчивостью падежных окончаний. Например, в именах мужского рода II склонения известны две формы родительного падежа — на -а и -у, причем последняя употребляется только при обозначении количества (стакан квасу, мешок цементу; мало толку; шерсти мало, а визгу-то сколько) или с указанием на полноту/неполноту предмета, охваченного действием (купить винограду, налить соку). Этот второй родительный падеж допустим не со всеми именами, а только с теми, которые обозначают распространенные в быту предметы, особенно в разговорном стиле. В деловом стиле эта норма ослаблена. В беседе следует сказать: я купил пять метров ситцу, а в накладной пишется «пять метров ситца». Окончание -у появляется у тех же имен и в предложном падеже, если тот обозначает местонахождение. Он часто становится обязательным: невозможно сказать Дерево растет в лесе, а только в лесу. Но сочетание в лесе вполне возможно там, где лес означает не местность, а, например, стройматериал (В лесе, предназначенном для стройки, найден брак). В некоторых случаях возможны вариации (в цехе — в цеху, в отпуске — в отпуску). Есть вариации и во множественном числе имени. Окончания имен мужского рода на -а сначала были присущи только среднему роду, затем стали проникать и в мужской. Это явление начало формироваться в конце XIX в., когда вместо принятого профессоры, бухгалтеры появились формы профессора, бухгалтера. В настоящее время многие из них считаются нормативными, но шофера, договора, циркуля не вошли в литературный язык и считаются просторечиями. Вариации возможны: цехи — цеха, лагери — лагеря, редакторы — редактора, тополи — тополя. В родительном падеже множественного числа у тех же имен II склонения есть два варианта: нулевое окончание или -ов (сапог — сапогов, яблок — яблоков). Но окончания -ов из многих имен, хотя и вошли в живую речь, не стали нормой. Классический пример вульгарности — и всего-то делов или местов нету.
| Логичность речи - проблема не только языкознания, но и логики и психологии. Логика основана на трех законах: тождества (всякое А есть А), непротиворечивости (ни одно А не есть не А) и исключенного третьего (любой предмет есть либо А, либо не А). Их несоблюдение приводит к неясности; В целом организация спортивных соревнований была поставлена на высоком уровне. Из-за ошибок в работе судейской коллегии некоторые результаты были объявлены неправильно. Очевидно нарушение закона исключенного третьего (организация не может быть одновременно хорошей и заключать в себе ошибки). Частично логическую несообразность можно устранить, поставив перед первым предложением союз но или однако. Иногда законы логики нарушаются умышленно, для создания комического эффекта. Обычно для этого используется синонимия: Вот уже пятнадцать лет вкалывает в одном месте медсестра Иванова. Глагол вкалывать имеет два значения: прямое (делать укол) и переносное (усердно работать). В предложении не ясно, какое именно из них имеется в виду, нарушение закона тождества создает комический эффект. |
СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ связаны, во-первых, с правилами сочетаемости слов, во-вторых, с требованиями логики и понятности. Логические требования к высказыванию заключаются в соблюдении связности текста. Например, по законам русского языка деепричастие может относиться только к подлежащему. Поэтому увековеченное А. П. Чеховым — Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа — звучит комично: можно заключить, что подъезжала к станции и глядела на природу в окно сама шляпа, а не ее хозяин.
По преданию, древние люди решили построить огромную башню до небес, чтобы доказать, что они равны Богу. В ту пору они говорили на одном языке и легко понимали друг друга. Чтобы помешать им осуществить свое нечестивое намерение. Бог смешал их языки. Когда все заговорили по-разному, застопорилось их строительство. Люди разбежались во все стороны света и, утратив взаимопонимание, стали враждовать друг с другом. Так они были наказаны за свое самомнение. С тех пор многие великие умы старались преодолеть человеческую разобщенность.
|
Автор книги «Как возникнет всеобщий язык?» (1968) Э. П. Свадост предложил особый индекс - LA (от английского language artificiality - языковая искусственность) и классифицировал разные языки так: LA 1 - обиходный язык. Он менее всего искусствен. LA 2 - литературный язык. Здесь искусственность проявляется в выборе норм - одни варианты языка обязательны, другие запрещены. LA 3 -искусственные международные языки. Их искусственность касается грамматики и словарного запаса, которые изобретаются их создателями. LA 4 и 5-языки, у которых создана человеком выражаемая ими реальность. При этом индекс LA 4 имеют языки, обозначающие какие-либо процессы и состояния, а LA 5 - команды. Иными словами, язык химических формул может быть обозначен как LA 4, а язык программирования - LA 5. Свадост утверждал, что все национальные языки исчезнут и появится один всеобщий язык.
|
ЯЗЫК — общественное явление: он практически не зависит ни от природных условий, ни от воли одного человека. Язык появляется только в коллективе. Общность людей утверждает его нормы и изменения. Никто не может считать себя создателем ни одной фонемы или морфемы. Нет авторов у подавляющего большинства слов. Однако существуют не только отдельные слова, но и целые языки, созданные отдельными людьми. Они и называются искусственными. Цель этих языков — служить средством межнационального общения. Их творцы исходят из следующего соображения: объявить один язык международным — значит обидеть других и поставить всех в неравное положение. Те, для кого международный язык — родной, будут иметь преимущество перед остальными народами. Поэтому лучше создать язык, не связанный ни с какой национальностью, равно доступный всем. Так появляются проекты международных языков. Поскольку эти языки — продукт деятельности одного человека, то они и называются искусственными, противопоставляясь тем самым естественным.
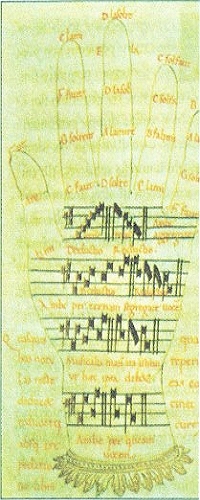 |
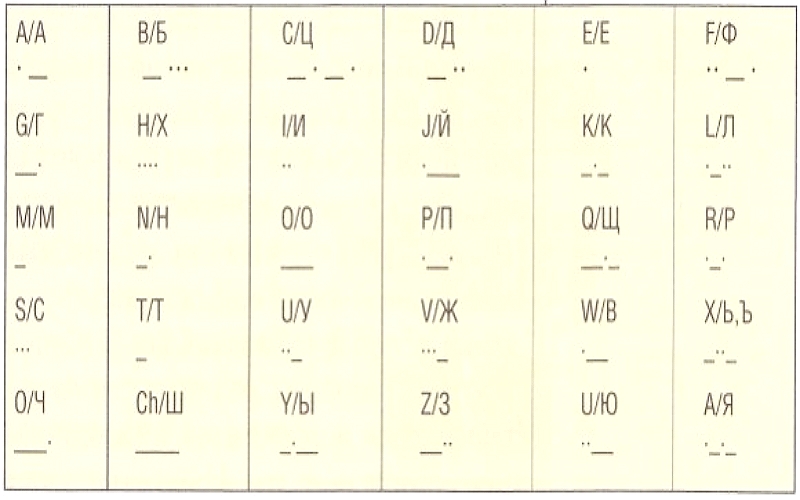 |
| Итальянец Гвидо Аретинский (X - XI вв.) изобрел систему записи нот - сольмизацию (по названию нот соль и ми). | Международная телеграфная азбука (с 1838) художника и изобретателя С.-Ф.-Б. Морзе. |
Понятие «искусственные языки» широко. Языком можно назвать любую символическую систему, знаки которой призваны передавать какую-либо информацию. Цифры и химические формулы — тоже языки, как и языки программирования. И к ним вполне приложимо определение «искусственный язык» (иначе «специальный»). Подобно любой созданной людьми вспомогательной знаковой системе они отражают только одну небольшую часть действительности: цифровой язык — количественные отношения, химический — состав вещества и его химические превращения, а язык программирования — запись команд. Этим они отличаются от международных языков, старающихся передать всю полноту и многообразие мира.
Элемент искусственности присутствует и в естественных языках. Язык официальной жизни (судопроизводства, канцелярии, дипломатии) требует устоявшихся норм, которые не могут появиться стихийно. Это литературный язык — собрание кодифицированных (установленных и собранных) норм, вариант родного языка, изучаемый в школе. Литературный язык обычно появляется в результате сознательной деятельности авторитетных языковедов и писателей (см. Языковая норма). В литературном языке присутствует элемент искусственности.
|
Формулы - способ емкой и быстрой передачи мысли и доводов исследователя с помощью величин, выраженных числами и буквами. Они соединены математическими знаками. |
ПРОЕКТЫ международных искусственных языков стали появляться достаточно давно. Люди считали свое многоязычие большим несчастьем, мешающим взаимопониманию. Многие ученые и мыслители изобретали языки, объединяющие человечество. Первым следует считать грека Анаксарха, о проекте которого имеются лишь отрывочные свидетельства. Сторонником создания международного языка был французский философ Рене Декарт, который в своих сочинениях размышлял над тем, как в языке отражается мир, и устанавливал универсальные законы для всех языков. Рукописи чешского педагога и мыслителя Я. А. Коменского, долгое время считавшиеся утерянными, содержат проект всемирного языка. Часть их обнаружена в 1930-е гг. и опубликована в 1966 г. В них обосновывается необходимость международного языка, описываются принципы его построения. От проекта сохранилось только самое начало, трактующее фонетику.
Первым искусственным международным языком, вошедшим в употребление, стал волапюк (от измененных английских слов world > vol — «мир» и speak > рик — «говорить»), предложенный в 1879 г. немецким пастором И. М. Шлейером. В него вошли сильно видоизменившиеся слова из основных европейских языков. Однако грамматика волапюка слишком сложна для того, чтобы он смог получить широкое распространение.
Другой знаменитый проект разработал варшавский врач А. Л. Заменхоф, взявший псевдоним Эсперанто («Надеющийся»). Грамматика языка эсперанто отличается простотой и доступностью: она укладывается в 16 правил. Словарный состав вобрал в себя мало измененные корни из английского, французского, немецкого, латыни и русского, причем большое количество эсперантских слов принадлежит к международной лексике — употребляется во всех европейских языках. Простота грамматики и узнаваемость лексики сделали эсперанто очень популярным. С конца XIX в. во всех странах стали появляться кружки эсперантистов; в настоящее время существует Международная академия эсперанто, издающая Большой словарь языка эсперанто. Эсперанто развивается, в нем по необходимости появляются новые слова, и именно Международная академия утверждает эти новшества и санкционирует их включение в словарь. На эсперанто издаются журналы. На этот язык переведены основные произведения мировой классики, в том числе пьесы У. Шекспира и романы Л. Н. Толстого, имеются и оригинальные художественные произведения. Грамматика языка эсперанто близка агглютинативным языкам (см. Тип языка. Типология), поэтому он получил распространение и на Востоке, в Азии.
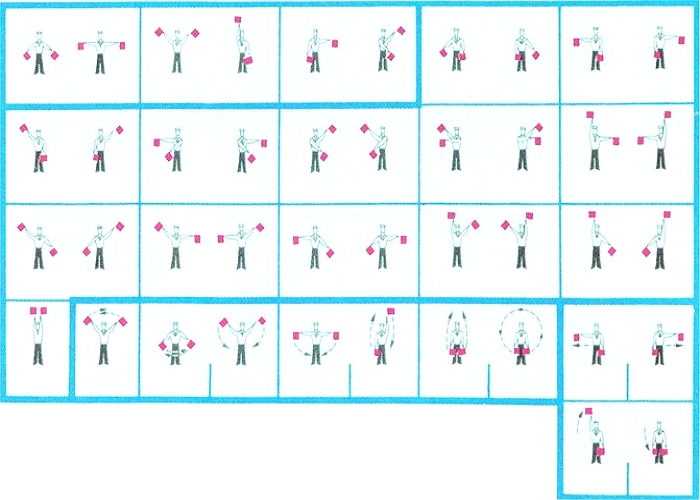 |
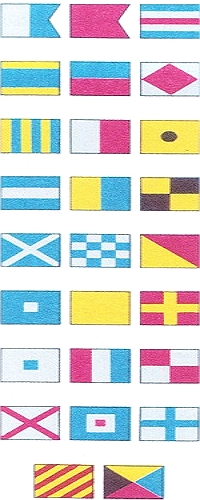 |
| Семафорная азбука (сигналами и флагами). | |
Эсперанто — самый распространенный, но не единственный из международных языков, появившихся в конце XIX и XX вв. Но ни один из искусственных языков не стал полноценным средством общения. Эсперанто тоже не полностью оправдал возложенные на него надежды. Все-таки он не стал по-настоящему международным языком, в этой своей роли он несравним с английским, который получил в настоящее время широчайшее распространение. Дело в том, что язык — не только и не столько средство общения. Первое назначение языка — хранить накопленную человечеством информацию о мире и человеке. Именно это и позволяет языку успешно исполнять его функции. Отсутствие такого базиса и помешало искусственным языкам выполнить возлагавшиеся на них задачи.
Огромное многообразие живого мира заключено всего в 12 аминокислотах. Несколько миллиардов генов составляют бесчисленную вариативность живых форм. К законам генных сочетаний и к расшифровке генома человека ученые пришли на рубеже тысячелетий. Природа играет с живыми и неживыми формами, пользуясь замысловатыми шифрами. Человек, подражая ей, создал множество знаковых систем для выражения и записи своих мыслей, намерений, устремлений. Мы окружены знаковой средой, которую некоторые ученые называют семиосферой. Находясь перед компьютером, который позволяет общаться с другом, живущим в отдаленном уголке планеты, не часто осознаешь, что посредником такого общения является простейший электронный импульс, выражающий элементарный знак: 1 или 0. Компьютер, передавший электронное письмо, всего лишь перевел на понятный вам язык длинную вереницу знаков.
|
Американский астронавт Нил Армстронг, ступив на поверхность Луны, произнес: «Это маленький шаг для человека и гигантский скачок для человечества». Сообщение было передано компьютером с помощью кода ASCII (Американский стандартный код обмена информацией). |
ДЕШИФРОВКА - прочтение неизвестного текста (от фр. dechiffrer — «прочесть неизвестное»), превращение его из непонятного в понятный. Всегда существуют тексты, в которых неизвестны либо тезаурус (см. Лексика), либо грамматика, либо и то и другое. В таких случаях говорят, что в тексте утерян ключ — способ записи информации. Задача дешифровки — найти этот ключ, прочитать текст.
Существуют бессознательная и сознательная дешифровки. Отчетливой границы между ними нет: любая дешифровка стремится стать в сознании живого организма автоматической и более кратковременной. Чтение любого текста и прослушивание сообщения — бессознательная дешифровка, ранее требовавшая приобретения специального навыка. Дешифровка и чтение географической карты или записей состояния земной коры и прием радиосигналов менее понятны большинству людей. Встречаясь с непонятным текстом, приходится не только сознательно проделывать операцию его толкования, но и специально разрабатывать приемы его перевода в знакомые понятия. Это и есть подлинная лингвистическая дешифровка. Различают два этапа дешифровки: чтение неизвестного текста — восстановление его звуковой стороны и его интерпретацию (от лат. interpretatio — «посредничество») — восстановление его содержания. Всякий текст — упорядоченный набор знаков. Для его понимания необходимо знать значение отдельных знаков, правила их сочетаний — словарь и грамматику. При этом под словарем в дешифровке понимают набор знаков, а под грамматикой — набор сочетаний знаков.
|
В 1802 г. немецкий гимназический учитель О. Гротефенд, изучая древнеперсидскую клинопись, сумел отождествить повторяющиеся цепочки знаков с именами персидских царей. Древнеперсидский язык состоял в близком родстве с известным к тому времени авестийским, поэтому ученый без большого труда его расшифровал. Страница из труда Гротефенда «К вопросу о расшифровке персепольских клинописных текстов» - вверху. |
СПЕЦИАЛИСТЫ пользуются несколькими приемами дешифровки: определение рода письменности (буквенное, слоговое, иероглифическое — см. Письмо. Графика), позиционный анализ, комбинаторный (широко использующие данные статистики) и этимологический методы. Часто они используются одновременно. Перед дешифровкой исследователь должен определить тип текста.
Тексты делятся на три группы: написанные неизвестным письмом на известном языке, известным письмом на неизвестном языке, неизвестным письмом на неизвестном языке. Первый случай — самый простой. Если известен язык, а неизвестен только алфавит, то соотнести его с известным алфавитом нетрудно. С такими шифрами столкнулись герои рассказов Э. По «Золотой жук» (1843) и А. Конан Дойла «Пляшущие человечки» (1891 - 1892). Герой «Золотого жука» предположил, что наиболее часто встречающийся знак должен соответствовать букве е. В этом случае два наиболее часто встречающихся перед ним знака надо трактовать как t и h — они составляют артикль. Шерлок Холмс установил, что у некоторых знаков есть особая деталь, которая обозначает конец слова. Так ему удалось найти в тексте неопределенный артикль а и соответствующую букву. Подставляя в текст найденные буквы, оба аналитика без труда нашли ключ. Оба героя использовали как статистический, так и позиционный приемы. Шифры были популярны в древности и Средневековье: они служили для тайнописи — сообщений, которые пишущий хочет сделать непонятными для окружающих (например, в дипломатической и военной переписке). Но, как показали Э. По и А. Конан Дойль, при известном навыке расшифровать письмо, где каждой букве соответствует только один знак, не составляет труда. Большим мастером такой дешифровки в XVI в. был великий французский математик Ф. Виет. Во время многочисленных войн, которые вела в его время Франция, он без труда читал всю секретную переписку неприятеля. Поэтому в новое время стали разрабатываться новые системы шифра, где не было однозначного соответствия символов и букв. Например, цифровые шифры, где слова записываются с помощью букв, отстоящих от нужной буквы на строго определенное количество мест. Ключом к такому шифру служат числа. Например, с помощью ключа 1 234 записывается Мой дядя самых честных правил. Результатом будет комбинация букв Нрм иажв хбэхупяц судгко. Без знания ключа расшифровка подобного сообщения весьма затруднительна.
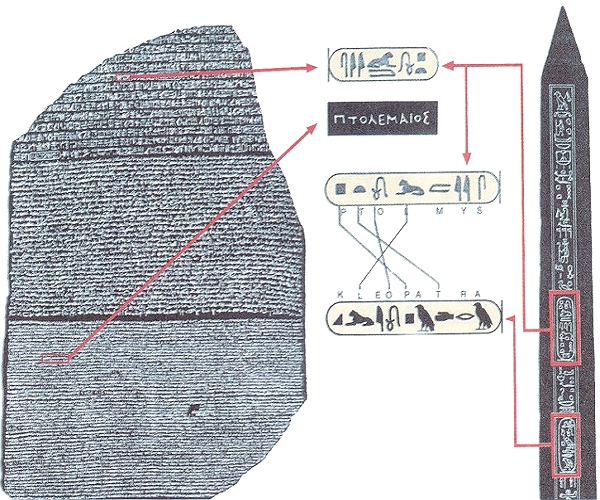 |
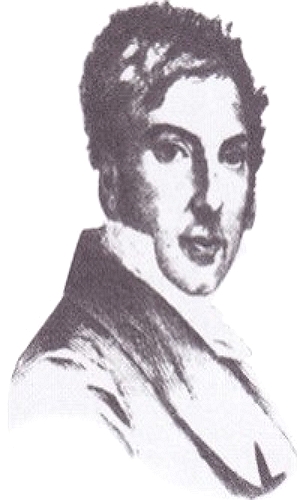 |
| Французский историк и
лингвист Ф.-Ж. Шампольон в 1822 г. прочитал египетские иероглифы. В его распоряжении была важная билингва - Розеттский камень (о. Фили), содержавший тексты на греческом и древнеегипетском языках, причем на последнем - в двух вариантах письма: иероглифическом и димотическом. Шампольон, знавший коптский язык, сумел отождествить отдельные египетские знаки и имена с греческими (Птолемеи и Клеопатра). Это стало ключом к дальнейшему прочтению. |
|
Разработка шифров развилась в отдельную науку — криптографию (от греч. kryptos — «скрывать» и grapho — «пишу»). Криптография составляет шифровые принципы и исследует способы расшифровки. Ею широко используются методы как математического и логического анализа, так и лингвистики. Ряд важных положений дешифровки был разработан американским математиком и криптографом К. Шенноном. Основным заказчиком криптографических исследований являются спецслужбы и финансовые институты.
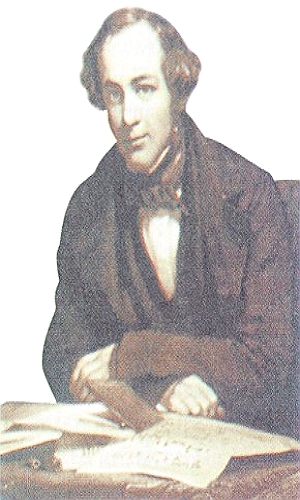 |
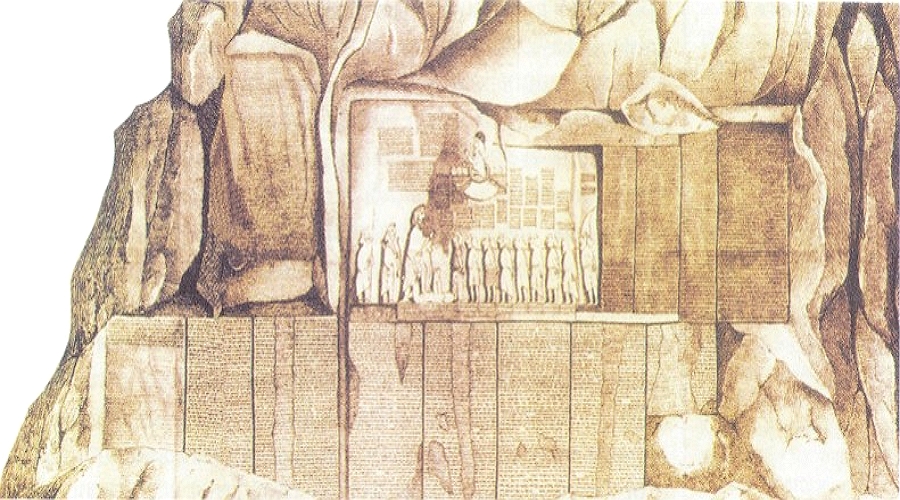 |
| В 1855 г. английский офицер и лингвист Г. Роулинсон (слева), находясь на высоте 100 м, перечертил, а затем и прочитал древнеаккадскую клинопись. Она была вырезана по указанию персидского царя Ксеркса. Это самая большая древнеперсидская надпись - Бехинстунская (справа) содержала тексты на трех языках; древне-персидском, аккадском и эламском. Прочтя сначала древнеперсидскую часть, Г. Роулинсон нашел в ней имена собственные, как и в аккадской части. Затем были прочтены и другие клинописи: шумерская, урартская. | |
Наличие нескольких текстов или большого количества знаков в одном позволяет определить характер письма: буквенное, слоговое и иероглифическое (см. Письмо. Графика). Несколько десятков различных знаков — буквенное письмо, несколько сотен — слоговое, большее количество — иероглифическое. Проще всего расшифровать неизвестное буквенное письмо на известном языке — оно поддается позиционному анализу. Дело в том, что в любом тексте количество согласных и гласных примерно одинаково, тогда как в языке гласных обычно в несколько раз меньше, чем согласных. Поэтому самая часто встречающаяся буква алфавитного письма обычно передает гласный звук. В речи гласные, как правило, окружены согласными. Язык стремится к плавности звучания: согласные перемежаются с гласными. Разбив весь текст на пары и тройки знаков и произведя несложные подсчеты, можно распределить все его буквы на гласные и согласные. Помогают и односложные слова (предлоги и союзы). Сравнивая их со звуковой и морфологической структурой языка используемого текста, можно довольно точно определить значения неизвестных знаков. Труднее прочесть слоговую или иероглифическую надпись. Но и тут приходят на помощь подсчеты: наиболее часто встречающиеся знаки обычно обозначают служебные слова или морфемы, которые нетрудно отождествить, — конечно, если язык известен.
|
М. Вентрис применил метод сопоставления списков слов, отличных друг от друга конечным знаком. Ему удалось установить нечто напоминающее склонение и спряжение. В 1953 г. Вентрису с помощью преподавателя древнегреческого языка в Оксфорде Дж. Чедвика удалось определить, что за «линейным письмом В» скрывается древнейший диалект греческого языка. Справа - Фестский диск (о. Крит) |
Иначе расшифровывается известное письмо на неизвестном языке. Встречаются надписи, сделанные на двух языках, — билингвы (от лат. bi — «дважды» и lingua — «язык»). Билингва помогает понять содержание текста и облегчает его интерпретацию. Если же билингв не найдено, исследователи широко используют комбинаторный метод: попытки на основании внешних данных догадаться о содержании надписи. В надгробной надписи часто встречаются высказывания: X (имя собственное) прожил столько-то лет или умер в таком-то возрасте, в надписи царей — царский титул, слово сын, родительный падеж или суффикс принадлежности предмета чему-либо (конструкции типа А сын Б, А Б-ов). Дешифруемые тексты сопоставляются с текстами на известных языках, написанными примерно в то же время и в том же месте, что и изучаемый язык (этот комбинаторный прием получил название квазибилингва, от лат. quasi — «как бы»). Это кропотливая и не всегда дающая точные результаты работа. Кроме этого к комбинаторному методу относятся все статистические подсчеты знаков и их сочетаний. Наиболее часто встречающиеся знаки могут быть морфемами и служебными словами. Если удается разбить текст на значимые слова и морфемы, это облегчает его понимание. Иногда удается сблизить его с известным языком. Другой метод дешифровки — этимологический, когда предполагается родство расшифровываемого языка с каким-нибудь другим, известным, и прочитанные фрагменты отождествляются с морфемами и словами этого языка. Недостаток метода состоит в том, что родственные связи неизвестного языка остаются неясными. Если же неизвестный язык удается связать с какой-либо языковой семьей, то он становится до некоторой степени понятным.
|
Пример неудачного этимологического анализа продемонстрировал итальянский лингвист А. Тромбетти - полиглот, говоривший на 70 языках и знакомый со всеми остальными. Он верил, что все языки мира родственны друг другу и, читая этрусские тексты, находил в них слова из всех известных ему языков. В одном из них была найдена фраза riin puian. Слово puian значило «жена». Слово же riin лингвист сравнил с греческим eramai «любить» и киргизским гi «дорогой», переведя как «любимая». Но позже выяснилось, что он неправильно разделил текст на слова. Фраза должна была читаться как zahri in puian и означать примерно «взять в жены». Общечеловеческого слова «любить» не оказалось. К этимологическому анализу прибегают только после комбинаторного.
Русский ученый Ю. В. Кнорозов в 1950 - 1960-х гг, внес большой вклад в изучение письменности майя. |
Для прочтения неизвестного письма на неизвестном языке приходится прибегать только к комбинаторным методам: подсчету частотности графем (букв и знаков — см. Письмо. Графика) и их сочетаний. Как уже отмечалось, наиболее часто повторяющиеся сочетания графем могут быть грамматическими показателями. Если же они — детерминативы (см. Письмо. Графика), то они указывают на конец или начало слова — помогают разделять слова. Задача исследователей облегчается, когда удается отождествить расшифрованный язык с известным. Большую роль играет объем текстов: чем их больше, тем легче и надежнее применять комбинаторные методы. В истории дешифровки известно много случаев, когда письменность представлена только одним памятником, не расшифрованным именно поэтому. Нахождение новых надписей способствует прогрессу дешифровки.
История славянских языков говорит об их происхождении из одного источника, языка, называемого праславянским, или общеславянским. С давних пор ученые пытаются определить, когда сформировался этот язык и где именно проживали в то время люди, говорившие на нем. Другими словами, какую территорию можно считать прародиной славян. Представители разных наук пытаются найти ответ на этот вопрос.
| Изучая названия различных деревьев, исследователи обратили внимание на то, что наименования некоторых из них, например бука и тиса, являются в славянских языках заимствованными. Зная ареал распространения этих деревьев (а они не растут восточнее рек Вислы и Днестра), можно сделать определенные выводы о границе между славянами и народами, из языка которых были заимствованы слова. Морская терминология у славян чаще всего заимствована, названия болот, лесов, озер - общеславянские, что позволяет предположить характер местности, где проживали предки современных славян. Эти выводы относительны, поскольку ботанические и зоологические зоны непостоянны. Поэтому названия природных объектов могут характеризовать тот период существования общеславянского языка, когда праславяне занимали один из предполагаемых районов проживания. |
ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ о предках славян относятся к I - II вв. н. э. Это сообщения таких античных авторов, как Плиний Старший, Тацит, Птолемей, о племени венедов, занимавших земли восточнее реки Висла, между Балтийским морем и Карпатами, называвшимися Венедским заливом и Венедскими горами. Достоверные сведения о древних славянских племенах известны лишь из более поздних византийских источников. В VI в. н. э. отмечено само наименование «славяне», или «словене».
В результате археологических исследований появляются уникальные сведения о предках современных славян. На их основании можно говорить о славянской принадлежности пражско-корчакской культуры, датируемой серединой I тыс. н. э., представители которой занимали территорию от верхней Эльбы на западе до Припятского Полесья на востоке.
ЯЗЫКОЗНАНИЕ использует данные, полученные археологами, историками, фольклористами, этнографами. Однако в поисках территории прародины славян и при решении проблемы их этнического происхождения особая роль отводится именно лингвистике.
Это связано с тем, что только на основе языковых данных можно определить принадлежность многих материальных памятников, изучаемых археологией, к культуре определенного этноса. Важно, что и древние люди не делали различия между языком и народом, который говорит на нем. Исследование языка позволяет изучить то время в жизни народа, о котором нет прямых письменных свидетельств.
Исследование прародины славян по данным языка опирается на изучение языковых взаимосвязей славян древнейшей поры и их соседей, географию распространения различных групп лексики (которую можно считать праславянской), данные топонимики (названия населенных пунктов и частей местности — от греч. topos — «место» и onyma — «имя») и др.
Особый научный интерес вызывает анализ языковых контактов праславян с теми племенами, территория расселения которых известна более достоверно. Так, существуют сведения о землях, которые во второй половине I тыс. до н. э. — первой половине I тыс. н. э. занимали древние германцы, кельты, балты.
Частными разделами топонимики являются ойконимия (от греч. oikos — «дом») — изучение названий жилищ и построек, гидронимия (от греч. hydor — «вода») — поиск истоков названий рек, озер и других водоемов (например, название реки Волги (от влага); оронимия (от греч. 'oros — «гора») — объяснение названий особенностей рельефа, космонимия (от греч. kosmos — «вселенная»). Анализ лексики праславянского и прагерманского языков показывает, что проникновение слов было возможным только в случае непосредственных контактов соседствующих племен.
| Нет единого мнения об определении
территории начального расселения славян. Согласно висло-одерской
гипотезе, исконной территорией славян были бассейны рек Вислы и
Одера (земли современной Польши). Именно здесь, по мнению
сторонников теории, могли осуществляться языковые контакты славян с
древними германцами, балтами и иранцами. В соответствии со
среднеднепровской гипотезой племена древних славян перед своим
историческим расселением занимали территорию южнее Припяти и
ограниченную приблизительно рекой Западный Буг на западе и средним
течением реки Днепра на востоке. Находит сейчас аргументированную защиту одна из самых старых гипотез о территории происхождения славянского этноса - дунайская. В соответствии с этой гипотезой, основанной на свидетельстве древнерусского летописца Нестора, а также на основе современных исследований, прародиной славян была территория среднего и нижнего течения Дуная. |
Изучение топонимов (например, гидронимов) является важной стороной исследования жизни народов. Анализ гидронимии Восточной Европы показывает, что севернее реки Припяти преобладают названия рек, балтийские по происхождению, на севере России и в восточной ее части — финно-угорские, а на юге — иранские. Славянские гидронимы встречаются южнее реки Припяти. Лингвистами сравниваются названия растений, животных и птиц, которые дают им люди, говорящие на разных языках. Но учет зоологических и биологических наименований зависит от конкретных климатических и даже экологических условий той или иной эпохи: со временем в различных регионах континента меняется состав флоры и фауны. Стало очевидным, что требовалась теория происхождения славян, одновременно учитывающая несколько факторов.
Поэтому на рубеже XIX - XX вв. А. А. Шахматов
предложил концепцию двух славянских прародин — первой, где сложился
праславянский язык, и второй, откуда началось расселение славян. Последняя, по
его мнению, находилась в бассейне реки Вислы.
Славянские языки принадлежат к индоевропейской семье языков и делятся на три группы — восточнославянскую (русский, украинский, белорусский), западнославянскую (польский, чешский, словацкий, серболужицкий и исчезнувший полабский) и южнославянскую (болгарский, македонский, сербохорватский, словенский), а также включают единый книжный язык славянского Средневековья — старославянский язык.
|
Фреска в Охридском монастыре Святого Наума (Македония): Кирилл, Мефодий, Климент Охридский, Наум, Горазд, Савва и Ангеларий, которые, по преданию, дали славянам грамоту. |
Подобно тому как дерево вырастает из корня, ствол его постепенно крепнет, поднимается к небу и ветвится, славянские языки выросли из праславянского языка, корни которого уходят глубоко в индоевропейский язык (см. Индоевропейская семья языков). Эта аллегорическая картинка послужила основой для теории «родословного древа», которая применительно к славянской семье языков может быть принята в общих чертах и исторически обоснована.
|
Лист из Хлудовской Псалтири (Византия, XI в.). |
СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОВОЕ ДРЕВО имеет три основные ветви: восточнославянские языки, западнославянские языки, южнославянские языки. Эти ветви-группы разветвляются, в свою очередь, на более мелкие. Так, восточнославянская ветвь имеет три основных ответвления-языка: русский, украинский и белорусский, а ветка русского языка имеет, в свою очередь, две основные ветви — севернорусское и южнорусское наречия (см. Диалект).
При изучении, например, южнорусского наречия будет видно, как в нем выделяются ветки-зоны смоленских, верхнеднепровских, верхнедеснинских, курско-орловских, рязанских, брянско-жиздринских, тульских, елецких и оскольских говоров. Далее есть еще веточки с многочисленными листочками — говорами отдельных деревень и населенных пунктов.
|
Одна из древнейших русских надписей («Борисовский камень» Полоцкое царство - Западная Двина). |
Такое языковое «древо» выросло не сразу. Основной языковой праславянский «ствол» и основные его ветви старше более мелких ветвей. В процессе языковой эволюции отдельные языковые или речевые образования отмирали, другие принудительно изымались из культурного оборота. Однако представленный принцип классификации славянских языков и диалектов относится к естественным славянским языкам и диалектам, к славянской языковой стихии вне ее письменного обличья, без нормативно-письменной формы. И если не сразу появились отдельные языки и диалекты, то не сразу появлялись и созданные на их основе письменные, книжные, литературные языки.
В современном славянском мире кроме национальных литературных языков, нормированных и многофункциональных, которые обслуживают сферы письменной, художественной, деловой, устной, бытовой и разговорной, а также сценической речи, существуют «малые» литературные языки, почти всегда ярко диалектно окрашенные. Обычно они ограниченно употребляются наряду с национальными литературными языками и обслуживают малочисленные этнические группы или даже отдельные литературные жанры. Такие языки есть и в Западной Европе. У славян известны русинский язык (в Югославии), кайкавский и чакавский языки (в Хорватии и Австрии), кашубский язык (в Польше), ляшский язык (на чешско-польском пограничье).
Славянская письменность возникла в ту пору, когда славяне после пребывания на своей прародине и интенсивного расселения на юго-запад, запад и восток (после Великого переселения народов) начали создавать свои государства: Киевская Русь, Великая Моравия, Польша, Болгария, Сербия и Хорватия, которые в IX в. достигли расцвета. Соседство с новыми народами, непривычный жизненный уклад и новое миропонимание, пришедшее на смену древнему язычеству, требовали развития новых форм духовной культуры, прежде всего — книжной, которая частично замещала бы или дополняла исконную славянскую устную традицию. Нужна была своя письменность, свой славянский книжный язык и книжная образованность.
|
На
миниатюре Радзивилловской летописи XIII в. Кирилл и Мефодий
переводят на славянский язык Апостол и Евангелие. Начиная с XI в.
старославянский язык стал все интенсивнее приобретать в Болгарии, в
Сербии, на Руси и на других землях некоторые местные черты. Так
возникали редакции, т. е. варианты письменного языка, который
развивался до XVIII в. включительно и назывался |
СОЗДАТЕЛЯМИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ были просвещенные братья Кирилл (в миру — Константин) и Мефодий, называемые еще солунскими братьями; они были родом из греческого г. Салоники (по-славянски Солун). По просьбе моравского князя Ростислава и по поручению византийского императора Михаила III они в 863 г. привезли в Великую Моравию первые книги на славянском языке, предназначенные для богослужения и просвещения славян. Кирилл сам был автором богословских сочинений (например, ему приписывается «Писание о правой вере»), а Мефодий полностью перевел Библию.
ПЕРВОЙ СЛАВЯНСКОЙ АЗБУКОЙ была глаголица. Предполагают, что ее и создал Кирилл. В это же время существовала другая азбука, которую называют кириллицей. Глаголическим или кириллическим письмом пользовались Кирилл и Мефодий и их ученики. Но каким именно, ученые до сих пор точно не определили. Это связано с отсутствием подлинных рукописей тех времен. Древнейшие известные памятники, написанные глаголицей и кириллицей, относятся к X - XI вв. (X в. датируется лишь один памятник — глаголический отрывок мессы, хранящийся в Киеве и потому называющийся Киевские листки). Почти все они возникли два века спустя после первых славянских переводов Кирилла и Мефодия.
Более древние памятники, в том числе и Киевские листки с отдельными языковыми моравскими особенностями, писаны глаголицей. Об этом же говорят дошедшие до нас глаголическо-кириллические палимпсесты (от греч. palin — «снова» и psaio — «скоблю») — рукописи, в которых на пергаменте (от греч. Pergamos — по названию г. Пергама в Малой Азии, где выделывали телячью кожу в виде листов), т. е. рукописи, в которых соскоблен первоначальный текст и написан новый. Все они одного типа — кириллица всегда писана по стертой глаголице, и нет ни одной рукописи, в которой бы была соскоблена кириллица и по ней написана глаголица.
| Были попытки вывести глаголицу и славянское письмо из таинственных черноморских знаков на каменных плитах, обожженной глине, пряжках и монетах и доказать, что славянское письмо существовало до Кирилла и Мефодия. Но эта неудачная гипотеза потерпела окончательный провал, когда ученый из Киева В. С. Драчук в начале 1970-х гг. создал систематические таблицы черноморских знаков. Он убедительно доказал, что загадочное письмо - это клейма «тамги» - знаки принадлежности владельцам или мастерам I - III вв. н. э. К письменности славян они не имели никакого отношения. В тех славянских странах, где было сильно влияние Византии и распространено православное вероисповедание, глаголица была давно заменена кириллицей (вероятно, после XI в. или даже ранее). Она немного меняла внешний вид, но в общем сохранила свой исконный облик до начала XVIII в., когда была преобразована, и сохранилась только в церковных книгах. |
Серьезной загадкой остается происхождение глаголических букв. Многие более древние алфавиты (например, латинский и греческий) создавались по образцу своих «родственников» — ранее существовавших алфавитов, которые брались за основу и приспосабливались к фонетике языка, принимающего чужое письмо: часть букв добавлялась, какие-то видоизменялись, а основной фонд оставался неизменным. Так по образцу греческого унциала была создана кириллица. Ученые предполагают, что это произошло на соборе в Преславе, в столице болгарского царя Симеона, в 893 г. Подобным образом появилось латинское письмо — латиница, по образцу того же греческого. Но и само греческое письмо и названия греческих букв возникли под влиянием семитического финикийского письма, что было известно еще Черноризцу Храбру. Подобное происхождение предполагалось и для глаголицы. Ее истоки искали в греческой скорописи (минускульное письмо), в алфавитах — коптском, древнееврейском (откуда взята буква Ш, заимствованная позже кириллицей), готском, руническом, армянском и грузинском. Очертания некоторых глаголических букв совпадали с упомянутыми алфавитами или напоминали их. Но доказать происхождение глаголицы из какого-либо другого алфавита не удалось.
Глаголица долго бытовала у хорватов-католиков в Северной Далмации, в церковном и светском обиходе и окончательно вышла из употребления лишь в начале XX в.
Древнейшим литературным славянским языком был старославянский, на котором были написаны глаголические и кириллические памятники. Его основой был говор солунских славян, возведенный в ранг книжного языка. Этот диалект воспринял значительное число грецизмов, моравизмов и иных особенностей.
Славистика... Это мелодично звучащее слово довольно редко используется в нашей речи, но хорошо известно в мире. А у нас обычно говорят: славяноведение или славянская филология. Может быть, потому, что эти два слова точнее всего передают смысл высказываемого: славянская филология — это именно любовь к славянскому слову, изучение славянского слова во всех его проявлениях.
|
Разворот Остромирова Евангелия. |
СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ (славистика) — комплекс наук, изучающих языки, диалекты, литературу и фольклор славянских народов; их происхождение, историю, современное состояние.
Филология дословно означает «любовь к слову» (от греч. phileo и logos)] в науку термин «филология» введен немецким ученым XVIII —XIX вв. Ф. А. Вольфом. Славянская филология занимается изучением славянского слова во всех областях словесной культуры: языковой (языки и диалекты, литературные языки и стили), литературной (письменность и литература) и фольклорной (славянское народное творчество). Она образует комплекс наук, называемых славянским языкознанием, литературоведением и фольклористикой. В узком понимании славянская филология — это исследование текстов на славянских языках, наука о славянской письменности, ее возникновении и развитии, о древних и новых рукописных и книжных памятниках славянских народов. Филология имеет большое практическое значение: по языку, манере письма можно определять время и место возникновения памятников письменности, нередко и их авторство. Кроме славянской филологии, в науке существуют, например, германистика, востоковедение. Но такие отрасли филологии появились лишь в XIX в. под влиянием романтического миропонимания. Ранее говорили о классической филологии, предметом изучения которой был античный мир и древние тексты.
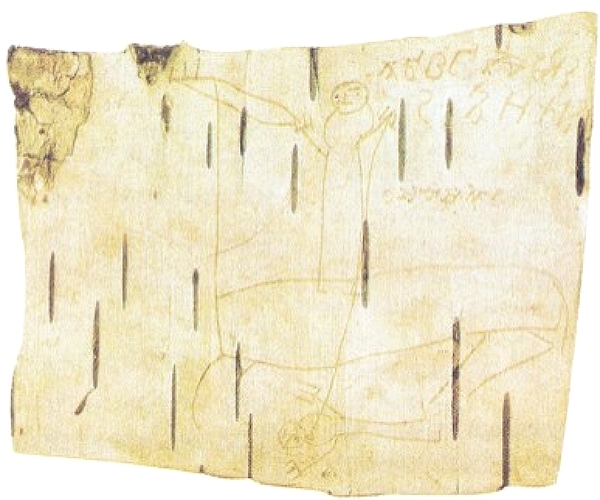 |
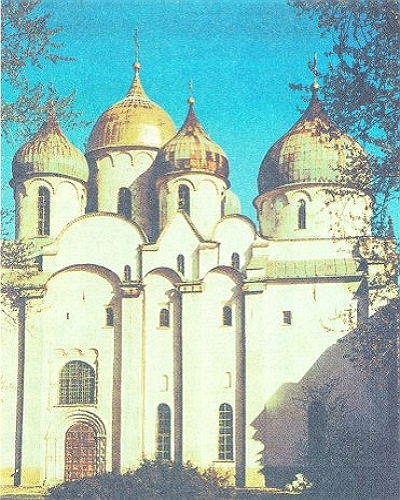 |
|
Берестяные грамоты Новгорода (на фото слева - рисунки и письмо на бересте мальчика Онфима, жившего в XIII в.) дают представление о развитии языка и диалектов славян, рассказывают о личных и хозяйственных делах горожан. |
|
НАУКА О СЛОВЕСНОСТИ предусматривает бережное и по-научному строгое (отчасти ревностное) отношение к слову. Она требует предельной точности, документированности и достоверности исследований, не допускающих во имя «красоты» или «полноты» никаких дорисовок, вымыслов и подделок. Однако такие подделки в истории филологии бывали, и на примере их разоблачения обнаруживалась сущность научных филологических методов и самых разнообразных приемов исследования, которые дополняли друг друга и связывали филологию с другими гуманитарными науками — историей, этнографией, психологией, философией и социологией.
Разоблачение филологических мистификаций напоминает не только об этике науки, но и о необходимости пристального внимания к подлинным текстам. Причем текстом современная филология считает и любую старинную запись (будь то новгородская берестяная грамота или «Повесть временных лет» (ок. 1113) киевского летописца Нестора), и записанную диалектную речь, песню или обряд.
В западноевропейской науке под фольклором (от англ. folk — «народ» и lore — «мудрость») часто подразумевают всю народную культуру: устройство крестьянского жилища и смысл его деталей (окон, двери, печи и др.), утварь — предметы быта и сельскохозяйственные орудия (сосуды, колыбели — люльки, прялки, сохи и плуги), народные обряды (свадьба, похороны, поминки и др.) и народные верования. Одним из предметов изучения фольклористов в этом случае оказывается устное народное творчество — исторические и лирические песни, сказки, предания, пословицы и поговорки, в которых отражены народные представления о жизни.
В русской науке фольклор трактуется более узко. Фольклор — только устное народное творчество, народная словесность. Верования, обряды, быт народа изучает другая наука, тесно связанная с фольклористикой, — этнография (от греч. ethnos — «народ» и grapho — «пишу»).
|
Современный человек, например ребенок, знакомится с произведениями народной словесности обычно по книгам. В деревнях произведения некоторых жанров уже не поются. Для современных ученых большая удача записать хотя бы обрывок былины. Фольклорные произведения записываются ими на магнитофон, затем анализируются. Но на магнитофоне можно слушать и современные песни. Важна форма бытования произведения. Письменный или печатный текст обычно устойчив и неизменен; тексты А. С. Пушкина или Л. Н. Толстого должны быть одинаковы в разных изданиях. У письменного текста есть автор даже тогда, когда создатель утаил свое имя (так, в древнерусской литературе его роль была не столь велика, как в Новое время, - он подражал другим произведениям, строго следовал канонам). |
ФОЛЬКЛОР нельзя назвать «устной литературой» или «народной литературой». Фольклористика, хотя и изучает искусство слова, отделяет себя от литературоведения как самостоятельную науку. Словом «литература» (от лат. littera — «буква») принято называть только письменную словесность — тексты, которые изначально создавались для записи или напечатания. Между древнеегипетскими свитками из лотоса — папирусами, древнерусскими книгами, которые изготовлялись не только из бумаги, но и из телячьей кожи (пергамента), и современными книгами, напечатанными типографским способом, на первый взгляд нет ничего общего. Но сколь ни различны материалы, из которых изготовлялись древние, средневековые или нынешние книги, на них неизменно наносились буквы, составляющие словесный текст. Фольклор же в отличие от литературы — дописьменная словесность. Произведения устного народного творчества рассказываются (сказки, предания) или поются (былины, песни, частушки). Исполнение некоторых песен может сопровождаться пляской и танцем (хороводные, обрядовые песни).
Бессмысленно говорить об авторах фольклорных произведений. Неизвестны авторы сказки об Иване Царевиче и Василисе Прекрасной или былины об Илье Муромце и Соловье-разбойнике. Сказки рассказывались, а былины пелись из поколения в поколение. Они существуют во множестве вариантов, и фольклористам известны только имена недавних исполнителей, от которых были сделаны записи. Даже если письменный, литературный текст изменялся под пером переписчиков, исследователь может, сопоставив разные варианты, установить его приблизительный авторский вид. Но определить первичный облик фольклорного произведения нельзя. Каждый из сказителей рассказывает сказку или былину по-разному. Фольклорные произведения неизменно строятся как набор устойчивых, неизменных выражений. Так, враг русских богатырей изображается сходным образом в разных былинах. Неизменно вооружение былинного героя: это черкесское кованое седло, вострая сабля, разрывчатый лук с шелковой тетивой и калеными стрелами, крепкие доспехи. Татары, с которыми сражаются богатыри, именуются погаными, и даже сам их предводитель Калин-царь говорит о них так: «Ай же вы, мои татары, // Ай же вы, мои поганые». Царевна из волшебных сказок всегда прекрасна, и о красоте ее говорится одними и теми же словами: «Ни в сказке сказать, ни пером описать».
|
В 1830-х гг. поэт Н. М. Языков записал в селе Старая Ярыкла Симбирской губернии два варианта одной свадебной песни, в которой девушка оплакивает разлуку с родным домом. В первом варианте поется:
«На мори утушка купалася, На синиим серая полоскалася...
Иллюстрация И. Билибина к «Сказке об Иване Царевиче, жар-птице и о Сером Волке» |
Оригинальность фольклорных произведений проявляется в варьировании и новом сочетании постоянных выражений. Благодаря тому, что фольклорные произведения строятся из повторяющихся фрагментов, постоянных выражений или их групп (мотивов), сказителю проще запомнить произведение и воспроизвести его при новом исполнении. Главное для сказителя — помнить набор таких высказываний и фрагментов, знать правила их соединения.
Жанры устного народного творчества в отличие от литературных имеют не просто художественное значение. Если сказка и для исполнителей, и для слушателей — вымысел, то былина, несмотря на наличие фантастических и неправдоподобных элементов, считалась в народе повествованием об истинных событиях далекого прошлого. Песни, исполняемые при обрядах, приуроченных к концу зимы и приходу весны, имеют магическую природу — ускорить приход весеннего времени года. Заговоры имеют заклинательный смысл: например, излечить заговариваемого от боли или приворожить, заставить женщину или мужчину полюбить кого-либо и др.
История фольклора восходит к глубокой древности. Мифы, сказки и предания существовали уже у первобытных людей. Они известны тем народам Африки, Австралии и Америки, чья культура и сейчас, по-видимому, сходна с культурой древних людей. Изучение совершенно разных фольклорных жанров (от пословицы и дразнилки до исторической песни и легенды) позволяет представить себе картину мира, созданную сознанием давно живших людей в различных частях планеты. Первые сказки были записаны египтянами еще за много лет до нашей эры.
|
Мотив выбора и поимки богатырем могучего коня, который может выдержать тяжесть богатырской руки, встречается в эпосе разных народов. Конь богатыря может быть крылатым: таковы скакун Ябчило воеводы Момчило из сербского эпоса, конь воителя Алпамыша и конь Гират богатыря Гороглы в узбекском эпосе. Конь русского былинного Ильи Муромца не крылат, но одарен способностью взмывать под небеса: «Реки да озера промеж ног пустил, // Перелесочки да перескакивал...» Богатыри чудесно рождаются от фантастических существ, как сыновья Змея Вук, Марко Кралевич, Милош Обилич. Сыном Змея является персонаж русских былин, герой-чародей Волх Всеславьевич. В болгарских и хорватских песнях, в македонских богатырских сказках рассказывается о женитьбе богатыря на волшебной деве; такой сюжет известен и русским былинам.
|
ДРЕВНЕЙШИЙ ФОЛЬКЛОР составляли мифы о сотворении мира, происхождении людей, богах и героях, добывших огонь, изготовивших орудия для охоты. Мифы самых разных народов удивительно похожи. Например, в фольклоре Индии, Австралии, Южной и Северной Америки, Африки, островов Новой Гвинеи и Меланезии рассказывается о Всемирном потопе. Такое сходство мифологии разных народов объясняется не заимствованием и обычно не общим происхождением, а сходством древнего, архаического сознания, представлений, присущих людям далекого прошлого. В мифы люди верили, видели в них истину. Но не менее древними, чем мифы, были сказки. В сказки люди не верили уже в древности, и рассказывались они для развлечения.
Сюжеты сказок многих народов так же похожи, как и мифы. Например, сюжет, совпадающий с французской сказкой о Коте в сапогах, записанной и обработанной французским писателем XVII в. Ш. Перро, встречается у многих народов Европы и Азии, и объяснить распространение такого сюжета простым заимствованием невозможно, в сказках отражены похожие верования и обряды, существовавшие у разных народов, которые превратились в «строительный материал» для создания вымышленных сюжетов. Например, истории о чудесном коте или другом животном, помогающем своему хозяину, — отдаленный отголосок древней веры в животных — покровителей рода или племени — тотемов (см. Особенности сказок). Отражением давней веры в сверхъестественные существа были богатырские сказки о победе героев над змеями, драконами.
Древнейший жанр фольклора — заговор, заклинание. В магию слова верили и на Древнем Востоке, и в античных Греции и Риме. Обрядовые песни, призванные ускорить приход весны, увеличить будущий урожай или охранить вступающих в брак от злых сил, известны всем народам. К числу древних жанров относятся эпические сказания и поэмы — повествования о подвигах героев, побеждающих на поединках с соперниками, защищающих родную землю от иноземцев. Древнегреческие поэмы «Илиада» и «Одиссея» (IX - VIII вв. до н. э.), приписываемые сказителю Гомеру, средневековая немецкая «Песнь о Нибелунгах» (запис. ок. 1225), скандинавская «Старшая Эдда» (составлена в XI - XII вв.) — свод поэм о богах и героях, старофранцузская «Песнь о Роланде» (XI в.), о борьбе французского императора Карла с арабами, — памятники письменные. Но в их основе лежат фольклорные произведения. Их стиль напоминает фольклорные героические песни. В русском фольклоре героический эпос — былины о киевских богатырях. У южных славян — болгар и сербов — вместо былин существовали юнацкие песни: о подвигах смелых воинов — юнаков — в борьбе против турок, пленивших Болгарию и Сербию.
|
Отношение
к драконам в фольклоре и мировоззрении народов было различным. |
Существенную роль в изучении фольклора играет сравнительно-исторический метод исследования. Существует несколько способов исследования: историко-генетическое, историко-типологическое и установление международных взаимодействий культур. Историко-генетическое исследование рассматривает единство между явлениями как результат их родства по происхождению и последующих исторических расхождений (например, сказка некогда единого этноса — русских, украинцев, белорусов). Историко-типологическое сравнение объясняет сходство генетически между собою не связанных явлений общими условиями общественного развития (русские песни о воинских подвигах).
Обряд — особое поэтическое обращение человека к окружающему миру, природе. Фольклорный обряд означает перерождение путем воображаемого перехода в иной мир (жизнь — смерть — жизнь). Это лирическое прощание со старым в жизни человека, его семьи и рода или в природных циклах. Человек восторженно проживает свою «весну», проявляет свои самые яркие качества в свое «лето», испытывает усталость в годы зрелости («осени»), подводит итоги и переходит в мир предков в «зимние годы». В фольклорном обряде нет страха перед смертью, есть только осознание непрерывности и единства существования всего на свете (деревьев и трав, домашних животных и человека, воды и камней, воздуха и огня и т. д.).
|
Роспись прялки (Пермогорье, середина XIX в.). |
Произведения народной словесности принято делить на обрядовые и необрядовые. Исполнение — произнесение или пение — обрядовых произведений сопровождается действиями или плясками. Эти действия всегда должны совершаться в определенной ситуации. Многие фольклорные произведения, например любовные песни и даже детские песенки, ныне бытующие самостоятельно, были прежде частью обрядов, например свадебного. Но некоторые песни, более тесно связанные с обрядовыми действиями, бытовали и нередко до сих пор сохранились только в составе обрядов. Обрядовый фольклор (основу составляют песни, но встречаются и прозаические тексты) принято делить на семейно-бытовой и календарный. Произведения календарного фольклора приурочены к народным ежегодным праздникам, имевшим земледельческий характер.
Семейно-бытовой фольклор — произведения, связанные со свадебным и похоронным обрядами. Участие в таких обрядах связывалось с наступлением очередного этапа в жизни человека и обретением им новой общественной значимости (зрелый муж, родительство, умерший предок и др.).
Заключение брака в старинной деревне было длительной и сложной церемонией. Сговору, сватовству предшествовали особые вечериночные игры молодежи долгими осенними и зимними вечерами. На них пелись величальные припевки, предваряющие будущие свадебные величания, называющие имена будущих жениха и невесты и говорящие об их чувствах друг к другу. Эти величания были еще предсвадебной игрой, а не обрядом: не всегда названные в припевках парень и девушка становились мужем и женой.
|
Плакала невеста и в песнях, которые исполняла в кругу подруг-девушек на обряде-девичнике накануне свадьбы:
«Полетай-ка, моя молодость. Что на саму на вершиночку. На вершиночку да на елиночку...»
Мать с сыном-женихом пришли в гости к родителям. |
Свадебный обряд состоял из ряда последовательных действий, ни одно из которых не пропускалось. Он начинается сватовством (сваты — родители или близкие родственники жениха — приходят в дом родителей невесты), затем происходит «глядение» невестиной родней хозяйства жениха, после этого совершается рукобитье. Сваты жениха и невесты бьют по рукам через стол, который символизирует последнюю преграду между родом жениха и невесты. После рукобитья расстроить свадьбу было уже невозможно. Закончив сватовство, невеста, даже если жених был ей мил, поет унылые песни-плачи. В песнях она просит брата защитить ее, сравнивая себя с птицей, теряющей красивые перья, с белой лебедью, жалующейся соколу, с тонкой березкой, которая от тоски клонится до земли. После сватовства и рукобитья невеста снова должна «реветь». В ответ ей поют подружки, а невеста отвечает им. Песни, которыми невеста оплакивает свою девическую жизнь и переезд в дом жениха, похожи на причитания плакальщиц на похоронах: символом и замужества, и смерти в свадебном и похоронном обрядах было перемещение, долгий путь в чужую сторонушку — в новый дом или в мир смерти. Смерть и замужество в старину осмыслялись как переход в иное состояние: девушка, выходя замуж, становилась совсем другой, она как бы умирала для своего прежнего рода и рождалась заново в роде мужа. Новобрачная становилась зрелой женщиной. А умерший, по древним поверьям, начинал жить в загробном царстве. Существовал особый обряд — инициация. Он был связан с переходом юноши в мир взрослых. Часто взрослеющих детей временно помещали в отдельное «страшное» место: человек должен был найти выход из создавшейся критической ситуации и перебороть свой страх.
|
«Свадебный пир в Торопце». Неизвестный художник (XVIII в.). |
На свадьбе пелись не только грустные песни. Гости на свадебном пире воспевали взаимную любовь и согласие молодых, прибегали к поэтическим символам. Таковы в песнях совместная вкусная еда и взаимное угощение сладким вином, совместная ловля золотых и жемчужных прекрасных рыб, собирание рассыпанного бисера, пляска, игра на гуслях. Обрядовые песни и совершаемые действия представляли брак как похищение или куплю невесты. В роли купца, похитителя, охотника, хищной птицы выступал жених. В то время как невеста пела песни-плачи, в которых заявляла, что страшится жизни в новом доме, тяжелой работы, неласкового отношения новой родни, остальная молодежь пела веселые песни, величания супругам, их родителям и почетным гостям на свадьбе. А в адрес дружки, сватов и свах пелись песни насмешливые, сам же дружка произносил насмешливые прозаические речения — приговоры, обращенные к девушкам, детям, ворчливым старухам и т. д. Особые песни, называемые корильными, пелись в конце свадебного пира. Например, сваха укорялась за то, что выбрала жениху жену неказистую и неблаговидную, а ей нашла плохого, завалящего жениха. Эти укоризны были предназначены не столько для гостей, сколько для потусторонних сил: чтобы не вызвать их зависть, должно было делать вид, будто в доме молодых все и так плохо. И прославление молодых супругов, и свадебное веселье должны были принести благополучие молодому мужу и молодой жене.
На похоронах профессиональными плакальщицами (вопленицами) исполняются причитания. Эти плачи сопровождают все эпизоды похоронного обряда: обряжение покойника в погребальные одежды, прощание с ним перед выносом, погружение в землю, возвращение родных в опустевшую избу. Плачи отличает от остальной народной поэзии особый стихотворный размер: они сложены хореем. Стих причитаний длинный, от 8 до 14 слогов, а окончание стиха — дактилическое (третий слог от конца ударный, два последних — безударные). После каждого стиха вопленица делала паузу, всхлипывала и рыдала. Похоронные плачи восходят еще к языческим временам. Причитания очень разнообразны: в них рассказывалось о непохожих друг на друга судьбах покойных. Некоторые элементы причитаний повторялись. Таковы условные (риторические) вопросы-обращения к стотшрам, для кого они изготовляют тесную хоромину без окон и дверей, вопрос к умершему, в какой путь он собрался. Овдовевшая женщина в плачах вспоминала свою прошлую жизнь — счастливое детство в доме отца и горькое замужество, детей, которые после его смерти вынуждены голодать и побираться. В причитании на смерть отца и малолетнего сына, утонувших в Онежском озере, подробно повествовалось об обстоятельствах их трагической гибели во время бури.
|
Смерть в плачах изображается в иносказательных образах закатывающегося солнца: «Укатилося
красное солнышко |
|
 |
 |
| Болгары пекли свадебный (слева) и поминальный (справа) хлебы. | |
Исполнение произведений календарного фольклора в отличие от произведений семейно-бытовой обрядовой поэзии было приурочено не к определенным событиям человеческой жизни, а к определенным дням или временам года. Древнее мифологическое сознание представляло время не исторически, как это делает современный человек. Образом времени для мифологической культуры была не прямая, направленная из прошлого в будущее, а круг: восприятие времени было круговым (циклическим). Каждый год зима сменялась весною, за ней наступало лето, а потом приходила осень и после — зима. Природный ритм, смена времен года не знает истории, изменений. А древний человек, всей своей жизнью и работой — скотоводческой или земледельческой — тесно связанный с годовым кругом природы, считал самого себя частицей этого природного мира, неизменно совершающего кругооборот. Основные события и ежегодные праздники были приурочены именно к этому природному кругу: проводы зимы и встреча весны, разгар лета, прощание с летними днями и др. Главными моментами годового круга для древних людей были два солнцестояния (зимнее и летнее) и два равноденствия (приходившиеся на осень и на весеннее время). Зимнее солнцестояние (12 декабря с. с. / 25 декабря н. с.) — период, когда день, светлое время суток, сокращался до предела и торжествовали темнота и морозы. Летнее солнцестояние (12 июня с. с. / 25 июня н. с.) — период, после которого «солнце идет на зиму». Два равноденствия — время, когда продолжительность дня и ночи была одинаковой. Приближение весеннего солнцестояния было отмечено разгульным праздником Масленица, а на осеннее равноденствие гасили и зажигали вновь огонь в печах, как бы обновляя его, совершали праздники собранного урожая. Считалось, что к этому времени птицы улетали, а змеи уползали в мир мертвых (у восточных славян он именовался ирий, или вырий). В отличие от современного человека с его рациональным сознанием древние люди вовсе не были уверены, что смена времен года — это непреложный природный закон: злые силы зимы, темное начало могли восторжествовать, а зима — остаться навеки; необходимо было помочь приходу весны. Такое сознание называется мифологическим. Этой цели и служили особые, веками устоявшиеся календарные обряды. Они имели серьезный смысл — магический, заклинательный. Календарные обряды похожи у самых разных народов, особенно у народов родственных. Народные праздники и календарный фольклор западных (поляки, чехи, словаки), южных (сербы, болгары и др.) и восточных (русские, белорусы, украинцы) славян имеют много общего.
|
|
|
|
На лубке XVIII в. изображено солнце и знаки зодиака, бесконечно сменяющие друг друга в круговороте лет. |
Ряженые в костюмах. Главная маска - медведь. |
Началом нового года у древних славян считалось 1 марта (14 марта н. с.) — день прихода весны. Ему предшествовала Масленица — древний праздник, отмечающий начало нового года. Масленица праздновалась и после принятия славянами христианства. В христианское время она была приурочена ко времени за семь недель до праздника Пасхи (Воскресения Христова), считающегося главным церковным праздником в православных странах. Тем не менее этот праздник по своей природе дохристианский, языческий. Масленица проходила в течение недели. Накануне понедельника пеклись караваи и блины, а дети бегали встречать Масленицу. Масленица — это мифологическое существо, принадлежащее к уходящему зимнему времени, но олицетворяющее как зиму и смерть, так и плодородие и женское начало.
Странное соединение противоположных черт в образе Масленицы не случайно — это существо переходного времени от зимы (смерти) к весне (жизни). Масленичная неделя была наполнена веселыми песнями, шутками (часто неприличными), увеселениями, в которых были неизменны эротические игры — поцелуи и объятия. Цель этого веселья первоначально была магической — будущий обильный урожай. Чучело Масленицы — обычно имевшее вид женщины — усаживали в сани и везли с величальными песнями, напоминающими свадебные. В конце недели, в воскресенье, чучело сжигали, иногда перед этим его разрывали на части. При этом пели прощальные песни о Масленице — обманщице и плутовке. Совершались похороны Масленицы с оплакиванием, при этом иногда пародировался христианский погребальный обряд. Праздники, подобные русской Масленице, известны и у других народов. У поляков празднику Масленицы соответствуют запуст и менсопуст, у болгар — праздник Кукер. У чехов и словаков был особый ритуал — «вынос смерти», символизирующей зиму: соломенное чучело морену, или маржену, выносили из дома и бросали в воду или разрывали на части (название чучела восходит к имени древнеславянской богини смерти Мары, или Марены). Такую же обрядовую природу имел западноевропейский карнавал, ныне превратившийся в веселое театрализованное действо.
|
Односельчан, возвращающихся из города или с базара,
дети встречали вопросом: «Везешь ли Масленицу?». Если взрослые
отвечали «нет», ребятишки били их старыми лаптями. Взрослые, по
мифологическим представлениям, возвращались из «иного», «внешнего»
мира и должны были нести с собой праздник. В понедельник проходила
встреча Масленицы и пелись такие песни:
Встречаем тебя хорошенько!
Гуляния на Девичьем поле в Москве (ныне - ул. Б. Пироговская) и сжигание чучела. |
С приходом весны, в марте, происходил обряд «кликания весны». Дети и девушки, взобравшись на крыши и пригорки, выкрикивали магические тексты — веснянки. 9 марта по старому стилю (22 марта по новому) в день церковного праздника Сорока мучеников в народе праздновался прилет птиц, с которыми был связан приход весны. В народе этот день называли Сороки, переосмыслив название церковного праздника, по-видимому, как название птицы. Символом птицы в обрядах была рукотворная фигурка — жаворонок. Накануне христианского праздника Пасхи (он приходится на время с 22 марта по с. с. / 4 апреля по н. с. до 22 апреля по с. с. / 5 мая по н. с.) в Костромской губернии совершался обряд защиты скота: девушка до восхода солнца в одной рубашке без пояса и с распущенными волосами садилась на помело и объезжала на нем дом с постройками. Подъехав к дому, она спрашивала мать: «Тетка Анна, скотина дома?» — «Дома!» Обряд совершался трижды. Девушка в этом обряде олицетворяла существо, принадлежащее враждебному миру нечистой силы, от которого исходит угроза (об этом говорили отсутствие пояса и распущенные волосы).
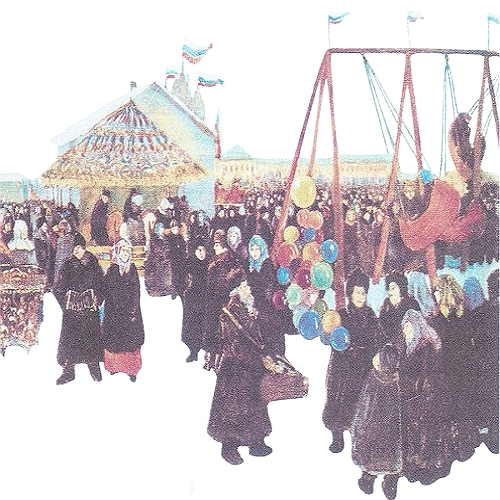 |
 |
| Троицын день в Красном Селе близ Москвы. Неизвестный художник (1840-е). | |
Красной горкой в России именуется послепасхальное воскресенье. Это было время выбора невест, совершения сватовства и свадеб. В некоторых областях России именно тогда сжигали соломенное чучело, символизировавшее зиму, и праздновали приход весны. В этот день или накануне песенники подходили к домам молодоженов и пели песни, называемые вьюнишными. В песнях описывалось кипарисовое деревце, растущее на горе. На вершине этого деревца соловей пел песни, посреди деревца пчелы вили гнезда, а у корней «удалой-от молодец» сидел «да с молодой своей женой». Деревце, населенное животными и соединяющее небо и землю, в этих песнях восходит к мифологическому мировому древу — центру мироздания. Молодожены в песне как бы помещаются в самый центр мира, а песня призвана принести им благополучие.
|
В Западной России и в Белоруссии на Пасху совершался
обряд обхода дворов. Ходоки, называемые волочебниками, пели
волочебные песни. В них содержались требования одарить волочебников
яйцами, пирогами, вином. Настойчивые просьбы завершались угрожающей
припевкой:
Венков завивать, Колодою дубовою <...>
Кто венков не вьет.
|
В деревнях начинали водить хороводы (со дня святого Георгия, Егорьева дня, 23 апреля по с. с. / 6 мая по н. с.) — круговые танцы, когда-то имевшие магический характер. Хоровод воспроизводит магический защитный круг и символизирует солнце. В Белоруссии молодежь обходила в этот день дома, кружилась вокруг них в хороводе и пела песни с пожеланиями богатого урожая. На седьмую неделю после Пасхи (семиковую, или зеленую), прежде всего в ее четверг (Семик), субботу и воскресенье (на этот день приходился церковный праздник Троица), совершались хороводы вокруг срезанных березок; у березок завивали ветви с особыми песнями. Иногда верхушки березок пригибали и переплетали с травой. В конце обряда деревце развязывали и бросали в воду. Обряд символизировал приобщение к природным силам, развязывание — освобождение плодоносящих сил природы. Об этом говорится в известной песне «Во поле березонька стояла». Не случайно эти обряды совершали девушки — те, кому еще предстояло стать женами и матерями. В эти дни невесты гадали о своей будущей судьбе.
|
В день летнего солнцеворота делали чучела: «семика» в
плисовых штанах и «семичиху» в сарафане.
|
Центральным летним праздником был день Ивана Купалы (24 июня по с. с. / 7 июня по н. с.). В этот день церковь совершала поминовение Иоанна Крестителя, библейского святого, крестившего в водах реки Иордана евреев. В этот день, по народным поверьям, можно было найти цветок папоротника, который позволял понимать язык зверей и птиц, указывал на местонахождение кладов. Люди искали травы, имеющие целебную силу, способные вызвать в человеке любовь или отвести беды и неприятности. На заре купались и собирали ивановскую росу, считавшуюся целебной. Вечером и ночью разжигали костры, вокруг которых водили хороводы. Многие прыгали через огонь, веря, что освобождаются от скверны. Праздник посвящен солнцу, поэтому с горок пускали обвязанные соломой подожженные колеса. Обходили поля, чтобы уберечь их от ведьм, и при этом пели заклинательные песни. Присутствовала в купальских песнях и любовная, эротическая тематика.
«Завивание бороды» святым Илье и Николе среди летне-осенних обрядов было широко распространено. Оно совершалось в день церковного праздника Успения (15 августа по с. с. / 28 августа по н. с.). Обряд был приурочен к совершению жатвы. Оставленный на поле пучок срезанных колосьев перевязывали лентой, приговаривая: «Вот тебе, Илья, борода, на лето уроди нам ржи да овса!» Обряд был связан с обеспечением будущего плодородия, пелись особенные припевки: «А пахарю-то сила, //А севцу-то каравай, // А коню-то голова». На зимнее солнцестояние в день Спиридона-солнцеворота (12 / 25 декабря) жгли костры и выкликивали заклички, призывая солнце вернуться.
| Обязательной купальской игрой были горелки. Водящий («горящий») смотрел на небо, а играющие, выстроенные в пары за его спиной, обегали его, пытаясь не быть пойманными «горящим» и вновь соединиться в пары впереди него. Пелись песни, открывающиеся строкой «Гори, гори жарко» или «Гори, гори ясно, // Чтобы не погасло». Игра имеет древнее мифологически-ритуальное происхождение и, возможно, отражает миф о Боге Громовержце, поражающем своим огнем противников. Может быть и другое толкование: игра восходит к свадебному обряду. Во время игры юноша восклицает: «Горю, горю», - и на вопрос девушки отвечает: «Тебя ищу», - а затем пытается поймать ее. | |
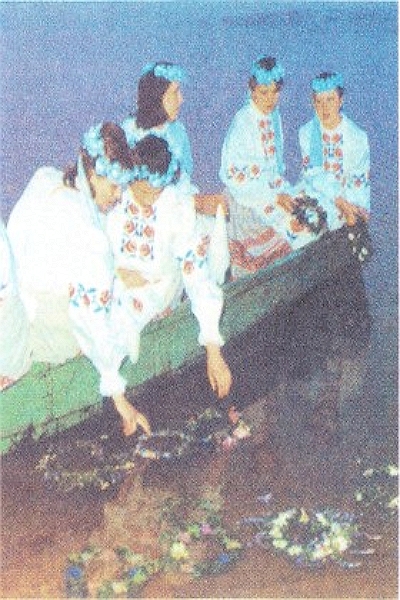 |
 |
| В праздник Ивана Купалы | Фрагмент картины К. П. Брюллова (1836) |
Зимние торжества были приурочены к кануну православного Рождества — сочельнику (24 декабря / б января) и к последующим дням вплоть до кануна Крещения (6 / 19 января). Этот период назывался Святками. В сочельник колядующими обходились дома и пелись колядки: прославляли коляду или авсеня (таусеня) и заклинали будущее плодородие. Мотивы колядок — приход колядующих издалека, дальняя дорога, преодоление ими водной преграды, переход по мосту, упоминание о некоем дереве. Колядующие символизировали пришельцев из иного мира. Праздник Коляды, чье имя, вероятно, восходит к латинскому слову Calendae («первый день месяца»), контрастно соотнесен с праздником Ивана Купалы. Зимние обряды были призваны спасти мир, солнце от ледяного дыхания зимы.
Припевка «Авсень» («Таусень») в колядках, возможно, восходит к древнему имени утренней зари. На Святки совершались девичьи гадания.
Один из гадательных обрядов сопровождался подблюдными песнями (от слова «блюдо»). После них хором исполнялись песни, имевшие предсказательное значение.
Есть ряд фольклорных жанров, в которых мир таинственно скрывается сетью иносказаний, поэтических сравнений и риторических оборотов. Слово — действие, приносящее вред или пользу: болезнь и страдания или благополучие и везение. Заговаривающий обращается к невидимым силам и просит их содействия: он совершает мысленное путешествие в иные миры, в которых находит себе помощников. Устройство и порядок вещей, взаимодействующих друг с другом неведомым образом, спрятаны в загадках. Разгадывание и заговаривание мира приводит человека к гармонии, равновесию и согласию с миром.
 |
 |
| Предметы быта славяне часто украшали символическими изображениями бога солнца, охраняющего их от злых сил. к на Русском Севере над косяками дверей, на наличниках окон помещались изображения различных мифологических существ, например водяного или фараонки - полудевы-полурыбы. | |
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЖАНРОВ ФОЛЬКЛОРА состоят из одного выражения, из одного или нескольких предложений. Все они не поются, а произносятся, хотя в них могут встречаться и устойчивый ритм, и рифма. Это заговоры, загадки, пословицы, поговорки и присловия. Несмотря на внешнее сходство, природа этих жанров различна.
ЗАГОВОР имеет магический, заклинательный характер. Он состоит из устойчивых выражений, которым приписывается магическая сила. Он должен немедленно предотвратить нежелательное событие или явление и осуществить какое-то желание. Существуют и доныне заговоры, которые должны вызвать любовь, заговоры от болезней (от зубной боли, лихорадки и т. д.) и ран, которые может причинить оружие, от магического воздействия злых людей (сглаза, порчи). Заговоры произносились с целью удачной охоты и рыбной ловли и для обнаружения клада. Существовали заговоры от диких зверей и злых собак и даже от огненного змея, летающего по ночам к девице. Некоторые заговоры бывают короткими, в виде просьбы к святому или языческому божеству. Другие заговоры — простые заклинания без называния имени божественного помощника: «Пусть сбудется то-то». В них используется иногда так называемая имитативная магия: действия производятся над некой вещью или существом, которые олицетворяют (имитируют) человека. Пространный, развернутый заговор состоит из трех частей: зачин, содержащий описание пути в мир магических сил; основная часть заговора и закрепка — формула, которая обеспечивала магическую силу заклинания. Путь в магический, «иной» мир в заговоре изображается как выход из дома (центра «своего» пространства) через двери («границу») во двор («свое, но связанное с чужим пространство»). Из двора через ворота путь ведет в чистое поле. Следующая граница — море (его имена различны — Окиан, Белое, Черное море и др.), река (Иордан, в которой крестился Христос; река Смородина, отделяющая мир мертвых от мира живых; Дунай) — на остров (обычно остров Буян) — в иной мир; посреди острова стоит бел горюч камень Алатырь, Алтырь, Аатырь (алтарь — священное место в христианском храме). Вместо камня могут встречаться гора, дерево, столп (башня), церковь. Здесь, в символическом центре мироздания, заговаривающий встречается с волшебным помощником. В их роли обычно выступали Иисус Христос, Богоматерь и некоторые святые: врачеватели Косма и Дамиан, Лука, записавший одно из Евангелий, и проповедник христианства апостол Павел.
| Птица сирин - зримое воплощение веры славян в тесную связь природы и человека, признание зависимости их существования от стихий: солнца и луны, ветра, земли и воды, света и тьмы. | |
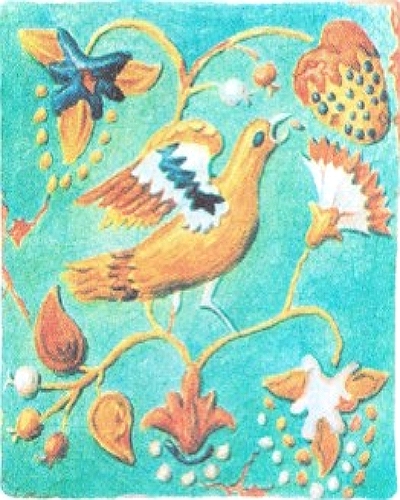 |
 |
Помимо так называемых белых заговоров, предназначенных принести благо или защитить от беды, существовали и черные заговоры. Они должны были наносить вред: наводить порчу, рассорить влюбленных. Черные заговоры всегда содержали обращения к злым силам — бесам, демонам. Их текст строился как бы «навыворот», «наизнанку» по отношению к обычным заговорам. В зачине говорилось «Стану, не благословясь, выйду, не перекрестясь». Произносивший заговор говорил, что пойдет не в восточную, а в западную сторону. Западные земли в противоположность востоку, где восходит солнце и куда обращены алтари церквей, считались плохими, грешными. В черных заговорах иногда содержались слова отречения от всего святого, от Бога, Креста, от отца и матери. Если обычный заговор по народным представлениям не отличался от молитвы святому, то использование черных заговоров считалось большим грехом, и мало кто к ним прибегал.
|
Фрагменты картины неизвестного художника «Свадьба в Торопце» показывает обряд как костюмированное, отчасти театрализованное, условно-игровое действие, зрителями которого были сами исполнители. Часто обряд из-за своей намеренной условности напоминал драматическую загадку и заклинание. Метафорически, эвфимистически проигрывались такие жизненные ситуации, которых в реальном быту хотелось бы избежать (болезни, ссоры супругов, неурожаи) или, наоборот, достичь (здоровье и рождение детей, согласие среди домочадцев, достаток в доме).
|
ЗАГАДКИ — произведения со скрытым смыслом. В них в иносказательной форме содержится та информация, которую необходимо отгадать. Для того чтобы разгадать загадку, необходимо знать ее художественный язык — те правила, по которым зашифрован скрытый смысл. «Семеро одежек, все без застежек» — так в загадке говорится о капусте. Или так: «Стоит поп низок, на нем сотня ризок». Священнику может уподобляться не только кочан, но и ножка стола: «Четыре попа под одной ризой стоят». Загадки в древности учили тайному смыслу мира. Проверялось, знают ли истинные ответы те, кто эти загадки слушает.
В старинных загадках отражены древние мифологические представления. Так, в загадке о ветре, земле, звездах и дороге, вероятно, отражены представления о «небесной семье богов», о браке неба и земли. Калинов мост в загадке о звездах — древний мифологический символ перехода из земного мира в мир потусторонний. Иногда в загадке зашифрован не один предмет, а несколько взаимосвязанных предметов: такова загадка о человеке, в которой иносказательно описаны ноги человека, туловище, рот, глаза, волосы и поселившиеся в волосах насекомые — вши и гниды: «Стоят вилы, а на вилах короб, на коробе глотало, // На глотале моргало, на моргале ельничек-межиельничек, // А у ельничку-межиельничку свинки с поросятами ходят».
| Нередки случаи
возникновения в фольклоре таких жанров, когда форма напоминает один
вид словесного творчества, а содержание указывает на другой. Так,
«Воевода и мужик» формально напоминает сказку, но ее интрига
основывается на ответе-загадке мужика воеводе о 80 рублях годового
дохода: «Двадцатью рублями долг плачу, двадцать рублей в долг даю, двадцать рублей за окно бросаю, а двадцатью подать плачу». В результате сказочных перипетий (мотив трех глупых слуг, мотив денежного выкупа-вознаграждения с нарастанием самой денежной суммы) оказывается, что эти равные доли тратятся мужиком на содержание отца («он меня кормил»), сына («он меня в старости будет кормить»), воспитание дочери («она уже ни помощник, ни кормилец; замуж выйдет») и выплату налогов. |
|
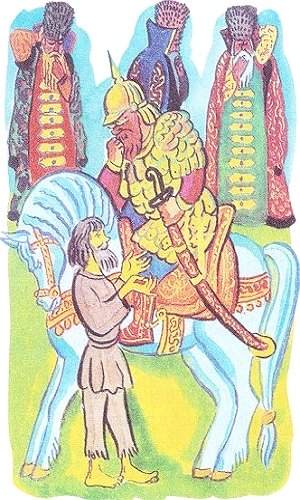 |
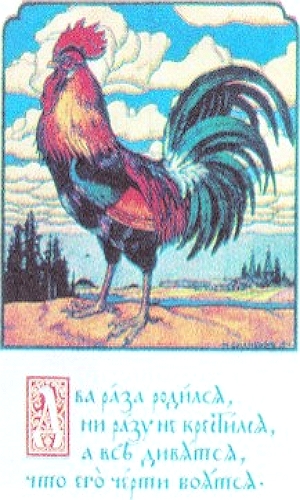 |
| Иллюстрация к сказке художника Е. Монина. | |
Для иносказания используется здесь как внешнее сходство (ноги — вилы, ельник — волосы), так и обозначение загаданных предметов по их свойствам (глаза моргают, а рот глотает). Иногда обозначение вещи заменяется словом, сходным по звучанию. «Поймал я вола у Волосова, и вел я вола через Глодово, и убили мы вола у Ногтове».
Загадка говорит про вошь (ср. вол), она прячется в волосах (ср. название Волосово), а убивают ее, прижимая к ногтю (ср. название Ногтово).
Убийство вши уподоблено поимке вола и путешествию с ним от деревни Волосо до деревни Ногтово. Иносказания в загадках построены так: какие-то предметы, явления замещаются другими, имеющими иную природу. В загадке о капусте листы обозначены как одежки. Звезды названы овцами, сноп — мужичком, ветер, земля, звезды, дорога зашифрованы названиями вещей, принадлежащих семье (отцу, матери, брату, сестре).
Мир ритмичен, а многие жизненные ситуации предсказуемы в своем итоге, как подъем морской волны сменяется ее спадом. Слово следует за словом, как день сменяется ночью, — все сказанное пословицей подтверждает связь явлений и вещей. Чтобы выразить степень своего состояния — возмущения, радости или недоумения, — человеку не обязательно кричать, охать, плакать или безудержно смеяться. Достаточно высказать себя в поговорке. Или посмеяться над пристрастиями, родом занятий или нерасторопностью и глупостью своего соседа коротким незлобным присловием.
|
Иногда в пословицах можно обнаружить ритм. Так, в пословицах «Чем богаты, тем и рады»: «Кошка спит, а мышку видит» обнаруживается четырехстопный хорей, а в пословице «Попытка не пытка, а спрос не беда», «Что было, то сплыло» - разные формы амфибрахия. Некоторые исследователи считают, что пословицы первоначально были фрагментами больших поэтических текстов, которые были забыты.
|
ВЕЩИ уподобляются другим в пословицах — кратких устойчивых ритмически организованных изречениях. Таково отрицательное сравнение в пословице «Жена — не рукавица, с руки не сбросишь». Но пословица как жанр в отличие от загадки не является иносказанием. В ней какому-то определенному действию или поступку придается расширенный смысл. Смысл пословицы «Лес рубят — щепки летят» не в наблюдении над рубкой деревьев, при которой действительно летят щепки. Она означает, что при всяком большом деле неизбежны издержки, потери, изъяны. Для пословиц характерны: использование собственных имен для обозначения неограниченного числа людей («По Сеньке и шапка»; «Сенька» — не отдельный человек, он как бы представляет всех людей, к которым может быть отнесена пословица); метонимия (от греч. metonimia — «переименование») — обозначение по принципу смежности (вместо человека говорится о деталях его одежды: «Бойся худого локтя да ясной пуговицы»); антитеза (от греч. antithesis — «противопоставление»): «Щербата денежка, да гладок калач»; четкий ритм — деление на соизмеримые части («Дальше в лес — больше дров»). Пословица поучительна и потому часто строится в форме обобщенно-личного предложения с глаголом в повелительной форме («Век живи — век учись», «Играй, да не заигрывайся»). Но нередко глаголы в пословицах имеют форму второго лица также с обобщенным значением («Слово не воробей, вылетит — не поймаешь»). Используются в такой же роли и глаголы в неопределенной форме («Бежать — ин хвост поджать, а стоять — ин меч поднять», записана в XVII в.).
|
Выражение «Возить сов в Афины» означало в древности бессмысленное действие: мудрость, воплощенная в этих птицах, изначально подразумевалась как характеристика жителей этого города. Это не отменяло необходимости обладать греческими деньгами, на которых были отчеканены совы.
|
У народных пословиц нет авторов. Но пословицами стали и некоторые строки из произведений русских поэтов: «Хоть видит око, да зуб неймет», «А ларчик просто открывался», «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь» (Крылов); «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «Злые языки страшнее пистолета», «Блажен, кто верует, тепло ему на свете» (Грибоедов).
В отличие от пословицы поговорка не является законченным суждением, не составляет законченного предложения. Поговорка — образное выражение, употребляемое, как и пословица, в расширительном смысле: «Надоел, как горькая редька», «Свалился как снег на голову», «Пусто, как Мамай прошел» (поговорка, хранящая воспоминание о походах татарского правителя Мамая на Русь). В поговорках сообщается о свойствах человека: «Не робкого десятка» (ироническое обозначение труса), «Работает спустя рукава» (поговорка о лентяе). Поговорка может указывать и на некое действие («Отправился к черту на кулички») или состояние («Голодный француз и вороне рад» — воспоминание о плачевной участи французов в России во время Отечественной войны 1812 г.), или на время («После дождичка в четверг») и на место («Семь верст, и все лесом» — в значении «очень далеко»). Поговорки, как и пословицы, остаются живыми фольклорными жанрами: они постоянно встречаются в нашей обыденной речи. В присловиях содержится емкое шутливое определение жителей какой-либо местности, города, обитающих по соседству или где-то далеко.
Сказки — самый известный жанр фольклора. Люди, и прежде всего дети, и сейчас читают сказки, сложенные сотни лет назад. Сказочный вымысел причудлив и богат, в сказках увлекательны сюжеты, живут фантастические существа — Кощей Бессмертный, Баба-яга. В сказках животные ведут себя как люди, а главный герой всегда добивается успеха. В древности, когда не было литературных произведений — романов и повестей, их место занимали сказки. Они учат слушающего вечным заповедям жизни, а в глубокой древности готовили его к трудному обряду инициации, пройдя который он становился полноправным членом племени или рода.
|
В 1826 г. в семье мелкого чиновника, жившего в небольшом городе Воронежской губернии, родился сын - Александр. Ребенком Саша любил слушать сказки. Позднее он вспоминал, что с «наслаждением и трепетом слушал по вечерам, в углу темной комнаты, от какой-нибудь дворовой женщины» народные сказки. После окончания Московского университета Александр Николаевич Афанасьев в 1849 г. поступил на службу в Московский главный архив Министерства иностранных дел, где прослужил до 1862 г. Служба обеспечила ему и семье необходимые средства для жизни и не была обременительной. |
СКАЗКА — вид фольклорной прозы, отличительной чертой которого является вымысел. Вымышлены в сказках сюжеты, события и персонажи. Современный читатель фольклорных произведений обнаруживает вымысел и в других жанрах устного народного творчества. Например, в былинках — прозаических рассказах о встречах людей с нечистой силой (с водяным, лешим). Или в былинах — не может реальный человек, пусть очень сильный, побивать одним махом десятки и даже сотни врагов; не существует на самом деле никакого Соловья-разбойника, от свиста которого будто бы деревья ломаются. Еще более фантастичен Змей, с которым сражается богатырь Добрыня Никитич.
Народные сказители и слушающие верили в истинность быличек (название происходит от слова «быль» — «истина»; слово «былина» придумали фольклористы; в народе былины называли «старины»). Русские крестьяне, сказывавшие и слушавшие былины, веря в их истинность, считали, что события, в них изображенные, происходили давным-давно — во времена могучих богатырей и огнедышащих змеев. Сказкам не верили, зная, что в них повествуется о том, чего не было, не бывает и быть не может.
Границы между сказкой и другими видами фольклора не являются жесткими. Сюжеты богатырских былин отразились в некоторых сказках, сказочный характер имеет сюжет новгородской былины о госте (купце) и гусляре Садко. Мифологические существа (например, водяной) встречаются и в сказках. Но различие между сказкой и другими видами устного творчества все же всегда осознавалось и рассказчиками, и слушающими.
У истоков сказки лежат мифы (от греч. mythos — «предание») — устные рассказы священного, религиозного характера, в подлинности которых древние люди не сомневались. Сказку можно назвать мифом, который лишился священного ореола, перестал быть предметом веры. Разграничение мифов, в которые верят и которые почитают, и фольклорных произведений, к которым относятся без такого почитания и от которых не ожидают достоверности, присуще самым разным народам: и индейцам, и чукчам, и племенам Африки и Азии.
|
Превращение мифа в сказку, вероятно, происходило так.
Миф терял таинственность и связь со священным обрядом. Если
первоначально миф можно было рассказывать только в определенное
время дня или года в узком кругу посвященных (например, взрослым
мужчинам), то позднее мифы стали рассказывать в любое время. Среди
слушателей оказались женщины и дети. Мифы начали обрастать
развлекательными подробностями, а события, о которых рассказывается,
стали происходить не в реальном месте, а в вымышленном «некотором
царстве, некотором государстве».
Высеченный из камня тем канадских индейцев. |
В древности люди считали, что происходят от какого-то животного-предка, и видели в нем священное существо (таких животных называют тотемами или тотемными животными — от англ. totem — из языка индейцев, означающее «его род»). Волшебные сказки о браке героя с чудесным существом, временно переменившим звериный облик на человеческий (русская сказка о Царевне-лягушке), восходят к стародавним тотемическим мифам о происхождении родов и племен. Герой волшебной сказки добывает некие диковинки, чудесные предметы: жар-птицу, молодильные яблоки для стареющего человека, лекарства для исцеления больного отца. Так же и герой мифов добывал для людей некие ценности, например огонь (древнегреческий миф о добывании огня Прометеем). Но сказочный персонаж в отличие от мифологического героя добывал чудесные или драгоценные предметы не для всех людей или для своего племени, а для себя, своих родителей или для царя, отдавшего ему приказ. Огонь, свет, пресная вода, добываемые героями мифов, были заменены в волшебных сказках чудесными предметами или женщиной, на которой женится герой, стремящийся только к личному благополучию. Персонаж европейской или гавайской сказки похищает живую воду для излечения отца, а герой африканской сказки похищает огонь, чтобы разжечь свой очаг. Успех сказочного героя заслуживает восхищения или сочувствия, но его нельзя почитать и прославлять как героя мифа. Сказки о посещении чужих царств, «иных миров» для освобождения томящихся там в темницах пленниц сходны с мифами о странствиях колдунов за душой больного или умершего.
Мифологический герой обладает могуществом и сверхъестественными способностями, а сказочные герои побеждают только благодаря помощи фантастических сил и чудесных предметов.
Чудеса, так ожидаемые в обыденной жизни, происходят в сказках. Волки удят хвостом рыбу, лентяй ездит на печи, Иван переламывает магическую иглу жизни злодея, солдат наедается ухи или каши у жадной старухи, а мальчишка-сосед насмехается над вами, прося «мочало начать сначала». Эти истории происходят в сказках, имеющих разное назначение: проучить, предупредить, подшутить над слушающим или утвердить победу жизни и милосердия над смертью и корыстью. Сказка сопровождает человека всю его жизнь: от колыбели и шепота матери, читающей старую семейную книгу, через фильмы, анекдоты знакомых и воспоминания детства до того же, еще более потрепанного, сказочного сборника, который он прочитает своему внуку.
|
Деление и наименование сказочных жанров на основе нахождения в них повторяющихся волшебных элементов не очень удачно. Такие мотивы есть, например, и в сказках о животных, и в кумулятивных сказках. В них звери и даже растения говорят и ведут себя как люди. Волшебные сказки отличает от кумулятивных, бытовых и сказок о животных особенный характер сюжета. Но бытовые сказки и многие сказки о животных по характеру сюжета одинаковы: и там и тут повествуется о хитроумных проделках, о находчивости, благодаря которой один персонаж посрамляет другой и что-то ценное получает для себя. Обманывает ли смекалистый крестьянин или солдат помещика либо попа или хитрая лиса - глупого и простодушного волка, сюжетно эти сказки сходны. Однако другого, более совершенного, обозначения типов сказок пока не найдено.
|
НАРОДНАЯ СКАЗКА — не жанр, а группа жанров. Их объединяет вымышленный сюжет и выдуманные герои. В науке об устном народном творчестве принято выделять четыре разновидности сказок: волшебные, бытовые (иначе — новеллистические), кумулятивные (иначе — «цепевидные») и сказки о животных.
ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ отличаются от других сказок сложным развернутым сюжетом, который состоит из ряда неизменных мотивов, которые обязательно следуют друг за другом в определенном порядке. Волшебства в этом сказочном жанре действительно обычно больше, чем в других. Это и фантастические существа (например. Кощей Бессмертный или Баба-яга), и одушевленный, подобный человеку персонаж, обозначающий зиму (Морозко), и чудесные предметы (скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, ковер-самолет и др.). Сказочная царевна превращается в лягушку, а из лягушки — снова в девушку; герою сказки помогают чудесные животные: Щука — Емеле-дураку, а Волк — Ивану Царевичу.
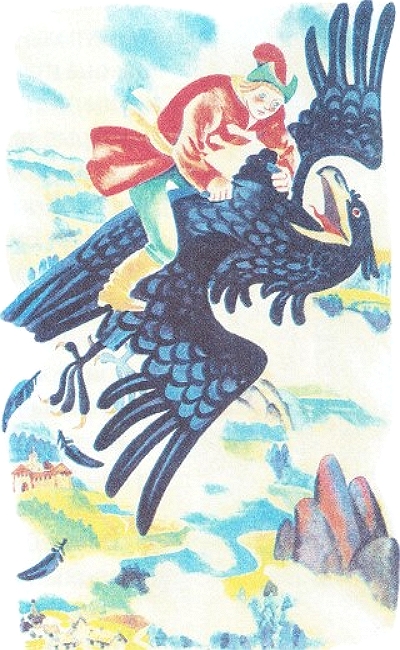 |
 |
| Мрачность потусторонних сил передана художником Е. Мониным контрастом светлых и темных фигур. | Резкие линии елового леса на рисунке Е. Монина могут олицетворять риск и опасности, которые переживает герой сказки. |
В волшебных сказках очень редки фантастические существа, о которых повествуют былички: водяной, леший, кикиморы, русалки. Это не случайно — ведь в водяного, лешего, кикимор и русалок сказочники и их слушатели верили. Поэтому в сказках и встречаются Кощей Бессмертный или Баба-яга, в существование которых не верили. Нет в сказках и святых. Богоматери или Иисуса Христа, о которых упоминается в былинах и повествуется в особых прозаических сказаниях — легендах. Волшебная сказка как жанр сложилась у разных народов в разное время. На Руси волшебные сказки окончательно сформировались, по-видимому, в Средние века. Но в волшебных сказках сохранена память о представлениях и обрядах, существовавших в глубокой-глубокой древности. В них отражены древние отношения между людьми в семье или в роду. Так, младший брат и сын или дочь отца от первого брака, живущая с ним и мачехой, в сказке — всегда угнетаемые и обездоленные. В этом сказочном мотиве сохранена память о распаде древней патриархальной семьи и развитии семейного неравенства. Притесненное положение младшего брата отражает то время, когда перестал существовать минорат — традиция, по которой преимуществами в семье и роду обладал именно младший, а не старший брат. Но обездоленный, обиженный младший брат или гонимая падчерица в итоге торжествуют.
Это свидетельствует, что в эпоху, когда складывались сюжеты волшебных сказок, еще была жива память о прежних порядках. Герой волшебной сказки всегда не такой, как все. Нередко это дурак. Но глупость дурака особенная: она проявляется не в тупости, а в совершении тех неожиданных поступков, которые невозможны для других. Зато в конце концов он вознагражден и прекрасной женой, и богатством, как, например, Емеля-дурак, все счастье которого в том, что он поймал чудесную щуку. А щука исполняет все его самые невероятные желания.
Герой волшебной сказки не деятелен. Все случается как бы само собой: он идет «куда глаза глядят», неожиданно встречает старичка или Бабу-ягу, которые ему помогают.
|
Инициация совершалась в лесу, в пещере, в доме, который символизировал проглатывающую пасть, смерть. Во время обряда совершалось символическое умерщвление посвящаемых. Мальчики подвергались жестоким испытаниям на мужество и стойкость.
|
Волшебные сказки разных народов очень похожи. Герой сказки путешествует в далекое тридевятое царство, герой идет через лес и встречает фантастического помощника, например Бабу-ягу в лесной избушке. Попасть в далекое царство сказочному персонажу помогают волшебный предмет (путеводный клубок, который сам катится вперед) и волшебный помощник (старичок, конь или другой зверь, птица). Во многих сказках встречается мотив увода или изгнания детей в лес, похищения их лесным духом, разрубание тела персонажей хозяйкой лесной избушки на части, варка или жарка частей их тела.
В XX в. французский фольклорист П. Сентив, советский исследователь устной народной словесности В. Я. Пропп и американский ученый Дж. Кэмпбелл доказали, что основные мотивы волшебной сказки восходят к ритуалу посвящения, перехода человека в иную возрастную и тем самым общественную группу. Этот ритуал принято называть инициацией. Во время совершения инициации мальчики должны были стать взрослыми, полноправными мужчинами. Древние люди верили, что при совершении инициации человек как бы умирает и рождается заново, но в ином качестве. Путешествие сказочного героя в тридевятое царство отражает древние представления о путешествии души в мир смерти и о возвращении оттуда. Именно в этом далеком мире герой встречает и живого мертвеца Кощея Бессмертного, и Бабу-ягу, напоминающую о фантастическом существе — Хозяйке леса, в которое верили предки славян, германских народов, иранцев и индийцев. Герой волшебной сказки — как бы живой в мире мертвых. Так, Баба-яга опознает его по запаху: это запах живого человека. Волшебные сказки напоминают о свадебном обряде: к древнему свадебному ритуалу восходят и мотив потерянного башмачка (сюжет сказки о Золушке), и образ подставной, мнимой невесты, и бегство жениха или невесты, запрет называть имя молодой жены, образы куколок-советчиц, помогающих героям. Женитьба на царевне или брак с царевичем являются развязкой сюжета волшебной сказки.
В XX в. финский фольклорист А. Аарне, а вслед за ним американский ученый С. Томпсон разработали классификацию сказочных сюжетов и обозначили разные сюжеты специальными символами из цифр.
Например, сюжет русской волшебной сказки об Иване Царевиче, жар-птице и Сером Волке имеет номер 550. Такой же номер был присвоен белорусским и украинским сказкам. При этом у персонажей сказки могут быть разные имена, но сюжет остается неизменным.
|
Часто сказочное действие основано на мотиве противоборства сил: героя и черта (ил. к сказке «Батрак» Е. Монина), солдата и злодея (коварного царя, злого чародея или зверя) и т. д. |
Отечественный фольклорист В. Я. Пропп, анализируя русские волшебные сказки, решил, что их сюжеты поддаются еще большему обобщению и схематизации. Общим элементом волшебных сказок являются действия их персонажей.
Повторяющиеся от сказки к сказке действия персонажей В. Я. Пропп назвал функциями. После исследования десятков разных сказок ученый заметил: «Обнаружилось, что и другие сюжеты основаны на повторяемости функций и что в конечном счете все сюжеты волшебной сказки основаны на одинаковых функциях, что все волшебные сказки однотипны по своему строению».
Общее число функций, по В. Я. Проппу, — 31. Они взаимосвязаны, но не всегда все встречаются в волшебных сказках. В общем виде схема сюжета волшебной сказки, как правило, такова: происходит какая-нибудь беда: к герою взывают о помощи; он отправляется на поиски; по дороге встречает кого-либо, кто подвергает его испытанию и награждает волшебным средством; при помощи этого волшебного средства он находит объект своих поисков; герой возвращается, и его награждают.
|
Классической сказкой-анекдотом можно считать рассказ о том, как солдат из топора кашу сварил. Хозяйка, у которой он остановился, не давала ему крупы, и тогда солдат заявил, что сварит суп из топора. Любопытная старуха принесла ему топор, солдат варил его долго, лишь под конец крупы и масла попросил для вкуса. «Похлебали вдвоем кашицу. Старуха спрашивает: «Служивый! Когда же топор будем есть?» - «Да вишь, он еще не уварился, - отвечал солдат, - где-нибудь на дороге доварю да позавтракаю». Тотчас припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкою и пошел в иную деревню. Вот так-то солдат и кашицы поел, и топор унес!
|
На основе теории В. Я. Проппа в сюжете волшебной сказки выделяют несколько основных функций:
1) «нарушение запрета» (так, Иван Царевич вопреки настоянию жены сжигает ее лягушачью кожу). Другая функция, «недостача», может быть следствием нарушения запрета (из-за сожжения лягушачьей кожи Иван разлучается с женой). Но «недостача» иногда и не связана с нарушением запрета (например, змей похищает дочь царя или Иван Царевич отправлен отцом на поиски жар-птицы). За этим следуют
2) «отсылка героя и выход». Герой отправляется в далекое путешествие (например, орел уносит его в иное царство, или это делает конь, или Ивана уносит в иное царство колдовская лодочка).
3) Встреча с дарителем или помощником (старичком. Серым Волком) — предварительное испытание. Затем
4) герой должен исполнить три трудные задачи (основное испытание, выдержанное благодаря помощнику). За этим может следовать
5) вознаграждение (царь отдает герою дочь в жены), но царь может и преследовать героя и его молодую жену (функции «преследование — спасение»). Завершается сказка традиционно
6) браком или соединением прежде разлученных героя и героини.
Все сюжеты волшебных сказок похожи друг на друга. Но дети и порой взрослые с удовольствием читают или слушают их. Несмотря на внешнюю предсказуемость сюжета и благополучность финала, читатель или слушатель сказок не знает, как именно это произойдет, какого помощника встретит герой, какие трудные задачи задаст ему царь тридевятого царства и др. Волшебная сказка одновременно однотипна и разнообразна.
|
К народным анекдотам А. Н. Афанасьев отнес такую
сказку: «Заприметил солдат, что у хохла в сенях под коньком пуда два
свиного сала в мешке: прорыл ночью крышу, стал отвязывать мешок, да
как-то осклизнулся и упал вместе с салом в сени. Хозяин услыхал шум
и вышел с огнем: «Чого тоби треба?» - «Не надо ли тебе сала?» -
спрашивает солдат. «Ни, у мене свого богацько!» - «Ну, так
потрудись, навали мне мешок на спину». Хохол навалил ему мешок на
спину, и солдат ушел».
|
БЫТОВЫЕ СКАЗКИ повествуют о людях, об их семейной жизни, об отношениях между хозяином и батраком, барином и мужиком, мужиком и попом, солдатом и попом. Простолюдин — батрак, крестьянин, вернувшийся со службы солдат — всегда смекалистее попа или помещика, у которого он благодаря хитрости отбирает деньги, вещи, иногда и жену. Обычно в центре сюжетов бытовых сказок — некое неожиданное событие, непредвиденный перелом, происходящий благодаря хитрости героя. Таким же образом строятся остросюжетные рассказы — новеллы (от ит. novella — «неожиданная новость»; отсюда второе название таких сказок — новеллистические).
Бытовые сказки часто сатиричны. Они осмеивают жадность и глупость власть имущих. В них не рассказывается о чудесных вещах и путешествиях в тридевятое царство, а говорится о вещах из крестьянского обихода. Но бытовые сказки не более правдоподобны, чем волшебные. Поэтому описание диких, безнравственных, ужасных поступков в бытовых сказках вызывает не отвращение или негодование, а веселый смех. Ведь это не жизнь, а небылица. Такова сказка о злополучном мертвеце, известная и русским, и другим европейским народам, и индейцам Северной Америки. Этот сюжет проник в литературу: его использовал итальянский писатель эпохи Возрождения Мазуччо Салернитанец. Дурак случайно убивает свою мать: она падает в капкан или в яму, которую дурак вырыл перед домом. Дурак усаживает труп матери в сани, дает ей в руки инструменты для пряжи и едет. Навстречу скачет барская тройка, дурак не сворачивает с дороги, и его сани опрокидываются. Дурак кричит, что убили его матушку, царскую золотошвейку. Ему дают 100 рублей (в России XIX в. это немалая сумма), чтоб тот отступился. Дурак сажает труп в погреб к попу, попадья ударяет ее палкой по голове, приняв за воровку. Он опять получает 100 рублей. После этого он сажает мать в лодку, лодка наезжает на сети рыбаков, которые бьют дуракову мать веслом. Она падает в воду и тонет, дурак кричит, что рыбаки утопили его мать, и получает еще 100 рублей. Приехав с деньгами домой, он говорит братьям, что продал покойную мать в городе на базаре. Братья убивают своих жен и везут продавать, но оказываются в тюрьме. Все их имущество достается дураку, который потом зажил припеваючи. Среди бытовых сказок есть особая группа, называемая заветные сказки. Заветные сказки — повествование с неприличным содержанием, в которых употребляются бранные, непристойные слова и выражения. Бытовые сказки — жанр значительно более молодой, чем другие разновидности сказок. В современном фольклоре наследником этого жанра стал анекдот (от гр. anekdotos — «неопубликованный»).
|
Люди в сказках о животных встречаются часто. Таков, например, мужик из сказки о вершках и корешках, на которого работал Медведь. Когда делят урожай. Медведь выбирает то вершки, то корешки и всегда проигрывает: вместо овса он получает корни, а вместо картофеля - ботву.
|
Еще одной разновидностью сказочного жанра являются докучные сказки — сказки-бесконечки, напоминающие дразнилки: «Жили-были два братца, два братца — кулик да журавль. Накосили они стожок сенца, поставили среди польц. Не сказать ли сказку опять с конца?»; «Жил-был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало; не сказать ли с начала?»
КУМУЛЯТИВНЫЕ СКАЗКИ построены на многократном повторении одних и тех же действий или событий. В кумулятивных (от лат. cumulatio — «накопление») сказках выделяют несколько сюжетных принципов: накопление персонажей с целью достижения необходимой цели; нагромождение действий, заканчивающихся катастрофой; цепь тел людей или животных; нагнетание эпизодов, вызывающе неоправданные переживания героев.
Накопление героев, помогающих в каком-то важном действии, очевидно в сказке «Репка». Большую-пребольшую репку тянет дед, затем ему помогает бабка, а вслед за ней — внучка, жучка, мышка и кошка. Нагромождение действий, заканчивающихся катастрофой, встречается в сказке «Терем мухи». Муха строит терем или поселяется в брошенной рукавице или в черепе мертвеца. Один за другим появляются звери, причем каждый последующий больше предыдущего: вошка, блошка, комар, лягушка, мышка, ящерица, заяц, лисица. Все они просятся в избушку. Позже приходит медведь; он садится на этот терем и всех давит. В отличие от «Репки» и ей подобных сказок кумулятивные сказки вроде «Терема мухи» лишены внутренней логики, эпизоды просто нанизываются один на другой. Сказки, построенные на создании своеобразной цепи из тел людей или животных, также приводят слушающего или читающего к неожиданной концовке. Волки в одной из них становятся друг на друга, чтобы съесть портного, сидящего на дереве. Портной восклицает: «А нижнему больше всех достанется!» Нижний в страхе выбегает, и все падают. Еще одна группа кумулятивных сказок построена на нагнетании эпизодов, в которых все новые и новые персонажи переживают из-за совершеннейших пустяков. Жалостливая девка-невеста идет к реке выполаскивать швабру. Глядя на воду, она представляет себе такую картину: «Если рожу сына — утонет». К ее плачу присоединяется мать, отец, бабка. Видя все это, жених покидает ее. Кумулятивные сказки — очень древняя разновидность сказок. Изучены они недостаточно.
 |
 |
|
Таким представил медведя из сказки «Медведь-половинщик» художник В. Конашевич. |
|
В СКАЗКАХ О ЖИВОТНЫХ сохранилась память о древних представлениях, согласно которым люди произошли от предков-животных. Животные в этих сказках ведут себя подобно людям. Хитрые и пронырливые звери обманывают других — доверчивых и глупых, и это плутовство никогда не осуждается. Сюжеты сказок о животных напоминают о мифологических рассказах про героев-плутов и их проделки (фольклористы называют таких мифологических персонажей трикстерами). За конкретными животными закреплены какие-либо качества: хитрость (лиса), открытость (петух), нахальство и злобность (волк), независимость (лев), наблюдательность и способность быть в нужном месте (орел), добродушие и неловкость (медведь) и др. Устойчивость их характеристик сопряжена с аллегоричностью. В западноевропейском фольклоре известна сказка, в которой персонажи — не животные, а дьявол и святой Иоанн: святой благодаря своему хитроумию посрамляет дьявола.
Современный человек, желая узнать об окружающем мире, о событиях далекого прошлого или наших дней, читает научно-популярные книги, журналы, газеты, смотрит программы новостей по телевизору или слушает их по радио. Наши далекие предки узнавали о таких новостях из небольших устных рассказов — преданий, быличек и легенд. Многое, о чем повествуют эти произведения, нам кажется вымыслом и откровенной фантастикой. Но для людей древности это было несомненной правдой.
|
В преданиях повествуется о необычных, дерзких или хитрых поступках известных исторических личностей. Таково предание о русской княгине X в. Ольге, сохранившееся в «Повести временных лет». Мстя за убийство мужа, Ольга притворно согласилась примириться с убийцами и принять послов из племени древлян, повинных в гибели ее супруга. Она пожелала, чтобы те велели нести себя в ладьях в знак особой чести. Слуги Ольги принесли древлянских послов в ладьях к вырытой загодя яме, сбросили их туда и закопали живьем. Княгиня задала древлянам загадку, которую те не разгадали: в ладьях было принято хоронить покойников.
|
ПРЕДАНИЯ, БЫЛИНКИ, ЛЕГЕНДЫ - жанры фольклорной прозы, у которых есть общая черта: они рассказывают о событиях или происшествиях, которые считаются достоверными, подлинными. Предназначение этих жанров — не развлечение (такова цель сказки), а сообщение истинных сведений. В преданиях содержатся воспоминания о событиях старины, объяснение какого-то явления, названия или обычая. В легендах часто объясняется происхождение религиозных обрядов, рассказывается о сотворении мира; в них может быть заключено назидание, нравственный урок.
ПРЕДАНИЯ в старинной народной бесписьменной культуре были заменой исторических сочинений, своеобразной устной энциклопедией по истории. В преданиях часто говорится об известных событиях прошлого: о завоевании Сибири казачьим атаманом Ермаком, об основании Петром I Санкт-Петербурга, о переходе Суворова через Альпы и о походе Наполеона в Россию в 1812 г. Но иногда в преданиях сообщается о неизвестных подробностях из жизни исторических лиц: царей, полководцев и др.
Так, много существует преданий, рассказывающих о дерзости и величии Петра I. Когда царь решил основать Петербург, местные жители указали ему на березу, на стволе которой была зарубка, отмечающая уровень подъема воды при наводнении. Но царь, не испугавшись этого, все же решил строить город в этом гиблом месте. Показывая свое пренебрежение к силе природы и людским страхам, он велел срубить березу. Строительство Петербурга воспринималось многими людьми как вызов Богу. Появилось предание о том, как первая жена Петра Евдокия Лопухина, которую он насильно постриг в монахини, прокляла город, предсказав: «Петербургу быть пусту».
В преданиях далеко не всегда сообщаются действительно достоверные сведения. В них много домысла. Так, рассказывались предания о том, что в древности жили не обыкновенные люди, а исполины, великаны. Поэтому на местах сражений русских с врагами будто бы можно найти кости огромной величины. Но рассказчики и слушатели преданиям доверяли.
Большое число преданий посвящено объяснению происхождения какого-либо народа, города или различных названий. Такие предания принято называть этиологическими (от греч. aitia — «причина» и logos — «слово», «учение», «рассказ»). В древнерусской летописи «Повесть временных лет» (XI - XII вв.) содержатся предания об основании городов Киева и Переяславля. Киев будто бы основал князь Кий, у которого были братья Щек и Хорив и сестра Лыбедь. По их именам были названы холмы Щековица и Хоривица и река Лыбедь. Название города Переяславль якобы связано с тем, что на его месте русский юноша-кожемяка победил громадного богатыря из тюркского племени печенегов. Такие предания существуют и доныне.
|
Водяного в былинках представляли пузатым, лохматым (с зеленого цвета волосами) стариком с огромной головой, рыбьими глазами, покрытым тиной или чешуей. Хозяевами рек и озер становились утопленники. |
БЛИЗКИ ПРЕДАНИЯМ рассказы о встрече с нечистой силой — с лесным духом (лешим), духом воды (водяным) , духом — покровителем дома (домовым), женским духом, живущим в доме или на болоте (кикиморой). Если о встрече с нечистью повествовал сам очевидец, то такие рассказы назывались былинками. А если рассказчик повествовал о случившемся с другими, то эти рассказы назывались бывальщинами.
ЛЕГЕНДАМИ В ФОЛЬКЛОРЕ называют народные прозаические рассказы религиозного характера, повествующие о Боге и святых. Фольклорист и исследователь древнерусской литературы М. Н. Сперанский (1863 - 1938) писал, что «христианская легенда как своего рода христианский эпос является прежде всего популяризацией христианства (как миросозерцания, учения) и христианской религиозной литературы». Сюжеты некоторых легенд восходят к произведениям церковной литературы — к Библии и житиям (жизнеописаниям) святых (см. Особенности древнерусской книжности). Отразились в легендах и религиозные представления, не совсем соответствующие церковному христианскому вероучению (произведения, содержащие такие представления, принято называть апокрифами (от греч. apokryphos — «сокровенный»).
На связь легенды с церковной литературой указывает название жанра, данное ему учеными (легенда — от лат. legenda — «предназначенное к прочтению»). Сами рассказчики не называют истории о Боге и святых легендами. Так в Средние века в Западной Европе называли письменные повествования о святых. Но несмотря на связь легенд с христианской литературой, их сюжеты часто не соответствуют христианскому вероучению, принятому церковью.
|
В 1983 г. в одной из деревень недалеко от подмосковного города Тарусы было записано предание о происхождении названия Таруса. Шел Наполеон лесом к Москве через те места, где потом Таруса была, а лес был глухой, не продерешься. Наполеон и сказал: «C'est а Russ» («Это та Русь!» - та еще, трудная, «неблагоприятная»). Так и появилось название Таруса. На самом деле Наполеон в 1812 г. не проходил возле Тарусы, а сам этот город возник за несколько веков до его похода на Россию.
|
Среди легенд выделяются космогонические (от греч. kosmogonia — «происхождение мира») легенды — рассказы о сотворении мира, о Боге, странствующем по земле, о святых, о посмертной судьбе грешника. Русская космогоническая легенда изображает сотворение мира совсем не так, как Библия: равное с Богом участие в создании мира принимает Дьявол. Бог спускается с небес, застает Сатану и спрашивает, не видал ли тот где-нибудь земли. Сатана знает, что земля есть на дне моря, и Бог велит ему принести ее. Дьявол превращается в птицу гоголя (утку) и дважды ныряет под воду, но не может поднять землю на поверхность: вода размывает ее. Тогда Бог велит Сатане поклониться иконе Богоматери с младенцем, которая находится под водой, и после этого, на третий раз. Дьявол доносит землю и отдает ее Богу, но часть прячет под землей. Бог разбрасывает землю на восточную сторону — и возникает чудная, прекрасная земля. Дьявол разбрасывает землю на северную сторону — и появляется земля холодная, каменистая и нехлебородная.
Легенды о странствующем Боге имеют назидательный характер. Бедная вдова приютила Христа с учениками — апостолами и отдает им последнюю краюшку хлеба, которой чудесным образом хватает на всех, и еще остается хлеб для хозяйки. В волшебной сказке после этого следовало бы вознаграждение богатством. Такая развязка иногда встречается и в легендах, но не очень часто. В этой легенде все совершается иначе. Христос посылает волка задрать единственную корову вдовы, а бочку с деньгами направляет к богачу, который отказал Иисусу и апостолам в приюте. Апостолы недоумевают, и тогда Христос показывает им два колодца: в одном — жабы и змеи, а в другом — сладкая и чистая вода. Колодцы символизируют судьбу богача и вдовы на том свете. Противопоставление «земное» и «небесное» присуще многим легендам.
Легенды рассказывают о том, как и почему крестьяне почитают святых. Мужик не почитал святого пророка Илью, и тогда Илья послал грозу и дождь и повредил его посевы. Спас мужика святой Никола. С тех пор мужик стал почитать обоих. За именами христианских святых, по мнению исследователей, скрывается древний языческий миф о боге-громовержце и его противнике боге Велесе: после принятия христианства на Илью и Николу восточные славяне перенесли представления о языческих богах.
|
Назидательны и легенды о посмертной судьбе грешника. Сын получает разрешение вытащить душу матери из ада. За всю жизнь она сделала лишь одно доброе дело - подала нищему луковицу. За эту луковицу сын пытается ее вытащить. За ее ноги цепляются другие грешники, она стряхивает их, и луковица обрывается. Мать-грешница поступает в соответствии с земным «здравым смыслом», но на том свете действуют законы, противоположные земным. Грешница губит себя тем самым поступком, благодаря которому она надеялась спастись. Эту легенду пересказал Ф. М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» (1879 - 1880). В русских, украинских и белорусских легендах грешник спасается, убив жестокого помещика или приказчика, и головешки расцветают после этого, чудесно свидетельствуя о его спасении. Убийство злодея, притесняющего крестьян, оправдывается в легенде вопреки христианскому учению как богоугодный поступок. Эту народную легенду о прощенном грешнике пересказал стихами Н. А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» (1866 - 1876). |
В легендах иногда переосмыслены сказочные сюжеты о хитроумном персонаже и простаке, пытающемся ему подражать, но терпящем неудачу. Странник, под обликом которого скрывается Христос или святой Никола, исцеляет разрубленные тела так, что они срастаются. Жадный поп пытается делать то же самое, но у него ничего не получается. Христос и Никола просятся ночевать к богачу, который пускает их при условии, что они обмолотят его хлеб. Пришельцы совершают молотьбу чудесным образом: поджигают снопы, солома сгорает, а зерно остается. После ухода Христа и Николы хозяин зажигает весь сарай с хлебом (овин), и он выгорает дотла. Иногда легенды восходят к сюжетам произведений церковной литературы. В сказании о монахе Иоанне Колове, переведенном с греческого языка, рассказывалось о монахе, который покаянием искупил великий грех, и головешки, символизировавшие его греховную душу, чудесно расцвели. Известны фольклорные версии сказания.
Легенды — относительно молодой жанр, тесно связанный с особенностями религиозного характера народа. Поэтому в отличие от сказок у разных народов они редко похожи.
Стихотворные произведения светского содержания, повествующие о славных деяниях далекой древности (былины), или религиозные стихи, рассказывающие о святых и об Иисусе Христе и Богоматери (духовные стихи), еще лет 100 с небольшим назад бытовали в народе. Теперь уже невозможно услышать и записать былину, уходят в прошлое и духовные стихи. Но они и поныне остаются шедеврами, драгоценными камнями в сокровищнице русского фольклора.
|
|
|
|
Художник В. Перцов изобразил Добрыню Никитича слитым воедино с природной стихией. |
Илья Муромец, сидящий на коне, врывается в ряды врагов (ил. В. Перцова). |
НАРЯДУ С ПРОЗАИЧЕСКИМИ ЖАНРАМИ, которые слушателями и исполнителями воспринимаются как повествования о подлинных событиях, существуют также стихотворные формы, к которым сказители и слушатели относились как к рассказам достоверного содержания. В русском фольклоре это былины и духовные стихи. Похожие произведения существовали не только в России, но и в других странах, в частности в фольклоре всех славянских народов.
БЫЛИНЫ — стихотворные эпические произведения о подвигах, мужестве и приключениях героев. В том виде, в каком они сохранились до нашего времени, былины были, по-видимому, созданы в XIII - XV вв. В них упоминается о Киеве и киевском князе Владимире Красном Солнышке, в образе которого соединены воспоминания о крестителе Руси киевском князе Владимире Святославиче (? - 1015)и о его правнуке Владимире Всеволодовиче Мономахе (киевский князь в 1113 - 1125), успешно воевавшем с половцами. Но былинные богатыри, обороняющие Русскую землю, воюют не с половцами, а с татарами, покорившими Русь в 1237 - 1240 гг.
|
Гипербола превращает персонаж былины в героя
вселенского масштаба. Враг богатыря - Идолище (Одолище) или
Соловей-разбойник - обладает сверхъестественной силой; но и от
голоса Ильи Муромца «Небо с землею потрясалися,
«Ай пошел скоро Илья тут под окошечко <...> Тут скорехонько к окошечку подходит князь. Отпирает ему окошечко косящато. Говорит-то князь да таковы речи: <...> «Ай живет у меня поганое Идолище Подношу-то я татарину все кушанье». |
БЫЛИНА РАССКАЗЫВАЕТ не о конкретных исторических событиях, а рисует их в обобщенном виде. Князь Владимир в былинах, несмотря на сходство его имени с именами двух киевских князей, — условный образ, славный и сильный правитель, пирующий и совещающийся со своими богатырями и награждающий их за подвиги. Правда, иногда былинный Владимир рисуется иронически: показываются его физическая слабость в сравнении с богатырями; Владимир несправедливо осуждает Илью Муромца и даже сажает его в темницу, обрекая на смерть. Но тем не менее богатыри всегда верой и правдой служат князю. Так, Илья Муромец, освобожденный из темницы, спасает Киев и князя от угрожающих городу татар. Татары в былинах — не только монголо-татары. Это собирательный образ всех врагов Руси, приходивших из степей с юга и востока: печенегов, половцев, монголов и татар. Время в былинах (например, правление князя Владимира и служба киевских богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, Дуная и др.) представлено как некая изначальная, далекая героическая старина, а не как определенный период истории. Из всех событий русской истории былины рассказывают только о борьбе Руси с татарами. О других событиях русской истории XIII - XV вв. и о возвышении Москвы в былинах ничего не говорится. Считается, что тексты былин сложились в XIII в. как песни, в которых в преображенном виде отражена история России за несколько столетий. Жанр былин не известен ни украинскому, ни белорусскому фольклору. А разделение восточных славян на три народности — русскую, украинскую и белорусскую — происходило с XIII по XVI в. Это указывает на то, что былины были созданы во времена разделения прежде единой восточнославянской народности.
Однако сюжеты и мотивы нескольких былин — более раннего происхождения. Таков мотив змееборчества — победы героя, богатыря Добрыни над змеем. В былине о Добрыне и змее был, по-видимому, переработан древний сюжет о борьбе героя со змеем за женщину, похищенную у него чудовищем. Получеловека-полузмея Тугарина Змеевича, нагло ведущего себя на пиру у князя Владимира, убивает благодаря хитрости другой былинный богатырь — Алеша Попович.
Столь же древним является и сказочный сюжет новгородской былины о Садко, попадающем на морское дно и тешащем морского царя игрой на гуслях. Фантастические черты двух персонажей, побеждаемых Ильей Муромцем, — громадного Идолища поганого и получеловека-полуптицы Соловья-разбойника, от свиста которого «Подрожала родна матушка-сыра земля, // Как бы сырые тут дубья расшаталися», — восходят тоже к забытой старине.
|
В былине «Василий Буслаев молиться ездил»
рассказывается о нарушении героем религиозных запретов: он
кощунственно пинает ногой череп мертвеца, купается голым в Иордане,
где крестился Христос (в этой священной реке можно было купаться
только в рубашках), перепрыгивает через камень, на котором написано: Вдоль скакать по каменю, -
Сломить будет буйну голову. <...> |
В БЫЛИНАХ РАННЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ герой преследует личные цели, разыскивает себе невесту и женится на ней. В более поздних былинах поступки богатырей всегда связаны с защитой Русской земли, со служением князю и Руси. Таково большинство былин киевского цикла, действие которых связано с Киевом и князем Владимиром. Главный из богатырей — Илья Муромец, освобождающий город от обступивших его войск татарского хана Калина. Среди былин выделяется цикл из двух произведений о Василии Буслаеве, удалом и сильном новгородце: «Василий Буслаев в Новгороде» и «Василий Буслаев молиться ездил». В первой былине Василий Буслаев собирает себе дружину и вызывает на бой новгородцев. Он поспорил о великий заклад с новгородцами, что победит их в кулачном бою, и действительно побеждает их в одиночку, идя всего лишь с несколькими товарищами. Образ Василия неоднозначен: он удал и бесшабашен, сказители любуются его дерзостью, когда он бросает вызов богатым новгородцам. Но бьется он не с врагами, как богатыри киевского цикла, а с соплеменниками. В былине «Василий Буслаев молиться ездил» Василий отправился на покаяние в Иерусалим, к великим христианским святыням. Но по-прежнему «наш Василий... не верует ни в сон, ни в чох».
В ИЗУЧЕНИИ РУССКИХ БЫЛИН еще в XIX в. сформировались две основные школы: мифологическая и историческая. К первой школе относились русские ученые Ф. И. Буслаев и О. Ф. Миллер. Отдельные идеи этой школы разделял известный советский фольклорист В. Я. Пропп. Приверженцы мифологического подхода видели в героях и сюжетах былин отражение древних мифов. Так, в былинном персонаже-чародее Волхе (или Вольге) Всеславьевиче Ф. И. Буслаев усматривал связь со змеем, по новгородскому преданию, жившим в реке Волхове. О.Ф. Миллер считал, что этот образ восходит к древнему божеству, похожему на индийского бога Индру. В Илье Муромце сторонники мифологического подхода усматривали качества бога-громовержца. В былинах в переосмысленном виде сохранены древние мифологические представления. Но далеко не всегда персонажи и сюжеты былин восходят к мифологии. Сторонники исторической школы (В. Ф. Миллер, Б. А. Рыбаков и др.) считали, что былины всегда отражают реальные события. Волк Всеславьевич для фольклористов исторической школы — полоцкий князь Всеслав, рожденный, согласно летописям, чудесным образом. Соловей-разбойник для В. Ф. Миллера — обычный преступник, а не фантастическое существо. Добрыня Никитич для В. Ф. Миллера — дядя князя Владимира Святославича Добрыня, упомянутый в летописях. Рассказ о победе Добрыни над змеем Б. А. Рыбаков истолковывал как иносказательное изображение борьбы русских с половцами. В былинном гусляре Садко сторонники исторической школы видели купца Сотко, упомянутого в новгородской летописи XII в. Некоторые наблюдения ученых исторической школы очень интересны, но былина — не исторический документ, и поиск исторических сведений в ее тексте всегда рискован. Прежде всего необходимо раскрыть художественное своеобразие былины, и только после этого можно сопоставлять ее с историческими событиями.
|
Во второй половине XIX в. ценные записи былин были сделаны фольклористами П. Н. Рыбниковым и А.Ф. Гильфердингом, в конце XIX - начале XX в. несколько былин было записано А. В. Марковым, Н. Е. Ончуковым, братьями Б. М. и Ю. М. Соколовыми. Большинство записей было сделано на новгородском Севере - в окрестностях Онежского озера, в Архангельском крае, в Карелии. На Севере жили известные исполнители былин Т. Г. Рябинин, А. П. Сорокин, П. Г. Марков, М. Д. Кривополенова, М. С. Крюкова. Некоторые записи были сделаны на юге России (в окрестностях Ростова-на-Дону), в Приуралье и в Сибири. К 1930-м гг. былины почти исчезают как живой жанр.
|
В ОТЛИЧИЕ ОТ НАРОДНОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ, былина избегает метафор: последние в фольклоре иносказательно описывают человеческие переживания. В былинном эпосе внутренний мир персонажей изображается редко. В нем описываются величественные подвиги, прекрасные вещи: дорогое оружие, златоверхие терема, богатые корабли, редкие яства. Сказитель любуется ими и потому называет эти вещи своими именами, не прибегая к метафорическим описаниям.
Излюбленный прием былин — отрицательное сравнение: «Не бела заря занималася, // Не красно солнце выкаталося. Выезжал тут добрый молодец, // Добрый молодец Илья Муромец...» Другая отличительная черта былин — постоянные эпитеты: «стремя булатное», «буйна голова», «дорога прямоезжая», «темна ночь», «чисто поле», «рассыпной песок», «облако ходячее». Свойства предметов в былине часто имеют превосходную степень: «Конь стоит наубел-белый, // Хвост-грива научерн-черна». Изображая богатырей и их врагов, былины используют гиперболу (от греч. hyperbole — «преувеличение»): Илья Муромец побивает телегой или татарином, которого схватил за ноги, десятки и сотни врагов, «прокладывая» в их толпах улицы и переулочки. Богатырский конь не скачет, а летит. Былина изображает в движении не только героев, но и вещи, она не описывает неподвижные состояния. Изображается не просто оружие и снаряжение богатыря, а то, как он берет оружие, собираясь в путь-дорогу. Былинный герой Дюк Степанович седлает коня, и именно здесь сказитель былины повествует о его попоне, о подпругах и пряжках у седла. Отдельные события былина описывает подробно. В былине не говорится о богатыре, что он ехал сутки, а поется: «А и ехал он день до вечера, // А и темную ночь до бела света». Былине присущи разнообразные словесные повторы. Повторяются не только существительные, глаголы, прилагательные, наречия, числительные, но и служебные слова — частицы и особенно предлоги: «Кто бы нам сказал про старое, про бывалое»; «Ты не бей меня по белу лицу, / / По белу лицу, по румяному»; «не для красы, для угожества, — // Для ради крепости богатырския». Таким образом описание замедляется, выделяется каждое отдельное слово, подчеркивается его смысл. Этой же цели служат и словосочетания из однокоренных слов («думу думати», «слово молвити»), и выражения, составленные из слов-синонимов («бежит-выбегает», «далечинка-далеча», «прямо-напрямо»), и синтаксический параллелизм — повторение нескольких предложений одинакового строения: «По чисту полю мне поездити, // Снова добра коня понаездити, // Могучи плечи порасправити, // В себе силушку проповедати».
|
Ученые XIX в. обнаружили, что в былинах иногда перелагаются стихом волшебные сказки. Так, певец Чуков из северной деревни Кижи пропел собирателю П. Н. Рыбникову «Нерассказанный сон» о сне боярского сына, будто его отец выпил воду, в которой сын мыл ноги. Герой никому не рассказывает о сне, терпит разные злоключения. Но в конце концов он добывает волшебные предметы, при помощи которых помогает царю, а сам женится на прекрасной царевне. На свадьбе отец ночью по ошибке выпивает воду, в которой его сын мыл ноги. Сон сбывается. Герой настоящих былин не добивается волшебством своих целей. Женитьба героя в былинах встречается редко и, как правило, осуждается. Переложение сказок говорило об упадке жанра. Кроме того, создавались былины на сюжеты из книг по русской истории. Другой признак умирания былин - соединение их в большие песни. Гостями на пиру у князя Владимира оказывались не только киевские богатыри, но и новгородские герои Садко и Василий Буслаев. А трагические концовки былин сказители заменяли счастливыми. |
Стих русских былин — обычно трехударный. Между ударными бывает от одного до трех безударных слогов. За последним ударением обычно следуют два безударных слога (дактилическое окончание). Таким же стихом слагались духовные стихи и исторические песни. Когда-то былины пелись под гусли. Но уже в XIX в. крестьяне-сказители просто распевали былины без музыкального сопровождения. Древнейшие записи былин относятся к середине XVIII в. и содержатся в «Сборнике Кирши Данилова» (имя казака Кирши Данилова, возможно составившего эту книгу, указано в рукописи).
ЯЗЫК ДУХОВНЫХ СТИХОВ напоминает былинный. Но это самостоятельный жанр — стихотворения-песни на религиозные темы и сюжеты, большинство из которых заимствовано из Библии и жития святых. Многие восходят к апокрифам — сочинениям, представляющим отличающуюся от библейской версию священных событий. Церковь эти сочинения не признавала истинными. Основная часть духовных стихов сложена, как и былины, тоническим стихом. Известны духовные стихи, сложенные рифмованным равносложным (силлабическим) стихом, который господствовал в русской книжной поэзии второй половины XVII — начала XVIII в. По всей видимости, силлабические духовные стихи имеют книжное происхождение и, возможно, созданы позднее, чем тонические. Исполняли духовные стихи обычно странники, паломники, певшие их среди народа на базарных площадях или у дверей монастырских храмов. Большинство духовных стихов известно в записях фольклористов середины XIX в. и более позднего времени. Некоторые исследователи считали, что духовные стихи сложились в первые века христианства на Руси, в X - XI столетиях, и даже в языческие времена. Ряд ученых полагают, что они составлены не ранее XVII в. Наиболее распространено мнение, что формирование этого жанра относится к XV - XVII вв.
|
В «Плаче Адама» Ева и Адам плачут о своем грехе,
из-за которого они лишились рая: «Расплачется Евга, перед раем стоя:
«Рая-т ты мой, рая-т, прекрасный мой рая-т! Тебе ради, рая, а мне
ради, Евга, заключен рай бысти. Евга согрешила, закон преступила.
Богу нагрубила, Адама прельстила, от свят отогнала от рая святого».
В фрагменте панно И. Билибина великомученики Борис и Глеб представлены с использованием изобразительных элементов иконы, лубка и народного рисунка. |
Духовные стихи можно разделить на несколько видов. Некоторые из них несюжетны и представляют собой своеобразные назидания (о святой Параскеве Пятнице, наставляющей пустынника) и исповеди («Царевич Иосаф», «Проспали, продремали // Небесное царство», «Плач Адама»). Но большинство имеет эпический характер, изображает события из земной жизни Богородицы и Христа: его сошествие в ад, освобождение умерших праведников от власти адских сил, воскресение и вознесение. Страшный суд. Описываются события из жизни святых и совершенные ими чудеса (о Николе Угоднике, об Алексее Человеке Божием, о Борисе и Глебе и др.). Известны духовные стихи, объясняющие происхождение церковных праздников («Стих о двенадцати пятницах», «Дмитриевская Суббота»); стихи притчевого характера, изображающие наказание смертью горделивца («Стих об Анике-воине»). Особое место занимает «Стих о Голубиной книге», повествующий о сокровенной сущности, истине мира, заключенной в таинственной книге. Сюжеты духовных стихов — страдания и добровольное самоуничижение: мучения Христа на Голгофе и плач Богородицы по распятому сыну и др. Небесное противопоставлено земному. Особое значение в них обретают эсхатологические (от греч. eschatos — «конечный») мотивы: конец света и Страшный суд. Христос в духовных стихах — в образе строгого судии грешников. Богородица — заступница людей.
Основной элемент в структуре духовных стихов — диалог Христа и Богородицы, Христа и грешников и т. д. Чередующиеся вопросы и ответы персонажей призваны драматизировать действие, передать чувства участников диалога, словесно обозначить конфликт и раскрыть глубинный смысл событий.
Жанровые черты и мотивы духовных стихов встречаются в произведениях многих русских писателей XIX - XX вв.: в стихотворении Н. А. Некрасова «Влас» (1854), в сочинениях Н. С. Лескова и П. И. Мельникова-Печерского, в стихотворениях и поэмах Н. А. Клюева и др.
В народных стихах выражены не одни лишь чувства людей в пору праздников и в печали, в горести и радости. Они повествуют не только о подвигах богатырей и деяниях святых и самого Христа. Есть среди народной поэзии и произведения, рассказывающие о страшных, мрачных событиях, совершающихся с персонажами в частной, семейной жизни. Такие произведения называют балладами.
|
Иногда преступники не знают, кого предают смерти. В балладе «Братья-разбойники и сестра», одна из версий которой была записана А. С. Пушкиным, дочь едет навестить родителей, у которых долго не была. На дороге на нее нападают братья, ставшие разбойниками, и, не узнав сестры, убивают ее мужа.
Средневековые трубадуры и труверы во Франции и менестрели и миннезингеры в Германии исполняли лирические песни и баллады. |
НАРОДНЫЕ БАЛЛАДЫ — эпические стихотворные произведения с драматическим сюжетом, неожиданным поворотом событий и трагической, кровавой развязкой — преступлением, ведущим к гибели героев. Гибели могут предшествовать какие-то зловещие приметы, например пророческие сны. Сам народ не называет такие произведения балладами. Этот термин принадлежит фольклористам (от фр. ballade, от прованс. balada — «танцевальная песня», от лат. ballo — «танцую»). Во французской провинции Прованс во времена раннего Средневековья баллада сопровождалась танцами — баллетами. В Англии и Шотландии XIV - XVI вв. баллады первоначально исполнялись бардами (от кельт. bard — «певец») и представляли собой песенные повествования о пограничных войнах и национальных героях. Они отличались драматичностью, напряженностью диалогов, таинственностью и трагической концовкой.
В русском фольклоре баллады — самостоятельный жанр, не похожий ни на былины, ни на лирические песни. Конфликты в балладе в отличие от столкновения персонажей в былинах — не борьба с иноплеменниками, противниками Руси, не битва с чудовищами. Причиной вражды в балладах иногда бывает обида за нанесенное оскорбление.
Обыкновенно убийство связано с изменой мужа или жены. Такова баллада «Волконский и Ваня-ключник», записи которой принадлежат поэтам А. С. Пушкину и А. В. Кольцову. Князь казнил Ваньку, когда узнал от горничной, что княгиня в его отсутствие стала любовницей слуги, ключника Ваньки. Существует и баллада «Жена губит мужа», героиня которой убивает нелюбимого, постылого мужа. Но иногда причина преступления остается неясна, и это придает сюжету баллады загадочность. Такова баллада «Василий и Софья»: мать по непонятным причинам отравляет влюбленных — своего сына Василия и его невесту Софью, на могилах которых вырастают деревья и сплетаются верхушками. Не ясно, за что князь Роман в балладе «Князь Роман жену терял» (терял — значит «убивал») губит свою супругу.
|
Насколько слита с тяжелым и острым камнем фигура человека, настолько невесом и призрачен корабль, парящий на грани моря и неба. (Ил. М. Малышева к «Воздушному кораблю» М. Ю. Лермонтова.) |
ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ БАЛЛАДЫ, ключевая часть ее — диалог персонажей (Димитрия и Домны, Домны и матери, Волконского и горничной, Волконского и Ваньки и др.).
В былинах преступление всегда наказывалось. В балладах оно не наказывается никогда. Изредка встречаются баллады, в которых замышленное убийство не происходит: в балладе «Дети, брошенные в Дунай, возвращаются на корабле» незамужняя женщина, родившая двоих детей, пускает их вниз по реке. Но они остаются живы и спустя много лет возвращаются.
Баллады моложе былин. Их сюжеты не уходят корнями в глубокую древность, а возникли, по-видимому, в XIV в. и позднее. А баллада «Волконский и Ваня-ключник» была создана только в XVII столетии.
В литературе жанр баллады получил распространение в XVIII — начале XIX в. в преддверии романтической эпохи и в период романтизма. Романтики любили и ценили сюжеты с неожиданными и страшными событиями, с таинственными и мрачными героями. Отклики и подражания вызвала литературная баллада «Ленора» (1773), созданная немецким поэтом Г. А Бюргером на основе немецкого фольклора. В ней повествовалось о страшном наказании, постигшем девушку, которая роптала на Бога из-за гибели жениха на войне: жених-мертвец приезжает за ней и берет к себе в могилу. В 1808 г. В.А. Жуковский сделал вольный перевод этой баллады под названием «Аюдмила». Так русская литературная баллада складывалась под влиянием немецкой, а не русской народной баллады.
Наследником баллады в XIX - XX вв. стал жестокий романс, также рассказывающий о роковых страстях, убийствах из ревности или мести и других преступлениях, о самоубийствах. Некоторые жестокие романсы — литературного происхождения, например стихотворение юного Пушкина «Романс» («Под вечер, осенью ненастной...», 1814) — о девушке, подкладывающей на порог чужого дома своего внебрачного ребенка.
Кроме народных обрядовых песен, которые ныне уже почти не исполняются, в фольклоре есть и песни необрядовые, отражающие сложный мир человеческих чувств. Исполнение этих песен не приурочено к какому-то дню или времени года. Такие песни необычайно разнообразны. Любовь счастливая и несчастная, горькая судьба и безудержное веселье, памятные события истории запечатлены в них. А язвительная насмешка, озорство и добрая ирония отличают небольшие стихотворные произведения — частушки, которые поются и сейчас.
|
На миниатюре XVIII в. изображен неудачный поход князя Голицына против Крымского ханства. |
СЛОВОМ «ПЕСНИ» в фольклористике обозначаются произведения разной природы, принадлежащие к нескольким жанрам. Помимо песен, входящих в состав календарного, свадебного и похоронного обрядов (см. Обрядовый фольклор), это разнообразные хороводные, игровые и плясовые песни, которые исполняются при игре-хороводе, при других играх или при танце-пляске. Большая группа песен — лирические необрядовые песни (любовные, семейные, казачьи, солдатские, ямщицкие, разбойничьи и некоторые другие). Эти разновидности песен отличаются друг от друга по своим темам, они говорят о людях, принадлежащих к разным профессиям и слоям народа; иногда в этих песнях рассказ ведется от имени таких героев.
ОСОБЫЙ ЖАНР песенного творчества — исторические песни. Их героями являются исторические лица — цари, полководцы, вельможи (Иван Грозный, Петр Великий, князь В. В. Голицын, возглавивший в конце XVII в. неудачный поход на турецкую крепость Азов, атаман Платов — участник войн с Наполеоном, всесильный и жестокий граф Аракчеев и др.). В таких песнях упоминается или рассказывается об известных событиях русской истории: о взятии Казани войсками Ивана Грозного, о неудачной осаде Пскова в 1581 - 1582 гг. польским королем Стефаном Баторием, о Полтавской битве, в которой войска Петра I разбили шведского короля Карла XII, о разорении Москвы французами в 1812 г.
Некоторые исторические песни — произведения эпические, сюжетные. Такова, например, песня «Гнев Ивана Грозного на сына», повествующая о том, как царь решил казнить своего сына Федора Ивановича, несправедливо заподозрив его в измене. Спасает царевича боярин Никита Романович. Вместо Федора Ивановича погибает некий ключник. Песня «Кострюк» рассказывает о том, как двое русских братьев победили на поединке басурманина Кострюка, брата царицы Марии Темрюковны, на которой женился Иван Грозный. Царь похвалил братьев и жестоко выбранил жену, обругавшую победителей. Песня о воеводе М. В. Скопине-Шуйском, жившем на рубеже XVI - XVII вв., описывает отравление прославленного полководца недругами на пиру. Свидетельства исторических песен не всегда достоверны и точны. Псков защищал воевода Шереметьев, а не Карамышев, как поется в песне. Иван Грозный убил сына Ивана, но не пытался убивать Федора. Царь действительно был женат на дочери кабардинского князя Темрюка (Темгрюка) Марии. Брат Марии, Михаил (а не другой брат, которого звали Мамстрюка), был казнен царем, но никакого поединка не было, и произошло это событие после смерти Марии. Тем не менее в народе исторические песни считались достоверными рассказами о прошлом. В центре сюжетных исторических песен обычно столкновение или встреча русского царя или полководца с иноземным врагом, грозящимся завоевать всю Россию или какой-то город. Дальше следует диалог или обмен письмами, враг оказывается посрамлен. Но иногда царь беседует со своим подданным. Например, Иван Грозный видит молодого разбойника, которого должны казнить. Но, узнав, что похищенные деньги разбойник раздавал нищим, царь велит его наградить.
|
Вымышлен сюжет песни об атамане Платове, который
неузнанный приезжает во дворец Наполеона: Черный кивер скидавал.
Француз ево не узнал. |
В отличие от былин исторические песни повествуют не о об условном далеком-далеком прошлом, а о реальных исторических событиях. Герои исторических песен — реальные личности, а не богатыри, наделенные сверхчеловеческой силой. Нет в исторических песнях и фантастических существ, таких, как былинные Соловей-разбойник или Тугарин Змеевич. Кроме эпических исторических песен существуют исторические песни лирического характера. Это песни — плач об умершем Иване Грозном и воспоминание русского воина о взятии Казани.
Древнейшая историческая песня, вероятно, сложена в XIV в.: в ней изображается расправа восставших жителей Твери в 1327 г. с татарским сборщиком дани Чолханом (в песне он назван Щелканом Дюденьевичем). Но большинство исторических песен сложилось в XVI — начале XIX в.: тогда дворянское войско и регулярная армия сменили княжескую дружину, исход боя стала решать артиллерия, а не поединки соперников. Появились новые воинские песни. От этих песен, сложенных пушкарями и стрельцами, происходят исторические песни. Одним из первых сборников исторических песен и былин был сборник Кирши (Кирилла) Данилова. Этот сборник русских народных песен был издан впервые в 1804 г. Второй раз он был опубликован в 1818 г. К. Ф. Калайдовичем, что стало первой в русской фольклористике научной публикацией.
|
Детский или девичий хоровод, сопровождаемый исполнением песен, призван был символически изобразить солнце - движение этого светила в течение суток и года в целом (слова «хоро-» «коло-» означали «круг»). Сами же обрядовые песни являлись магическим обращением к силам природы, выражением стремления к гармонии и согласию со стихиями. |
Сборник Кирши Данилова высоко оценил писатель и историк Н. М. Карамзин, его с увлечением читал А. С. Пушкин. Пушкинский друг поэт-декабрист В. К. Кюхельбекер взял с собой эту книгу в сибирскую ссылку.
О составителе сборника Данилове почти ничего не известно. Жил он в середине — конце XVIII в. на юго-западе Сибири и собирал былины, исторические песни, духовные стихи, шуточные песни по поручению уральского заводчика П. Н. Демидова. Возможно, он только записывал песни, исполняемые другими, может, и сам был сказителем и певцом и записал собственные варианты известных былин и песен. Среди текстов сборника есть уникальные. Их можно встретить почти в любой современной книге, содержащей былины и исторические песни.
|
Быстрый темп плясовой песни выражен в повторе
словосочетаний и отчетливой рифме: Очень дорог перевоз. Меня миленький, Хорошенький На ручках перенес.
Перенес меня, Ничего не замочила. Только милый маху дал - Башмачок с ноги упал. Мне не жаль башмака. Жалко белого чулка. Башмак батюшка шил. Чулок - милый подарил!»
|
ХОРОВОДНЫЕ ПЕСНИ когда-то имели магическое, заклинательное значение (как и песни обрядовые). В хороводных и игровых песнях изображались сцены из свадебного обряда и семейной жизни. С помощью игры в песне показывались события в жизни молодой пары: они влюбляются, женятся, молодая жена спорит и перебранивается со свекром, свекровью и мужем.
Во многих хороводных и игровых песнях описываются работы на земле. При их исполнении хоровод повторял движения работающего человека: «Ну как же мне, мать, // Лен-то сеять, // Лен-то сеять? » Или: «Вот и так, вот и сяк, // Вот и этак, и вот так! // Эй, мати, эй, мати!»
Игровые песни в отличие от необрядовых и обрядовых лирических песен избегают обильного использования иносказаний — символов и метафор. В них преобладают описания природы: «На горе-то стоит елочка, // Под горой стоит деревенка...» Или: «Перелески таки долгие, // На ручьях нет переходинок...» Или: «Из-под дуба, дуба, дуба, // Из-под дубова коренья // Протекали ручеечки...»
Игровые и неигровые песни, исполняемые в медленном ритме, именовались протяжными. В протяжных песнях встречаются вставные восклицания и повторы слов. В ином ритме пелись плясовые песни.
Плясовые песни — всегда песни веселые и шутливые. Они исполнялись в очень быстром ритме и потому в народе назывались частыми. Строки частых песен короткие. Иногда строки завершаются рифмой, подряд рифмуются две-три строки.
Во многих плясовых песнях выражены любовные мотивы и изображены любовные сцены. Плясовые песни часто одноообразно-бесконечны и состоят из куплетов, коротеньких припевок разного содержания, часто слабо связанных между собой.
|
Лубок XIX в. «Гудит звон и тройка мчится» |
Древнейшие лирические песни, как и игровые, изначально были связаны с обрядом. Они были на любовные и свадебные темы. Позже лирические песни стали самостоятельным жанром, не связанным с обрядом. Лирические песни — порой краткие, состоящие из одного повторяющегося слова-восклицания, — существовали у всех народов. Известны любовные, свадебные, семейно-бытовые, солдатские, разбойничьи, ямщицкие и другие лирические песни. Особенно любимы эти песни были русским народом. Один английский путешественник XVIII в. писал о своих впечатлениях от поездки по России: «Во все продолжение путешествия нашего по России я не мог надивиться охоте русского народа к пению. Как скоро ямщик сядет на козлы, тотчас начинает запевать какую-нибудь песню и продолжает оную непрерывно по нескольку часов. Ямщик поет с начала до конца станции, земледелец не перестает петь при самых трудных работах; во всяком доме раздаются громкие песни, и в тихий вечер нередко доходят до слуха нашего отголоски из соседственных деревень». Темы любовных лирических песен — девушка и родная семья, любовная тоска, сны, гадания; попытки молодца завлечь девушку обманом, думы молодца о женитьбе, влюбленный молодец; ссоры и примирения влюбленных; измена молодца, измена девушки; разлука из-за насильственного брака с нелюбимым или нелюбимой; любовь девушки к женатому, болезнь и смерть, трагическая гибель или самоубийство.
|
Одна из богатейших коллекций русских народных песен принадлежит П. В. Киреевскому, по чьей инициативе в 1830 - 1850-х гг. знакомые начали записывать русские песни. В собирании принимали участие А. С. Пушкин, поэт Н. М. Языков и его братья и сестры. Семьей Языковых была открыта богатейшая песенная традиция в Поволжье, записаны былины, ранее неизвестные в этой местности. В 1840 - 1850-х гг. усердным помощником Киреевского стал собиратель русского фольклора П. И. Якушкин, послуживший прообразом собирателя фольклора Павлуши Веретенникова из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1866 - 1876). Сын помещика, он в крестьянской одежде исходил многие русские губернии, спал на голом полу и на печи, ночевал в чистом поле. «В Павле Ивановиче бессребреник виделся настоящий. О денежных вознаграждениях за печатный труд он не уславливался; довольствовался тем, что дадут; никогда не жаловался и не сетовал. Ценил деньги и просил их понемножку, когда бывали крепко нужны», - вспоминал о нем один из современников.
Лубок «Пожалуйста, отдай мне ведра». Гравюра XVIII в. на дереве. |
Свадебные лирические песни, не связанные со свадебным обрядом, описывают страх невесты перед новой судьбой, раздумья невесты, венчание и семейное счастье молодоженов. Иногда встречаются и мотивы разочарования в семейной жизни и в супруге. Многие песни посвящены счастливому или несчастливому браку, отношениям между мужем и женой.
У русской любовной и семейно-бытовой лирической песни есть устойчивый набор сопоставлений и метафор: девушка — куница, лебедь, березка, яблонька; молодец — драгоценный соболь, быстрый сокол; роса — слезы; любовь — палящий огонь. Яблоня в цвету символизирует счастье и молодость, а сломанная яблоня — символ горя. Сияющее солнце — символ радости, скрывшееся за тучами — символ горя. Образы-символы несчастливой любви, измены, разлуки, болезни — бурная погода, ветер, метель, туман, непроходимая дорога, смятая трава, темный лес, полегшая трава, подрубленные или кривые деревья.
Темы солдатских лирических песен — сдача в солдаты, проводы, тоска по близким, сражения, смерть на чужбине или возвращение домой. Повторяющийся мотив многих солдатских песен — жалобы на тяжелую службу и многолетнюю разлуку с родными (в первой половине XIX в. срок солдатской службы равнялся 25 годам).
Темы разбойничьих песен — дележ добычи, похищение девушки, казнь. Многие ямщицкие песни изображают болезнь и смерть ямщика в пути: «Ох вы, братцы мои, вы, братцы, вы товарищи, // Не попомните моей прежней грубости! // Вы подите-ка на кругу гору, // Соведите-ка коней, коней со крутой горы. // Поклонитеся там: матушке низкий поклон, // А жене-то скажи, скажи на две волюшки: // «Хочет — замуж, шельма, йдет , хочет — во вдовах живеть». В деревенской России лирические народные песни остаются и поныне живым жанром, хотя и не столь распространены, как прежде.
|
«Аx ты, да ох ты, все пошили кофты...» |
Частушки — один из самых молодых фольклорных жанров. Это небольшие стихотворные тексты из четырех (реже двух, трех или шести) рифмованных стихов. Четырехстрочные частушки обычно имеют перекрестную рифму (первый стих рифмуется с третьим, а второй — с четвертым). Первые частушки были «обломками», отрывками из песен большего размера. Частушка — комический жанр. Она содержит острую мысль, меткое наблюдение. Нередко она строится, как и лирическая песня, на сопоставлении, параллелизме «природа — человек». Две первые строки содержат образ мира природы, третья и четвертая говорят о жизни людей: «Закатилось красно солнышко, // Не стало меня греть, // Оженился мой миленочек, // Не стал меня жалеть». Частушка отдаленно напоминает форму анекдота: то же обыденное, ничего не предвещающее начало и неожиданная концовка, нарушающая спокойное течение рассказа-песни. Иногда никакой связи между двумя половинками частушки нет, и благодаря этому создается комическое впечатление: «На углу стоит аптека. // Любовь сушит человека». Простой быстрый ритм делает частушку еще более звучной и забавной. Эффект от исполнения частушек усиливается их серийным исполнением.
Темы самые разнообразные. Помимо частушек про любовь многие частушки, особенно в советское время, оценивали политиков и высмеивали то, что казалось диким, нелепым, противным. Раньше частушки пелись под балалайку или гармонь. Сейчас частушки, особенно в городах, не поются, а просто произносятся.
Одни ученые считают, что частушка родилась очень давно, когда их распевали бродячие артисты — скоморохи — еще в XVII - XVIII веках. Другие убеждены, что частушка, как особая песенная форма, появилась не раньше середины прошлого века.
|
Старички исполняют частушки. Богородская игрушка. |
Ведь литература, и древняя в том числе, использует или хотя бы упоминает все виды устного народного творчества, которые существовали на тот момент. В летописях встречаются имена былинных героев, пересказываются притчи, легенды. Предание о смерти князя Олега изложено в «Повести временных лет» и легло в основу пушкинской «Песни о вещем Олеге»; А. Пушкин пересказал в стихах народные сказки. Широко использовал многие жанры фольклора Н. Некрасов. Но никто из них не вспомнил частушку. Она появляется только в произведениях 20 века: в «Двенадцати» Блока, в стихах Маяковского, Есенина и их современников. Да и в четырехтомном толковом словаре В. Даля слова «частушка» (в смысле «короткая песенка») нет. Впервые это слово употребил Глеб Успенский в очерке «Новые народные песни» (1889 г.). Широкое распространение этот жанр получил с развитием капитализма в России, когда начали складываться рыночные отношения. Ведь теперь многое зависело от самого человека, от его воли и способностей. В частушках отразились и ломка патриархальных отношений во всех сферах человеческой жизни, и литературное влияние на устное народное творчество, и взаимодействие городской и сельской культур. Частушку интересует всё: личные отношения и новости общественной жизни, события мирового масштаба и события местного значения. Большинство частушек — о любви, однако граница между частушкой личной, бытовой и общественной, социальной весьма условна. Возникнув не без воздействия письменной поэзии, частушка, в свою очередь, оказала влияние на литературу. А. А. Блок, В. В. Маяковский, С. А Есенин ввели ее в большую поэзию, по их пути пошли А. Т. Твардовский, М. В. Исаковский, В. С. Высоцкий, Б. Ш. Окуджава и многие другие.
Современный театр — пространство, разделенное на сцену и зрительный зал. В театре есть режиссер — тот, кто ставит пьесу, артисты, которые ее играют, и зрители, которые смотрят на их игру. Фольклорный театр не таков. В нем нет специального помещения для постановок пьес и нет режиссера. Сюжеты пьес пусть немного, но изменяются при каждой новой игре, а зрители часто становятся участниками театрального представления.
|
Наиболее известная комическая пьеса - «Мнимый барин».
Появляющиеся один за другим персонажи - Трактирщик, Лакей, Староста
- потешаются над Барином, называя его «барин голый» и заявляя, что
этими словами его хвалят. Позже выясняется, что в поместье барина
случилась целая цепь несчастий. Причем сначала Староста говорит об
обычных неприятностях или о мелких бедах, а потом о большом горе:
сломался перочинный ножик, помер жеребец, поколела Баринова
«маменька, кривая сука», сгорел барский «трехэтажный домик». |
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ существовали издревле в фольклоре самых разных народов. Изначально они имели заклинательный смысл, но затем превратились в потешные и веселые игрища. В русском фольклоре таковы обходы ряжеными домов на Святки. Ряженые на Святки деревянной сохой пахали снег, сеяли в избе по принесенному снегу пепел или золу, забивали быка (разбивали крынку на голове парня, наряженного быком). Эти действа изначально должны были воздействовать на будущий урожай, обеспечить его изобилие. Совершались также свадебные и покойницкие игры. Мертвеца, обряженного в погребальную одежду (саван), укладывали на доски или на салазки и с плачем вносили в избу. Присутствующие прощались с ним. У мнимого покойника были огромные зубы, сделанные из картофелины или репы. Были в этой игре и священнослужители, прежде всего поп, одетый в грубую ткань — рогожу и с кадилом в руке, которое изображал горшок с куриным пометом. В конце игры покойник оживал и убегал, пугая присутствующих. Игра сопровождалась исполнением шуточных неприличных песен, переиначенных причитаний и молитв. Первоначально она была связана с древнеславянскими похоронными обрядами почитания умерших предков.
Но эти народные игры еще не были театром в привычном смысле слова. Фольклорные театральные представления — постановки текстов, сочиненных народом или переделанных из литературных произведений. Самые старые народные пьесы возникли, по-видимому, в XVII в. Фольклорный театр развивался в XVIII - XIX вв. Народные пьесы ставились крестьянами, солдатами, матросами. Народный театр условен. В нем нет декораций, а зрители могли на какое-то время стать участниками игры (из их числа выбирались в пьесах второстепенные персонажи — слуги и др.). При постановке зрители живо реагировали на происходящее, комментировали действие.
Отличительная черта народной драматургии — вставные сценки, не связанные с основным действием. Фольклорному театру чуждо единство действия, единство места (события переносятся из одного места в другое) и единство времени (события, представленные в пьесе, могут охватывать большой промежуток времени).
Текст фольклорных пьес неустойчив: он существует во множестве вариантов. При этом актеры на каждом представлении импровизируют, вносят в него что-то новое. Фольклорные пьесы строятся как набор повторяющихся ситуаций, реплик и монологов: царь Максимилиан одними и теми же словами обращается к своим слугам, одинаково звучит приказание сначала заточить сына в темницу, а потом его мучить; повторяются и реплики Атамана, обращенные к разбойникам, и их ответы («Лодка»).
В фольклоре многих народов Европы и Азии существовал кукольный театр. Пьесы русского народного кукольного театра — слабо связанные между собой сценки с забавным персонажем-куклой Петрушкой. Петрушка покупает лошадь у Цыгана, но та его сбрасывает, и Петрушка прибегает к помощи Доктора. Недовольный Петрушка избивает его палкой. Недотепа Петрушка служит в армии и не может вникнуть в воинский устав, издевается над полицейским. В конце концов Петрушку хватает за нос собака и тащит за ширмы.
|
Петрушка в книге Е. В. Сперанского «Актер театра кукол» (1965) представлен так: «В первый раз я увидел его больше полувека назад во дворе нашего дома на Балчуге. <...> Со двора неслись визгливые крики шарманки, а затем и его голос - нечеловечески пронзительный и такой высоты, какая доступна, кажется, только молодым оперившимся ястребкам. (Потом я узнал происхождение этого голоса: он делался из серебряного гривенника и назывался «пищиком». Кукольник брал пищик в рот, прижимал языком к небу, и таким образом пищик служил ему как бы второй гортанью.)... И все же странный герой ... чуть не насмерть забил квартального, теперь бьет цыгана, а сейчас его самого будет лягать взбесившаяся цыганская кляча, а потом он будет лупцевать лекаря. Раздает удары направо и налево и сам получает в ответ затрещины, от которых валится на грядку ширмы, стонет и причитает... Вокруг него одни лихоимцы, продувные бестии, квартальные, цыгане, лекари-костоломы... А он сам? ... Он шире понятий «отрицательного» и «положительного»: народ выдумал его себе на забаву и на страх власть предержащим.
|
ОСОБУЮ РАЗНОВИДНОСТЬ русского фольклорного театра представлял раёк — ящик с двумя увеличительными стеклами, за которыми находились движущиеся изображения (они были сделаны на ленте, которая наматывалась с одной катушки на другую). Раешник, вращая ручку и передвигая изображения, комментировал их, произнося особые тексты — приговоры. Эти представления устраивались главным образом во время ярмарок. Еще один жанр фольклорного театра — прибаутки «дедов», зазывал, которые приглашали народ посетить театральные представления в специальных помещениях (балаганах) или зазывали покататься на каруселях. Вот пример такой прибаутки. «Дед» показывает портрет уродливой женщины: «А вот ребята, смотрите: // Это моей жены натрет, // Только в рамку не вдет. // У меня жена красавица — // Увидят собаки — лаются, // А лошади в сторону кидаются...».
Для современного человека фольклор — наивная словесность, в которой есть что-то непосредственное, детское. Не только сказки, но и былины, прежде исполняемые взрослыми сказителями для взрослых слушателей, или былички о чертях и домовых, в которые когда-то все верили, сейчас увлекают прежде всего детей. Но издревле существует и особая область устной народной словесности — детский фольклор.
|
«Ладушки» - лучший способ координации движений ребенка, детская аэробика. Это его первое ознакомление с основными пространственными категориями: верх и низ, далеко и близко. Оппозиция «правое/левое» окончательно сформируется лишь к 4 - 5 годам. Играя «в ладушки», дети интуитивно начинают чувствовать симметрию своего тела, парность рук и ног. Ритм игр приучает делать плавные и обдуманные движения. Иллюстрация Ю. Васнецова. |
ДЕТСКИМ ФОЛЬКЛОРОМ принято называть как произведения, которые исполняются взрослыми для детей, так и произведения, составленные самими детьми. К детскому фольклору относятся колыбельные, пестушки, потешки, скороговорки и заклички, дразнилки, считалки, нелепицы и др.
Колыбельные поют взрослые совсем маленьким детям. Это убаюкивающие и помогающие скорее заснуть напевы. В старых колыбельных упоминались таинственные живые существа: Сон, Дрема, Угомон, сердитая Бука, которая может наказать за непослушание.
Пестушки (от глагола пестовать — ухаживать) — небольшие веселые песенки и приговорки — пелись и говорились уже подросшему ребенку: «Три-та-тушки, три-та-та, // Вышла кошка за кота, // За кота котовича, // За Иван Петровича».
Потешки — небольшие стихотворные тексты, которые взрослые произносят при игре с ребенком. Например, посадив его на колени и качая все быстрее и быстрее: «Поскакали, поскакали, // С калачами, с калачами! // Вприпрыжку, вприскочку, // По кочкам, по кочкам — // Бух в ямку!»
Фольклорные произведения, которые исполняют, произносят сами дети, — это скороговорки и заклички, игровые песенки, считалки, дразнилки, нелепицы и нескладухи.
Скороговорки построены на повторении труднопроизносимых сочетаний согласных звуков; при этом в соседних словах такие сочетания все время переставляются, меняются местами. Скороговорки ритмически упорядочены: «На дворе трава, на траве дрова».
Детские заклички — обращения к природе, животным, птицам, насекомым были в старину серьезными заклинаниями. Когда дети обращаются к божьей коровке: «Улети на небо, принеси нам хлеба!» — они, конечно, уже не помнят, что эта закличка была обращением-заклинанием о благополучии, урожае.
Очень любимы детьми нелепицы и нескладухи. Некоторые из них перешли в современный детский фольклор из старинного крестьянского устного творчества: «А у нас во дворе // Поросенок рылся //И нечаянно хвостом // К небу прицепился».
В современном детском фольклоре распространены и прозаические нелепицы: «Шел ежик. Забыл, как дышать, и умер. Потом вспомнил, встал и пошел дальше». Некоторые нелепицы строятся на том, что соседние слова как бы обмениваются окончаниями: «Счас как режиком заножу — будешь дрыгами ногать!»
Похожий прием используется и в детских фольклорных текстах, внешне похожих на нелепицы, но на самом деле имеющих простой, хотя и зашифрованный смысл. Это нечто среднее между нелепицей и загадкой:
«Я сидела дома и пила Чайковского с Мясковским и Сметаной. Тут в животе у меня сделалось Пуччини и Паганини...». Имена великих композиторов здесь по созвучию заменяют слова «чай» «мясо», «сметана», «пучить», «погано».
|
|
|
|
Детское обращение к животным, природе - закличка в картинке. |
|
Современный детский русский фольклор обогатился новыми жанрами. Это страшилки, повествующие о жутких и таинственных историях, садистские стишки, с черным юмором описывающие гибель детей по злой воле взрослых или убийство взрослых детьми. Это озорные стишки и песенки — смешные переделки известных песен и стихов (иногда в таких произведениях чередуются строки из сочинений двух разных поэтов). С увлечением рассказываются детские анекдоты.
Ни в древности, ни в Средние века, ни в XVII - XVIII столетиях устная народная словесность не была предметом изучения. Фольклор считался в отличие от литературы низкой и грубой словесностью. В фольклоре видели отражение ложных представлений и суеверий. Тем не менее в XVII - XVIII вв. фольклорные произведения стали собирать и издавать. В России в 1770 - 1773 гг. вышло «Собрание разных песен», изданное писателем М. Д. Чулковым. Он также собирал сказки и составил словарь, посвященный народным суевериям. Примерно в то же время было напечатано многотомное собрание «Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие, оставшиеся через пересказывание в памяти приключения», составленное писателем В. А. Левшиным. В 1790 г. было издано «Собрание народных русских песен...» И. Прача.
|
|
|
|
|
Александр Николаевич Веселовский, русский литературовед. |
Братья Гримм у гессенской сказительницы, многие сказки которой вошли в их собрание (виньетка титульного листа «Детских и домашних сказок»). |
|
НА РУБЕЖЕ XVIII - XIX ВВ. в Западной Европе - сначала в Германии, а затем в других странах — и в России утвердилась романтическая культура. Писатели увидели в старине, в народных песнях и сказках, обрядах и суевериях особенный, прекрасный и непохожий на современность мир. Немецкие собиратели фольклора братья Якоб и Вильгельм Гриммы в 1812 г. выпустили в свет книги «Детские и домашние сказки» (1812 - 1814) и «Немецкие предания» (1816 - 1819), принесшие составителям всемирную известность.
В 1850-х гг. немецкий филолог Т. Бенфей создал теорию заимствований. Он полагал, что сказочные сюжеты Европы и Азии имеют один источник — индийский фольклор. Противоположная идея принадлежала англичанину Э. Б. Тайлору. По его мнению, сходство фольклорных сюжетов у разных народностей объясняется тем, что их условия жизни и представления об окружающем мире были одинаковы.
В XIX В. сформировалась мифологическая школа в изучении фольклора. Среди ее приверженцев были крупные западноевропейские ученые Я. Гримм, М. Мюллер и русские филологи и фольклористы — Ф. И. Буслаев, знаменитый собиратель русских народных сказок А. Н. Афанасьев. В фольклорных произведениях и обрядах мифологи искали отражение древних мифов.
Уже в XVIII — первой половине XIX в. англичанин Д. Броун, а вслед за ним немцы — писатели-романтики А. Шлегель и Л. Уланд пришли к мысли, что изначально народная поэзия не разделялась на лирику, эпос и драму. Они были убеждены, что древние поэтические произведения пелись под музыку и исполнение сопровождалось танцем. К тому же пришел известный русский литературовед и фольклорист А. Н. Веселовский (1838 - 1906). Сравнивая фольклорные произведения народов, не затронутых цивилизацией (жителей Африки, островов Фиджи, Полинезии, Камчатки и др.), он тоже пришел к выводу, что в первобытном искусстве слово, музыка и танец составляли единое целое. Он назвал это явление первобытным синкретизмом (от греч. synkfetismos — «объединение»). Ученый считал, что словесность развивалась так: из хоровых восклицаний — криков радости и печали — развилась лирика, а из хоровой пляски и обрядовой игры — драматургия. Из хоровой песни выросла лироэпическая поэма — кантилена, содержание которой восходит к мифам или преданиям. Проследить развитие сюжетов и образов в фольклоре и мировой литературе, исследовать изменение жанров на протяжении столетий должна была особая часть науки о словесном творчестве — историческая поэтика.
Открытием в изучении фольклора была книга советского фольклориста Владимира Яковлевича Проппа «Морфология сказки» (1928). Он исследовал морфологию (от греч. morphe — «строение», «форма» и logos — «учение») русских волшебных сказок и показал, что все их сюжеты строятся по одной модели, имеют одну структуру, состоящую из ряда устойчивых мотивов — функций. В Европе книга Проппа стала известна после перевода в 1958 г. на английский язык Она предвосхитила структуралистские исследования фольклорных текстов и воодушевила ученых на Западе и в Советском Союзе на структурное изучение фольклора. Классикой советской и российской фольклористики является и книга Проппа «Исторические корни волшебной сказки» (1946), в которой доказывалось, что основой сюжета и образов волшебной сказки являются обряд инициации (от лат. initiatio — «совершение таинств») и миф о путешествии души в загробный мир. Происхождение, развитие и художественные особенности былин ученый проследил в книге «Русский героический эпос» (1955).
В отличие от фольклора литература бытует в письменной форме, и у каждого литературного произведения есть автор. Но народная устная словесность — почва, на которой вырастает литература. Литература хранит память о своем происхождении. Вместе с фольклором они — сообщающиеся сосуды, соседние ветви на древе мировой культуры.
|
Мотивы волшебной сказки в скрытом виде обнаруживаются и в произведениях, лишенных фантастики. Одно из них - роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Одна из тем - история любви добродетельного и смелого дворянина Петра Гринева к Маше Мироновой; помощником главного героя оказывается «мужицкий царь» Емельян Пугачев - фигура необычная, но не фантастическая. В глубине романа различаются мерцающие мотивы волшебной сказки. В буран Гринев, заблудившийся в глухой оренбургской степи, встречает мужика, который выводит его к постоялому двору. Благодарный Петруша дарит незнакомцу свой заячий тулупчик. Мужик-будущий самозванец, и подарок Гринева спасет главному герою жизнь. Эпизоды напоминают о волшебной сказке: встреча главного героя с неким существом и совершение доброго поступка, в благодарность за который оно выручит героя в безнадежной ситуации. Так, Иван Царевич не застрелил Серого Волка, и тот спас героя. Однако Пугачев - не только помощник Гринева, но и возможный противник: Гринев воюет против самозванца на стороне императрицы. В пушкинском романе изображены три встречи Гринева с Пугачевым. |
СУЩЕСТВУЮТ РАЗНЫЕ ВИДЫ СВЯЗИ фольклора и литературы. Прежде всего литература ведет свое происхождение от фольклора. Основные жанры драматургии, сложившиеся в Древней Греции, — трагедия и комедия — восходят к религиозным обрядам. В основе первых древнегреческих эпических поэм («Илиада» и «Одиссея», VIII - VII вв. до н. э.) лежат устные эпические сказания. Такое же происхождение имеет и западноевропейский средневековый героический эпос. Средневековые рыцарские романы, рассказывающие о путешествиях по вымышленным землям, о поединках с чудовищами и о любви храбрых воинов, основаны на мотивах волшебных сказок. Даже европейские романы XIX в. (например, исторические романы английского писателя В. Скотта) обязаны многими своими особенностями волшебной сказке: в центре романов — молодой герой, невредимо проходящий через испытания и избегающий угроз благодаря некоему персонажу-помощнику, добивающийся любви девушки. Эти мотивы присущи и пушкинскому роману «Капитанская дочка» (1836).
От народных лирических песен ведут свое происхождение литературные лирические произведения. Не случайно первые русские любовные стихотворения, написанные дворянином П. А. Квашниным-Самариным, являются подражанием фольклорным песням. Но автор не стремился к намеренному воссозданию стиля народной поэзии, просто он еще не умел написать о любви иначе.
К народным бытовым сказкам восходит жанр небольшого остросюжетного повествования — новеллы. Самый известный сборник новелл — книга итальянского писателя эпохи Возрождения Дж. Боккаччо «Декамерон» (1350 - 1353). Без фольклора не было бы литературы.
|
Бесстрастный холодный снег покрывал купола собора, парапеты строений
и одежду людей. Головы мужчин склонены:
«Уж вы, братцы мои, други кровные,
поцелуемтесь и обнимемтесь на последнее расставание». Спокойное
принятие смерти, непреклонность человеческой воли и тяга к свободе -
в линиях и тенях иллюстрации |
ОЧЕНЬ ЧАСТО ПИСАТЕЛИ намеренно обращались к фольклорным традициям. Интерес к устному народному творчеству, увлечение фольклором пробудились в предромантическую и романтическую эпохи. Английский писатель Дж. Макферсон сочинил и издал «Песни Оссиана» (1765) — сборник эпических песен, якобы сложенных древним бардом Оссианом и сохранившихся в старинной рукописи. Эта книга имела громадный успех. Немецкий поэт XVIII в. Г. Бюргер на основе народных баллад создал балладу «Ленора» (1773), повествующую о приходе к девушке мертвого жениха и о ее трагической смерти. Подражая Г. Бюргеру, балладу «Людмила» (1808) на такой же сюжет написал русский поэт В. А. Жуковский. В балладе «Светлана» (1808 - 1812) он переосмыслил эту же страшную историю о девушке и ее мертвом женихе, представив все как сон героини. В «Светлане» поэтично изображены старинные русские святочные гадания. Жуковский и Н. М. Языков переложили стихами русскую волшебную сказку об Иване Царевиче и Сером Волке. К сюжетам русских сказок восходят сказки А. С. Пушкина. Подражание русским народным историческим песням — «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1838) М. Ю. Лермонтова. Повесть Н. С. Лескова «Очарованный странник» (1873) содержит сказочные мотивы (странствующий герой Иван, выходящий невредимым из гибельных ситуаций) и былинные мотивы (жестокое состязание Ивана Северьяныча с иноплеменником). Былички и бывальщины о встречах с нечистой силой, о которых повествуют крестьянские дети, составляют содержание рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг» (цикл «Записки охотника», 1847 - 1851). Стилевые черты народных песен воссоздал в своих стихотворениях о тяжелой крестьянской доле Н. А. Некрасов. Даже в произведениях, казалось бы, далеких от фольклора, обнаруживается сходство с мотивами и образами, присущими разным жанрам устного народного творчества. Так, мотив трех родных братьев в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879 - 1880) восходит к народным сказкам, а в образе младшего брата, Алеши Карамазова, есть некоторые черты сказочного третьего, младшего брата. Фольклор не только влияет на литературу, но и сам испытывает обратное воздействие. Многие авторские стихотворения стали народными песнями. Самый известный пример — стихотворение И. З. Сурикова «Степь да степь кругом...» (1871).
Слово «литература» происходит от латинского littera — «буква». Старое название литературы в русском языке — «словесность». Эти названия не случайны. Основой художественной литературы является язык. Литература обращается к средствам, присущим повседневному языку, на котором говорят люди. Отношения между языком художественной литературы и языком, на котором люди говорят и на котором написаны нехудожественные тексты — научные произведения, публицистические статьи, документы, — непросты и подчас драматичны. Одновременно литература влияет на развитие языка нехудожественных текстов и устного общения. Проблемы развития языка художественной литературы интересуют как литературоведов, так и языковедов.
Лишь внешне схожим с языком нехудожественных текстов (публицистики, документов) и обыденной речью кажется язык художественной литературы. Слова в нехудожественных высказываниях и в литературном произведении одни и те же. Но в обыденной речи и в нехудожественных текстах цель языка — донесение максимально точной информации. А в художественной литературе значима форма сообщения: как сказано — так же существенно, как что сказано. Высказывания, обладающие эстетической функцией, привлекают внимание читателя или слушателя не к информации, а к самому языку передачи сообщения. Язык художественной литературы — предмет эстетического переживания.
|
Яркий
пример неологизмов - словоформы Велимира Хлебникова: крылышкуя,
золотописьмом, или неологизмы В. В. Маяковского:
дрыгоножество (о балерине), размерсился (от фр. merci
-«спасибо»). Заумь - важнейшая составляющая поэтики
поэта-футуриста А. Е. Крученых. Его звукосочетания Дыр бул щыл
// убешщур // скум // вы со бу //р л эз
в русском языке не имеют смысла, а написание буквы ы после
щ - нарушение правил орфографии. Но в заумной поэзии эти
сочетания звуков и букв становятся многозначными. |
ОТ НЕХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА языковой строй художественной литературы отличается своим лексическим составом. В художественном тексте употребляются слова, чуждые языку нехудожественных текстов и разговора. Эти отличия особенно характерны для литературы прежних эпох. «Высокая литература» Средневековья создавалась на книжном латинском языке, а не на национальных языках, на которых говорили жители средневековой Европы. Языком церковной литературы у православных славян, в том числе и в Древней Руси, был церковнославянский язык, отличавшийся от разговорного древнерусского языка (см. Возникновение письменности у славян). «Высокие жанры» литературы классицизма (оды, трагедии, комедии) писались высоким слогом, в котором обильно использовались книжные слова и выражения и отсутствовала просторечная, грубая лексика. В языке художественной литературы употребляются неологизмы (от греч. neos — «новый» и logos — «слово»), сочиненные авторами и чуждые обычному языку. В отличие от новых слов, создаваемых в языке для выражения новых, иначе не выразимых значений, неологизмы в языке художественной литературы выражают мысль, которая может быть передана общеупотребительными словами. Крайняя форма отдаления языка художественной литературы от нехудожественного языка — заумь. Это новый язык, создаваемый самим поэтом.
|
Дополнительный смысл в языке художественной литературы приобретают отклонения от орфографических и синтаксических правил. Важную роль в понимании поэтики произведения играют логические несообразности и необычные сравнения. Очень часто отступает от обыденных представлений о красоте речи литература Нового времени. Например, в языке Ф. М. Достоевского множество оговорок, уточнений, перегружающих фразу. Часто встречается слово «вдруг». Так писатель стремится передать атмосферу действия, нервность и сомнения персонажей, катастрофическую внезапность событий.
«Мартышка, в зеркале увидя образ свой, // Тихохонько Медведя толк ногой:// «Смотри-ка, говорит, кум милый мой! Что это там за рожа?» Иллюстрация В. Фаворского к басне И. А. Крылова «Зеркало и Обезьяна». |
ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ ЯЗЫКА художественной литературы — изображение чувств и мыслей персонажей. Язык художественной литературы обладает для этого особым средством. Это несобственно-прямая речь — речь, принадлежащая автору, а не героям, но отражающая особенности языка персонажей.
Язык поэзии больше отдален от нехудожественного языка. Поэзия по самой своей природе — условная речь: никто не говорит при повседневном общении стихами. В поэзии чаще встречаются намеренные, значимые повторы или перестановки слов и выражений: анафоры (от греч. anapho-ra — повтор слов в начале нескольких стихов), эпифоры (от греч. epiphora — «добавка» — повтор слов в конце нескольких фраз), анадиплосисы (от греч. anadiplosis — «удвоение» — повтор последнего слова предыдущей фразы в начале последующей: А..В, В...С) и инверсии — изменение привычного порядка слов; симплока (от греч. symploke — «сплетение» — повторы начал и концов фраз: А...Б, А...Б) и синтаксический параллелизм — сочинение одинаково построенных предложений. Большую роль в поэтических произведениях играют различного рода звуковые повторы: рифма, рефрен (от фр. refrain — «припев»), аллитерация (от лат. ad — «к» nlittera — «буква» — «повтор согласных звуков»), ассонанс (от фр. assonance — «созвучие» — повтор гласных звуков) и др. Язык поэзии свободен от конкретности, предметности, которые обязательны в прозе. Для языка поэзии в большей степени свойственна выразительность, он стремится передать переживания. Для языка прозы больше характерна изобразительность — описание внешнего мира: поступков персонажей и событий.
Лексика — набор слов, характерный для языка или текста. В повседневном общении мы пользуемся словами, из которых состоят нехудожественные тексты, например документы. Слова — материал художественной литературы. Но лексика художественной литературы во многом отличается от лексики, характерной для повседневной речи или нехудожественных текстов. В истории литературы были эпохи, когда авторы намеренно стремились включать в свои произведения множество слов, которые не употреблялись ни в устной беседе, ни в документах. Существовали особые жесткие правила, регламентирующие лексику художественной литературы.
| К церковнославянизмам относятся, например, слова ланиты (щеки), очи (глаза), перси (грудь) и др. К числу поэтизмов относились слова-сигналы с иносказательным, знаковым смыслом. Таковы меч - знак подвига и чести, лавровый венок - знак высокого достоинства поэта или лира, символизирующая поэзию. |
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕКСИКА — словесный состав произведений художественной литературы. В древности (в частности, в античной Греции и Древнем Риме), в Средневековье, в эпохи Возрождения и классицизма существовали определенные правила словоупотребления, характерные для различных литературных текстов. Они излагались в особых руководствах по составлению произведений — риториках (от греч. rhetorike — «красноречие») и поэтиках (от греч. роtёtiсё — «поэтическое искусство»).
Риторики устанавливали несколько стилей литературы, которые отличались от другого, в частности, характером лексики. Например, древнегреческий ритор Деметрий (ок. I в. н. э.) выделял четыре вида стилей: величественный, изящный, простой, мощный. В величественном стиле «слова <...> должны быть высокие, особенные и менее обыденные»; в изящном стиле необходимо употреблять «нарядные и красивые слова», избегать слов низких и обычных. В простом стиле следует употреблять слова обыденные и избегать употребления слов в переносном значении; мощный стиль отличается соединением высоких, книжных — и обыденных, низких слов, часто употребляемых в переносном значении. В трактате греческого ритора Дионисия Галикарнасского (ок. 55 — ок. 8 гг. до н. э.) «О соединении слов» определены три стиля — строгий, изящный и общедоступный.
Теоретики французского классицизма в измененном виде усвоили систему Дионисия и выделили три стиля языка: высокий, низкий и средний. Согласно этой теории, в «высоких жанрах» — трагедии, оде, героической поэме — следовало использовать высокий стиль. В «низких жанрах» — комедии, басне, подражаниях народным песням — употреблялся низкий стиль. «Средние жанры» — дружеские стихотворения-послания, сатиры, элегии — отличались средним стилем. В России наиболее четкую классификацию трех стилей, с точки зрения соотношения в них церковнославянских и русских слов, предложил М. В. Ломоносов в трактате «Рассуждение о пользе книг церковных в российском языке» (1758).
|
В отборе художественной лексики сохраняются определенные различия между прозой и поэзией. Так, даже после мощного вторжения нелитературной (просторечной, бранной и др.) лексики в творчество русских футуристов контраст между литературной и нелитературной художественной лексикой в поэзии сохранялся. Стирание, размывание границ между этими двумя пластами художественной лексики произошло в поэзии И. А. Бродского. Но и сейчас прозаическое, «низкое слово» в стихе выглядит не так, как в прозе. Это связано с тем, что поэзия из-за своей ритмической природы, из-за особой упорядоченности противопоставлена не только художественной прозе, но и обыденной речи.
Иллюстрация Л. А. Ильиной к сборнику лирики Ф. Петрарки. |
Поэзия противопоставлялась прозе и после отмирания классицизма и теории трех стилей вплоть до начала или середины XIX в. В поэтических сочинениях употреблялись так называемые поэтизмы — слова, отсутствующие в повседневной речи. В русской поэзии это прежде всего церковнославянизмы (слова, восходящие к церковнославянскому языку, языку богослужения у православных славян). Устойчивая художественная лексика характеризовала целые поэтические школы. Так, сладкий, тихий и однокоренные им слова были отличительными чертами так называемой школы гармонической точности, к которой принадлежали К. Н. Батюшков и В. А. Жуковский.
В эпохи, когда господствовали жесткие ограничения на употребление слов в поэзии, своеобразие авторов часто проявлялось в отношении к доле слов с иносказательным значением (метафор и метонимий) в художественной лексике. Так, М. В. Ломоносов украшал свои оды множеством метафор и метонимий. А его младший современник А. П. Сумароков, следуя французскому поэту-теоретику классицизма Н. Буало, максимально ограничивал долю таких слов, стремясь к точному словоупотреблению художественной лексики.
Нормативные предписания, относящиеся к употреблению художественной лексики, в эпоху романтизма и после нее теряют смысл. Стилевое единство перестает быть обязательным. Устойчивая художественная лексика начинает характеризовать прежде всего не поэтические школы, а творчество отдельных поэтов.
Обыгрываются осознанный контраст, столкновение слов различной стилевой окраски. Поэтическая лексика прозаизируется. Функцией художественной лексики, особенно в прозе, становится воссоздание социальной и индивидуальной характеристики персонажей и рассказчика, подражание устной речи.
Мифы существовали не только в древности. Они существуют всегда. Это коллективные представления людей о мире. Пока будут живы на земле хотя бы два человека, которые будут обсуждать между собой восход солнца, или внезапную болезнь, или рождение ребенка, будут существовать представления об этих событиях. Люди, сами того не подозревая, творчески относятся ко всему происходящему в мире. Каждый человек — художник. Вещам и явлениям всегда будут приписываться особенные свойства и значения. Большинство предметов существует в сознании человека в нескольких значениях. В зависимости от ситуации одно из значений поворачивается к нам лицом, все остальные на время прячутся в тень. Порой какое-то из значений долгое время кажется определяющим. Тогда рождается миф, который позже обязательно разоблачается. В настоящее время одними из сильнейших средств мифотворчества являются реклама и средства массовой информации. Литература отражает как мифологизацию, так и демифологизацию сознания людей.
|
Персей, держащий голову Горгоны Медузы (ил. к «Сказаниям Танглвуда» ок. 1920). |
В ДРЕВНОСТИ мифы (от греч. mythos — «предание», «сказание») складывали не для развлечения, а для объяснения, осмысления того, что происходило в мире. Сначала миф не просто рассказывался, а исполнялся в процессе обряда. Так, каждая гроза — священный брак неба и земли: небо оплодотворяет землю, чтобы она давала урожай. И каждую весну старший жрец и старшая жрица справляли в поле священный брак, чтобы лето было плодородным. Каждое прорастающее зерно — это частица бога, растерзанного врагами. Он был погребен и вновь воскресает каждой весной (например, миф древних египтян об Осирисе и Изиде). Когда на смену обряду пришел рассказ, тогда стали рассказывать о том, как справляли свадьбу Уран с Геей, Крон с Реей, Зевс с Герой, о том, как Вакх наказывал своих врагов, отдавая их на растерзание своим бешеным вакханкам. Поэтому в мифологии так много рассказов, похожих друг на друга: за ними стоит один и тот же миф. Постепенно миф расслаивался на сказку, религию и историю: победа героя Персея над Медузой Горгоной уже в античности казалась сказкой, Троянская война — историческим событием, а религиозные верования становились все сложнее и уже не сводились к первобытным мифам. И все-таки мифологические образы сохраняли свое значение. Философы-стоики верили, что божественное начало в мире — это «дух», тонкое вещество, пронизывающее все предметы и живые существа, но называли они этот дух по-старому — Зевсом и сочиняли ему красивые гимны. Мифы становились многозначны, но это не мешало, а помогало им служить культурному единству общества. Именно из-за многозначности мифы оказались очень благодарным материалом для зарождавшейся литературы. Для писателей сюжет мифа был заранее известен, и поэтому их внимание сосредоточивалось на тонких новшествах изложения, которые могли значить очень многое. Подставляя под одни и те же поступки действующих лиц разные мотивировки, автор мог представить один и тот же миф об Эдипе то образцом смирения перед судьбой, то вызовом богам. В античной литературе почти вся поэзия была посвящена лишь мифологическим темам, бытовые темы допускались только в низких жанрах. Новоевропейская литература опиралась на тематику античной мифологии. Постепенно складывался пантеон вечных образов. В эпоху Возрождения и классицизма большинство поэм и трагедий писались на сюжеты античных мифов и событий древней истории. В эпоху предромантизма и романтизма к ним добавились образцы других мифологий — скандинавской с Одином и древнеславянской с Перуном, индийской и исламской. Даже в таком немифологическом произведении, как «Евгений Онегин» (1823 - 1831, полн. изд. 1833) А. С. Пушкина, уже в первой главе упоминаются Зевс, Венера, Диана, Флора, Эол, Фортуна, Муза и Федра: не в сюжете, но в стилистическом орнаменте.
|
Слово «миф» часто употребляется в переносном значении: многоплановые произведения, в которых авторы на метафорической основе обобщают вечные закономерности человеческого бытия. Таковы романы «Волшебная гора» (1924) и «Иосиф и его братья» (1933-1943) Т. Манна, «Петербург» (1913 - 1914, отд. изд. 1916) А. Белого, «Мастер и Маргарита» (1929 - 1940, опубл. 1966 - 1967) М. А. Булгакова, «Сто лет одиночества» (1964) Г. Маркеса, произведения современных прозаиков - Ч. Айтматова, Ч. Амирэджиби и др. Мифотворчество писателей иногда сочетается с творческой обработкой ими мотивов, почерпнутых из мифологий разных народов. Однако любой художественный вымысел писателя качественно отличается от мифа в собственном смысле слова.
Н. Н. Ге. «Что есть истина? Христос и Пилат» (1890). |
После того как наука XIX в., сопоставляя мифы множества стран и народов, выявила самые общие универсальные темы всякой мифологии, многие писатели стали сознательно строить свои произведения так, чтобы они воспринимались на фоне этих мифологических образов и от этого приобретали более глубокий и многозначный смысл (например, роман «Улисс», 1922; Дж. Джойса, где сквозь жизнь ирландского обывателя просвечивает сюжет «Одиссеи»).
Всякое литературное произведение, предстающее перед читателем, — проза или стихи. Отнести текст к названным типам организации художественной речи позволяет его расположение на странице — в столбик (стихи) или в строчку (проза). Важно понять причины выбора автором той или иной формы текста. Художник слова придерживается традиции: романы обычно пишутся прозой, лирические произведения — стихами. Но часто это не устраивало писателей, и они решительно ломали сложившиеся обычаи: «Евгений Онегин» — роман в стихах, тургеневские «Стихотворения в прозе» — небольшие лирические произведения, но не в стихах, как было тогда принято, а в прозе.
|
|
|
|
Автограф А. Блока. |
Взмахом руки Мицкевича художник А. Билль подчеркнул взволнованность читающего поэта. |
ГРЕЧЕСКОЕ СЛОВО stichos означает «ряд», «строка», а принятое в большинстве европейских языков понятие versus (в русском языке есть однокоренное слово — «вирши») в переводе с латыни — «повернутый назад». Проза же происходит от латинского слова proversa — «идущая вперед». В противопоставлении этих слов кроется коренное различие между стихотворной речью, возвращающей читателей к уже прочитанному, и прозаической, всегда стремящейся дальше, не оглядываясь на уже сказанное.
Зафиксировать это различие на письме можно только с помощью специфического деления речи на соразмерные отрезки (в стихе) или принципиального отсутствия такого деления (в прозе).
Остальные признаки, которые иногда считаются исключительной принадлежностью стиха, — рифма и упорядоченное чередование ударных и безударных слогов (метр), выравненность отрезков стихотворной речи по количеству слогов и ударений — оказываются необязательны. В мировой поэзии всегда встречались стихи без рифмы (белые), без упорядоченности длины строк (вольные) и без метра (свободные). С другой стороны, и в прозе, особенно в XX в., очень часто встречается метр (проза называется метрической, если метр захватывает произведение или его часть целиком, или метризованной, если метр относительно равномерно рассредоточен в тексте) и даже рифма.
Кроме того, проза может состоять из достаточно урегулированных по размерам и внутреннему строению абзацев; такая проза называется строфической, или версе.
|
Эпиграммой первоначально называлась всякая надпись - например, обозначающаяся авторство того или иного изделия: «Экзекий вылепил и расписал меня» (надпись на греческой вазе). Затем это название стало применяться только к небольшим сатирическим стихотворениям, обращенным к конкретному адресату. Эпиграмма получила широкое распространение уже в классической греческой и римской поэзии. Большими мастерами жанра были и многие русские поэты, например А. С. Пушкин. Вот его знаменитая эпиграмма на графа М. С. Воронцова, под началом которого поэт служил во время кишиневской ссылки: «Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда.
Иллюстрация Н. Кузьмина к эпиграмме А. С. Пушкина. |
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ прозы и стихов относительно: читая значительные и длительные по размеру стихи, можно забыть сказанное несколькими десятками строк раньше. С другой стороны, в прозаическом тексте постоянно встречаются уже знакомые герои, их любимые фразы, повторяющиеся или похожие события. Происходит невольное движение назад по тексту. Несмотря на это, различие между двумя главными способами организации речи отмечено в их древних названиях правильно.
Ученые предлагают рассматривать прозу как речь линейную, развертываемую вдоль одной оси — горизонтальной, а стихи — как речь двухмерную, развертывающуюся одновременно по горизонтали и по вертикали. Большинство повторов в стихотворной речи постоянно отсылает зрение и слух читающего вверх — к уже прочитанному и услышанному. Узнанная им рифма возвращает его к созвучным строкам. Поэтому считается, что в прозе события происходят чаще всего последовательно, одно за другим, а в стихе — одновременно, в тот момент, когда читается или слушается стихотворение. Поэт предлагает особую расстановку пауз, которые значительно отличаются от прозаических. Современные ученые, занимающиеся изучением звучащей речи, доказали их большую долготу и эмоциональную напряженность. В стихотворной речи строки отделяются друг от друга гораздо жестче, чем подобные отрезки прозаической речи. Строки стихотворения более закончены в ритмическом отношении и более самостоятельны — в смысловом. Есть основания говорить также о большей смысловой насыщенности стиха по сравнению с прозой. Благодаря обилию пауз и их протяженности стихи неизбежно произносятся значительно медленнее, чем проза. Читатель и слушатель имеют возможность вслушаться в звучание и вдуматься в смысл с большим вниманием.
|
Характерны
изменения, происходившие с трактовкой прозы А. С. Пушкиным. В
молодые годы, еще не взявшись за прозу, он высказывает свое
отношение к ней в отклике на пространную поэму своего учителя В. А.
Жуковского: «Что, если это проза, да и дурная?» Позднее, в романе
«Евгений Онегин» (1823 - 1831) к нему приходит мысль о глубочайшем -
как между волной и камнем, льдом и пламенем - различии между двумя
видами литературы. Через некоторое время А. С. Пушкин признается:
«Года к суровой прозе клонят», - имея в виду, разумеется, уже не
оценку, а объективную характеристику - «суровая». По его мнению,
серьезная проза противостоит легкой и веселой по преимуществу
поэзии. |
Стихи в отличие от прозы содержат «лишние» слова, часто находящиеся «не на своем месте». Иногда одни и те же фразы повторяются несколько раз. Записав в строчку какое-нибудь стихотворение, легко в этом убедиться. Перед читателем окажется множество лишних слов, не помогающих, а будто бы даже мешающих вникнуть в смысл. В таком искусственном прозаическом тексте могут встретиться неправильные с точки зрения грамматики фразы и ничем не оправданные инверсии — нарушения естественного порядка слов. Однако в стихотворной речи такая избыточность — явление вполне оправданное, именно она помогает поэту передать читателю свои чувства, внушить свои мысли.
КРОМЕ СТИХОВ И ПРОЗЫ в чистом виде в литературе нередко встречаются произведения, в состав которых входят и стихотворные, и прозаические фрагменты. Их называют прозиметрумами, объединяющими прозу и метр (стих). Прозиметрия подразумевает двойную природу текста: это своего рода кентавр, часть которого — стихи, а часть — проза. Они часто встречались в древней и средневековой литературе. В повествовательных прозаических произведениях, включающих стихотворные главы или вставные песни, указывалось: «тут рассказывается» или «тут поется». Широкое распространение прозиметрия получила в литературах Востока, но обращались к ней и европейские писатели. Их можно обнаружить, например, в книге «Vita nova» Данте (1292, 1-е изд. 1576), которую можно назвать романом со вставными сонетами. В русской литературе XX в. также встречается прозиметрия. Так, в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» (1936) последняя глава целиком составлена из стихотворений главного героя. Именно эти стихи помогают персонажам произведения (а вместе с ними и читателю) разобраться в происходящих в нем событиях. В романе В. В. Набокова «Дар» (1938) постоянно цитируются стихи главного героя — начинающего поэта Годунова-Чердынцева. Эти стихотворения играют ключевую роль в повествовании.
|
Готика, устремленная в небеса, и умиротворенность слепого поэта Рейнмара фон Цветера, диктующего свои афоризмы. Миниатюра из «Манесской рукописи» XIV в. |
Есть тексты, состоящие из одной строчки, например надписи на различных предметах — эпиграммы — или мудрые мысли выдающихся людей — афоризмы. Их трудно назвать стихами или прозой. Невозможно предположить, что последовало бы за единственной строчкой при превращении этой строчки или в «вертикальное» стихотворение, или в «горизонтальную» прозу. Тем не менее большинство эпитафий (надписей на надгробиях или их имитации в книгах) чаще всего имеют такое же метрическое строение, как и большинство современных им стихов. На этом основании их можно условно считать стихотворными. Авторы иногда включают их в книгу своих стихов.
Еще в большей степени это относится к так называемым моностихам, или однострокам, — произведениям, принадлежность которых к той или иной традиции чаще всего прямо заявляется их авторами. Такие стихи писали В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и многие другие русские поэты. Б наше время моностих пользуется особой популярностью: им пишутся как юмористические, так и вполне серьезные произведения. Однако нередко однострочные тексты встречаются вне контекста (соответствующего окружения другими строками или речевыми фрагментами) или не имеют явно выраженной ритмической организации. Б этом случае следует признать их особую природу и определять не как стих или прозу, а как однострочный текст.
|
|
|
|
Единство формы и содержания всегда было важным для художников слова. Поэты барокко представляли себе форму почти наглядно: даже в способе набора букв текста. Так, в форме державы создал свое стихотворение поэт XVII в. Г.-Ф. Гарсдерфер. |
Рисунок П. Филонова проникает в начертательность привычного книжного шрифта. Буквы превратились в неведомые, полусказочные существа. Слова В. Хлебникова («Изборник стихов») соединяются, возникают из фантастических миров поэта и образуют новый смысловой ряд. |
ВИЗУАЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ чаще всего называют поэзией. Однако сложно точно определить статус большинства составляющих ее текстов. Визуальная литература — композиции из слов, букв или других знаков, в том или ином порядке расположенных на книжном листе. Они должны восприниматься целиком, как рисунок или картина, хотя в большинстве случаев визуальные произведения можно прочитать и как стихи. Однако их отнесение к стихам или прозе некорректно. Эти произведения предполагают отличный от двух традиционных видов литературы тип чтения. Как правило, в каждом из визуальных текстов необходим свой уникальный способ, задаваемый расположением текста и всех знаков на листе бумаги.
ФОНЕТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ - еще один вид современного искусства, самым непосредственным образом связанный с поэзией. Он заключается в особом авторском исполнении текстов — пении и декламировании. При этом автор-исполнитель нередко использует различные музыкальные инструменты, шумовые эффекты, а сами тексты его произведений могут состоять не из слов, а из набора звуков. Написанные на бумаге, они утрачивают всякий смысл. Поэтому фонетическая поэзия существует только в виде живого исполнения или его записи.
|
Так и только так следует видеть и читать стихотворение А. Вознесенского. Сами строки держат на себе невидимый груз авторского ощущения жизни. Крючок-вопрос, как неизбежность, закрепляет его мучительное чувство недоумения. |
ПЕРФОРМАНСЫ (от англ. performance — «спектакль», «представление») — особые представления, устраиваемые поэтами. В них используются наряду со словами и изобразительными знаками также жесты и особые телодвижения. Перформансы так же отличны от прозы и поэзии, как и визуальные тексты.
В современном искусстве складывается целый спектр синтетических видов, которые используют одновременно слово и изображение, слово и звук, слово и действие. Поскольку для всех этих видов искусства характерны иные системы записи текста, их, за редкими исключениями, нельзя истолковать как стих или как прозу.
Определение понятий прозы и поэзии — одна из проблем литературоведения. Препятствием различения этих понятий стала пристрастность, отличающая всякое рассуждение о литературе и вообще искусстве. Наука о литературе в своих изысканиях более или менее объективна. Зато поэты и прозаики, ничем себя не ограничивая, рассуждают о прозе и поэзии особенно охотно. Издавна поэзией именовалась «хорошая», высокая литература, а прозой — или нехудожественная по своей природе, или просто неудачная. В паре понятий «проза — поэзия» многое запутанно и субъективно, и использовать это противопоставление следует особо осторожно. Рассмотрение противопоставления «стих — проза» позволяет почти всегда точно определить статус текста — отнести его или к стихотворной, или к прозаической традиции.
Наряду с обыкновенной, бытовой речью люди обращаются к речи, организованной по особым ритмическим законам — поэтической. Первоначально она использовалась в магических обрядах, без которых не мог прожить ни один народ, придавая им особую необычность и торжественность. Затем стихотворная речь стала употребляться для сочинения рассказов о героях-предках, которые приходилось запоминать наизусть и передавать от поколения к поколению, — оказалось, что и для этого стихотворная речь годится лучше, чем проза. Наконец, появилась лирическая народная песня, а за ней и авторская поэзия, в которых особую важность приобрели плавность и красота стихотворной речи.
СТИХОСЛОЖЕНИЕМ называется система законов и правил, по которым создаются стихи. В каждой национальной литературе существует определенный набор подобных правил, соответствующий особенностям языка, историческим и культурным традициям народа. Сочетания правил определяют различные системы стихосложения. В большинстве развитых литератур сменяют друг друга и сосуществуют несколько систем стихосложения.
|
Средневековые миннезингеры были искусными мастерами, следовавшими строгим поэтическим канонам. |
СКВОЗНОЙ ПОВТОР тех или иных компонентов определяет любую систему стихосложения. Такими элементами являются звуки, слоги или ударения, а также группы слов — строки или стихи. Метрической системой стихосложения называется та, которая опирается на закономерное чередование долгих и кратких гласных (в русском языке все звуки имеют примерно одинаковую долготу, поэтому у нас этот принцип не используется; эта закономерность проявилась в литературе античности: Древней Греции Древнего Рима). Силлабической (от греч. sillabe — «слог») системой называется такая, которая предполагает равенство строк по числу слогов. Стиховые системы, в которых каждая строка несет определенное количество ударений, называются тоническими. Комбинация двух этих принципов дает наиболее известный нам по русской поэзии XVIII - XX вв. силлабо-тонический стих.
Кроме этих, основных систем существуют также рифменный, или раешный, стих, создающийся с помощью рифмовки неоднородных строк. С середины XIX в. в Европе начинает развиваться свободный стих, опирающийся на единственный обязательный для всех систем европейского стихосложения признак стихотворной речи — ее разделение на соотносимые по вертикали строки. Такой стих часто называют французским термином «верлибр» (vers libге).
К сожалению, до современного читателя не дошли стихи, написанные на древнерусском языке, и судить о природе раннего российского стихотворства можно по «Слову о полку Игореве» (XII в.), а также по поздним записям народных песен и былин. Тем не менее можно предположить, что древнерусская поэзия так же, как поэзия большинства других народов Европы того времени, была тонической.
В XVII в. под влиянием немецкой и польской поэзии в России ненадолго воцаряется силлабический стих. Для него обязательным было равенство всех строчек по количеству слогов. Последние обусловливали размер стиха: восьми-сложник, одиннадцатисложник, тринадцатисложник и т. д. Он был как рифмованным, так и безрифменным (белым).
Очень скоро, уже в начале XVIII в., русская поэзия — также под влиянием немецкой — начинает осваивать более сложную систему стихосложения — силлабо-тоническую, основанную на объединении двух принципов: фольклорного тонического и книжного силлабического.
|
0010010010 Неразумное слово». 0010010010 (Н. Некрасов, 1851) Количество стоп считается по количеству ударений. Таким образом, в примерах встречается четырехстопный ямб (с «лишними» безударными слогами в четных строках), четырехстопный хорей (с усечением безударных в четных строках), пятистопный дактиль (с усечением безударных слогов во всех строках), трехстопный амфибрахий (с усечением последнего гласного в четных строках) и трехстопный анапест (с «лишними» безударными слогами в четных строках). Такие же лишние (или, наоборот, недостающие) слоги могут появляться и на цезуре - паузе, разделяющей длинный стих (строку) на два полустишия. |
МЕЛЬЧАЙШЕЙ ЕДИНИЦЕЙ РИТМА в силлаботонике считается стопа — условно выделяемая группа из двух или трех слогов, несущая одно ударение. Различаются дву- и трехсложные стопы. В зависимости от места ударения они называются по-разному. Так, двусложная стопа с ударением на первом слоге — хореическая (например, слово «горец»), а на втором — ямбическая (слово «кулак»).
|
Для имитации античных метров, более сложных, чем
гекзаметр и пентаметр, в русской поэзии использовался логаэд. В
стопных логаэдах каждая строка имеет определенную формулу и может
быть представлена как комбинация двусложных и трехсложных стоп:
Живая природа аритмична. Трудно найти в окружающем
мире идеально прямую линию или симметрию форм. Все относительно и
аритмично-искаженно. Нет идеально белого и чисто-черного цвета. |
Особо следует сказать о двусложных стопах, содержащих две ударные или две безударные гласные. Первые называются спондеи, вторые — пиррихии. Еще Ломоносов заметил, что для того, чтобы писать по-русски двусложными размерами, необходимо чередовать ямбические и хореические стопы с пиррихиями, потому что в противном случае придется допускать в стих только самые короткие слова. Пиррихии в русском стихе могут появляться во всех стопах строки, кроме последней. Строчки, в которых нет пиррихиев, называются полноударными, остальные — неполноударными. Подсчеты, сделанные учеными, показали, что большинство строк в русских двусложниках — неполноударные. Например, в первой строфе пушкинского стихотворения «Зимний вечер» (1825) нечетные строки — полноударные, а четные — неполноударные: «Буря мглою небо кроет (10101010), // Вихри снежные крутя (1010001). // То как зверь она завоет (10101010), // То заплачет, как дитя» (1010001). Спондеи в русском стихе встречаются значительно реже. Ударения, утяжеляющие стопу «лишним ударением», называются сверхсхемными. Появляются они, как правило, на первых слогах строк, написанных ямбом. Однако при чтении стихов с подчеркнутым выделением стоп — и так называемой скандовке — сверхсхемные ударения ослабевают и практически не нарушают ровного ритма двусложников.
Трехсложные стопы в русском стихе могут быть трех типов: дактилические (радуга), амфибрахические (корова) и анапестические (караван). Кроме этого изредка попадаются стопы, состоящие из трех безударных слогов, — их называют трибрахиями. Сверхсхемные ударения в трехсложниках встречаются достаточно часто, причем почти всегда — на первой стопе анапеста, реже — амфибрахия. При этом можно сказать, что трехсложные размеры, прежде всего в силу редкости отступлений от строгой схемы чередования ударных и безударных слогов, оказываются на практике более строгими метрами, чем двусложники. Стихи, построенные из названных стоп, называются ямбами, хореями, дактилями, амфибрахиями и анапестами. Термины эти заимствованы русской наукой о стихе из античной метрики. Ямб — самый распространенный размер в русской классической поэзии. В зависимости от количества стоп в строке каждый размер может быть трех-, четырех-, пяти- и более стопным.
|
Рисунок И. Фоминой на полях разворота «Слова о полку Игореве» ритмически объединяет текст. Графический ритм строк резонирует с линиями стрел. |
Обычно количество стоп во всех строках стихотворения бывает одинаковым. Но существуют и разностопные стихи, в которых закономерно чередуются строки разной длины. Если же количество стоп в строках колеблется свободно, то говорят о вольном стихе. Иногда встречаются также полиметрические композиции — стихотворения, часть которых написана одним размером, а другая — иным. Чаще всего это происходит в крупных произведениях — поэмах или циклах. Выразительный пример полиметрии — поэма А. А. Блока «Двенадцать» (1918), главы которой написаны разными размерами.
В XVIII — первой трети XIX в. русские поэты создали немало переводов классических произведений античной поэзии. Достаточно вспомнить выполненный В. А. Жуковским образцовый перевод (1849) гомеровой эпопеи «Одиссея» и переложение Н. Гнедичем «Илиады». Для воспроизведения ритмических особенностей античного эпоса русские поэты использовали гекзаметр (от греч. hexametros — «шестимерный») — шестистопный стих, а также пентаметр (от греч. pentametros — «пятимерный») — пятистопный стих и логаэд (от греч. logaoidiKos — «прозаически-стихотворный»). В этих типах русского стиха было впервые разрешено чередование стоп двух типов — двусложных и трехсложных. Создавалось принципиально отличное от силлаботоники разнообразие ритмических вариаций внутри каждой строки и произведения в целом. К тому же имитации античной поэзии не имели рифмы, что тоже резко выделяло их на фоне в основном рифмованной традиционной русской поэзии.
|
|
|
|
Ритм мира человека, жесткий и неумолимый, - в отражениях витрин, в свете ламп и линиях интерьера, в потоке людей и транспорта, в смазанности впечатлений и частичном забытьи вчерашнего дня, - переходит в произведения словесности: в прозу, стихотворения и поэмы. Ритм - одна из составляющих звучания поэтических произведений. Фото В. Шергина. |
Окна и портики, колонны и пилястры сменяют друг друга в строгой мелодии кадрили. Игра света и тени на набережной напоминает старинный котильон. |
В середине XIX в. этот опыт был использован русскими поэтами при создании соответствий немецким «свободным ритмам» — стихотворным размерам, которыми писали свои стихи И.-В. Гете и Г. Гейне. По сравнению с традиционным стихом такой стих производил на слух впечатление раскованности, свободы. Позднее он получил название «дольник», который делится не на одинаковые стопы, а на подобные друг другу фрагменты, несущие по одному ударению, — доли. Дольник, несмотря на определенное внешнее сходство с силлаботоническим стихом, отличается от него значительно большей свободой расстановки ударений внутри строки. Можно сказать, что это расшатанный, раскрепощенный силлаботонический стих. Общая особенность стихотворения, написанного дольником, — одинаковое для всех строк количество ударений. Дольник может быть двухударный, трехударный и т. д. Поэтому стиховеды относят дольник уже не к силлабо-тонической, а к тонической системе стихосложения. Принято считать, что русское народное стихосложение имеет тоническую природу. В этом смысле обращение к тонике приближает русский стих к народному. С другой стороны, дольником оказываются такие далекие от фольклорной традиции произведения, как переводы античной и немецкой поэзии, стихотворения русских поэтов Серебряного века. Поэтому обычно говорят о двух типах русской тоники: народной и литературной. Полагают, что народная тоника существовала всегда, в то время как литературная складывалась постепенно.
Вслед за дольником появляются в русской поэзии другие, еще более раскованные по сравнению с силлаботоническим каноном разновидности литературной тоники — тактовик и акцентный стих.
Дольником называется тонический стих, расстояние между ударениями в котором соответствует силлабо-тонической норме — один-два слога, тактовиком — стих с расстоянием в 1 - 3 слога, в акцентном стихе это расстояние может колебаться от нуля до бесконечности.
|
Разорванный ритм, неожиданная синкопа мысли, рифмы повторений, |
Как и силлаботоника, тонический стих чаще всего равноударен. Однако встречается и разносложный, и даже вольный дольник. В тонике заметно увеличивается роль рифмы, отмечающей паузы в конце строк, не всегда четко различимые в условиях переменности промежутков между ударениями. Встречаются и нерифмованные — белые варианты различных тонических размеров. В русской поэзии освоение тоники связано с именами А. А. Блока и Андрея Белого, использовавших в своей поэзии разные типы раскрепощенного стиха. Вслед за ними к тоническим размерам обращались и другие поэты Серебряного века. В. В. Маяковский и его соратники-футуристы сделали эти виды стиха господствующими в своей поэзии.
Сложно и драматично складывалась в русской поэзии судьба самого раскованного типа стиха — свободного, или верлибра. Верлибром в мировой науке принято называть стихи, в которых нет рифмы, силлабо-тонического метра, выравненности строк по числу слогов или ударений, а есть только первичный стиховой ритм, который возникает благодаря авторскому разделению текста на короткие фрагменты — строки (см. Проза и стихи). Верлибр появился в русской поэзии достаточно поздно — на рубеже XIX и XX вв. В этот период свои верлибры создают почти все известные поэты Серебряного века: А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, С. А. Есенин, М. А Кузмин, Велимир Хлебников, Ф. К. Сологуб, Игорь Северянин, Н. С. Гумилев, Н. А Клюев, М. И. Цветаева, З. Н. Гиппиус, В. В. Каменский и др. Особенно привился верлибр в арсенале русских футуристов. В русской литературе встречается также рифменный стих, в котором наряду с выделением строк используется рифма, отмечающая их концы. Иногда такой стих называют рифмованным свободным стихом. Особого распространения он не получил. Он встречался в народной поэзии — в раешной ее разновидности. Раешник выбрал для своих сказок А. С. Пушкин.
Знание стиховедения позволяет читателю понять место того или иного произведения в истории поэзии: увидеть, на какие стихи оно похоже, в чем его самобытность. Стихи воспринимаются более полно и ясно, доставляя понимающему читателю гораздо большее удовольствие своей ритмической красотой и слаженностью.
Человек, написавший на листе бумаги (напечатавший на компьютере) несколько фраз, отражающих его впечатления и раздумья, скорее всего, не думал ни о каких жанрах. Каких-либо специальных литературных задач он не ставил. Но эта отрывочная запись помимо его воли имеет отношение к определенному литературному жанру — прозаическому фрагменту (широко представленному в литературе немецкого романтизма, в творчестве Василия Розанова и Юрия Олеши). Написать текст вне жанра невозможно. Из этого вовсе не следует, что фрагментарная запись — литературное произведение. У фрагмента как художественного жанра свобода и глубина суждения должны сочетаться с виртуозной отточенностью выражения. Дело в цепкости и властности жанровых традиций: они дают возможность каждому, кто берется за перо, выбрать подходящий угол зрения. Они же предъявляют автору строгий счет, напоминая ему о высоких образцах и примере предшественников.
|
В некоторых случаях о произведении говорят: «Оно написано в жанре исповеди» (например, о «Самопознании» Н. Бердяева). Слово «исповедь» становится в один ряд с терминами «роман», «поэма», «комедия», что не совсем верно. Выражение «в жанре исповеди» означает сложившуюся в литературе традицию: «Исповедь» А. Августина, «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо - указанное слово стало нарицательным для тех произведений, где лирическое начало (повествование от первого лица) играет заметную роль и беспристрастно показывает сложный и противоречивый внутренний мир героя.
|
ЖАНРОМ (от фр. genre — «род») называется исторически складывающийся и развивающийся тип художественного произведения. Ранее жанрами именовали эпос, лирику и драму, которые сейчас принято считать категориями родовыми. Понятие «жанр» стало тождественным понятию «вид». В одни литературные периоды писатели уделяют проблемам жанра повышенное внимание и жанровая теория развивается совместно с практикой. Так было, например, в эпоху классицизма с его строгой иерархией литературных видов и системой творческих инструкций по каждому из них. В другие времена о жанрах думают и говорят меньше, хотя развитие их не прекращается и не замедляется.
|
|
|
|
А. Г. Агин. Иллюстрация к поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» |
Василий Теркин из одноименной поэмы А. Т. Твардовского, увиденный О. Верейским |
Двумя важнейшими условиями существования жанра являются его долгая, прочная литературная память и его непрерывная историческая эволюция. Казалось, немного внешнего сходства между «Медным всадником» (1833, опубл. 1837) А.С. Пушкина, «Соловьиным садом» (1915) А. А. Блока и «Василием Теркиным» (1941 - 1945) А.Т. Твардовского, но между этими произведениями есть связь в способе построения, отражения и преломления действительности, поскольку принадлежат они к одному жанру — поэме. Бывают жанровые переклички неожиданные, связующие нити не сразу заметные, но тем не менее прочные. Так, роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1863), проектирующий будущее идеальное общество (описание мастерских, четвертый сон Веры Павловны), исторически восходит к традиции утопического романа эпохи Возрождения («Утопия» (1515 - 1516) Т. Мора, «Город солнца» (1602) Т. Кампанеллы и др.). А сатирические главы романа напоминают ренессансные памфлеты: одну из глав Н. Г. Чернышевский назвал «Похвальное слово Марье Алексеевне» по аналогии с «Похвалой глупости» (1509) Эразма Роттердамского. Жанр оды, казалось бы, окончательно оставленный русской поэзией в начале XIX столетия, возрождается у В.В. Маяковского в «Оде революции» (1918). И дело здесь не столько в субъективных намерениях авторов, сколько в независимо существующей «памяти жанра» (выражение литературоведа М. М. Бахтина). Жанры не исчезают, уходя в прошлое безвозвратно, они лишь могут отступить, перейти «на запасной путь». Возможность возвращения для них всегда открыта — если этого потребуют время и логика литературного развития.
Каждый жанр — живой, развивающийся организм, непрерывно эволюционирующая система (на что указал в своих работах Ю. Н. Тынянов). Все литературные жанры вместе образуют целостную систему, демонстрирующую богатство возможностей художественного слова в творческом пересоздании действительности. В этой системе каждое звено незаменимо. Поэтому нельзя возвышать одни жанры над другими, и мировая литература постепенно отказалась от иерархий жанров, от деления их на высокие и низкие. Полушутливый афоризм Вольтера: «Все роды поэзии хороши, кроме скучного», по-видимому, навсегда останется верным для культуры.
|
Книги, написанные в «жанре фэнтези» (например, «Хроники Амбера» Р. Желязны), можно причислить к жанровой форме roman, использующей мотивы и стиль рыцарского, готического, фантастического, исторического романов. Они наследуют тематический диапазон романтизма: королевские династии и злые силы, аллюзии с Круглым столом короля Артура, мечи и оружие (аллюзии к Артурову Эскалибуру), колдовство и заговоры, магические рубежи и обереги, двойники и явления мертвых, перенесения в пространстве и времени, ясновидение и вещие сны. Их четкое поглавное членение характерно для романов XVIII в. Реминисценции, скрытые цитаты и мотивы, элементы мифологии кельтов напоминают об англоязычной литературной традиции (К. Марло, У. Шекспир, О. Уайльд и др.). Им присущи цикличность, большой объем глав с динамичной сменой событий, многочисленность персонажей и описаний, рассказ об истории рода.
Рисунок В. Милашевского к роману Ч. Диккенса «Записки Пиквикского клуба». |
Многообразие жанров способствует обмену творческим опытом. Это для литературы естественно и плодотворно. Многие произведения сочетают в себе черты разных жанров, границы между литературными видами делаются порой подвижными, открытыми, но центр каждого из них обнаружить можно в любое время.
Жанры и их бесчисленные подвиды составляют разветвленную деревоподобную структуру, ветви которой теряются высоко в дальнейшем развитии мировой литературы, а единый корень литературных родов уходит в историческую твердь веков.
Разновидности жанров называются жанровыми формами (иногда — видами). Так, жанр роман обладает большим числом своих разновидностей. Например, роман воспитания (просветительский: «История Тома Джонса, найденыша», 1749, Г. Филдинга) и его подвид — эпистолярный роман («Письма к сыну», изд. 1774, Ф. Д. С. Честерфилда); семейно-бытовой роман («Кларисса Гарло», 1747 - 1748, С. Ричардсона); роман путешествий («Робинзон Крузо», 1719, Д. Дефо; по содержанию — философский роман); психологический («Подросток», 1875, Ф. М. Достоевского), философский (герои — не персонажи, а идеи: «Юлия, или Новая Элоиза», Ж.-Ж. Руссо; «Посторонний», 1942, А. Камю; «Человек без свойств», 1930 - 1943, Р. Музиля) и социально-психологический роман («Повелитель мух», 1954, У. Голдинга); детективный («Лунный камень», 1868, У.У. Коллинза, готический («Замок Отранто», 1765, X. Уолпола; «Итальянец», 1797, А. Радклиф), фантастический («Пикник на обочине», 1972, А. и Б. Стругацких), исторический роман («Айвенго», 1820, В. Скотта); роман потока сознания (цикл «в поисках утраченного времени», 1913 - 1922, М. Пруста; «Улисс», 1922, Дж. Джойса; «Миссис Дэлоуэй», 1925, В. Вулф); роман-эпопея («Сага о Форсайтах», 1906 - 1920, Дж. Голсуорси) и др.
В последние десятилетия XX в. романный жанр стал объектом литературной игры (например, «Бледное пламя», 1962, В. В. Набокова; «Школа для дураков», 1976, С. Соколова; «Хазарский словарь: Роман-лексикон на 10 000 слов», 1984, М. Павича). То же относится к лирическим и драматическим жанрам. Часто трудно определить доминирующую жанровую принадлежность произведения (например, «Шум и ярость», 1929, У. Фолкнера — синтез психологического, семейного и философского содержания); «Король, дама, валет», 1932, В. В. Набокова — соединение детективного, психологического, любовного и философского начал); «Имя розы», 1980, У. Эко — совмещение философских размышлений, исторического и детективного повествования — все они виды жанра романа, прозаической формы эпического рода).
Некоторые жанры практически слились с другими: жанр фантастического романа с романом-антиутопией (подвидом романа-утопии). Это относится к романам Е. И. Замятина, Р. Брэдбери, Аркадия и Бориса Стругацких и др. Для определения жанра романа необходимо четко различать форму и содержание.
|
Неожиданным оказалось слово «поэма» после заглавия «Мертвые души», подзаголовок «комедия» в чеховской «Чайке». В таких случаях надо учитывать, что авторское определение носит не абстрактно-научный, а творчески-художественный характер: подзаголовки входят в состав художественных текстов. Смотря на предмет сугубо научно, можно дать таким произведениям другие определения: «Мертвые души» назвать сатирической эпопеей, а «Чайку» - драмой. Но это не освобождает от необходимости серьезных раздумий о том, почему авторы назвали свои произведения поэмой и комедией.
Роль юного рыцаря играет старый худосочный идальго, Прекрасной Дамой оказывается скотница Альдониса Лоренсо, а боевой рыцарский конь превращается в немощного Росинанта. Гравюра Г. Доре. |
Зачастую в старую форму автор вкладывает новое содержание. Если жанр подвергается пародированию, то он перерождается (что относится и к плутовскому роману — например, к «Хромому бесу», 1707, А.-Р. Лесажа). Он подстраивается под иное содержание и начинает решать новые задачи. В других случаях пародия на устаревшие жанры начинает играть самостоятельную роль и превращается в литературную игру — в практике нового романа (иначе — антироман) и писателей-постмодернистов. При этом в самом жанре ничего нового не происходит, а литературная жизнь оказывается затянувшимся ожиданием новых открытий.
Часто авторы, сопровождая свои произведения жанровыми характеристиками, дают подзаголовок: роман, повесть, комедия и др. В некоторых случаях они расходятся с общепринятыми представлениями о жанрах.
Теория жанров необходима не для того, чтобы присваивать произведению готовое определение: рассказ, элегия, трагедия и др. Задача литературоведения — конкретно разобраться, что в произведении обусловлено «памятью жанра» и какие новые возможности жанра открыты писателем. Необходимо уметь обнаруживать в некоторых произведениях сочетание признаков различных литературных видов.