Всё, что есть у меня - Ваше

Глава XVIII
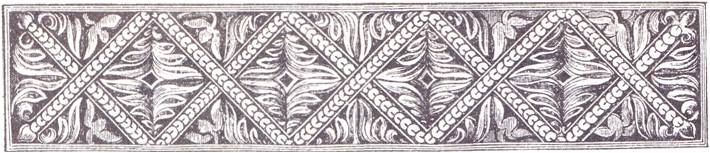
 НАЧАЛЕ текущего столетия и
в конце прошедшего, наши публичные увеселения кипели жизнью и не были так
бесцветны и вялы, как теперь; правда, и жизнь в Петербурге в то время была
баснословно дешевая. Первый, например, в столице дом графа Шереметева, на
Фонтанке, отдавался в наймы за четыре тысячи рублей. Лучшая квартира в восемь
десять комнат, на лучшей улице, стоила не дороже двадцати рублей в месяц; фунт
говядины стоил полторы и две копейки, полтеленка рубль, курица пять копеек,
десяток яиц две копейки, пуд масла коровьего 2 рубля, пуд свечей сальных два
рубля, овса четверть восемь-десятъ копеек, пуд сена три копейки, дров березовых
сажень семьдесят копеек, хлеб белый в полфунта две копейки, бутылка шампанского
вина полтора рубля, портера английского двадцать пять копеек, пиво две копейки,
десяток апельсинов двадцать пять копеек, лимон три копейки. По цене высоко стоял
только один сахар, и то оттого, что был заграничный: цена рафинада была за фунт
два и три рубля. Особенно высока цена была после двенадцатого года, в это время
во многих домах подавали самый последний сорт сахара, называвшийся „лумп“; он
был неочищенный, желто-соломенного цвета; лучшего сорта сахар назывался „мелюс“,
а второй сорт носил имя полурафинада. Наемная карета с четверкой лошадей в месяц
стоила шестьдесят рублей. За обед в первом трактире с пивом платили у Френцеля
на Невском, рядом с домом графа Строганова, и в трактире „Мыс Доброй Надежды", в
Большой Морской, тридцать копеек. За два рубля можно было иметь самый
гастрономический обед с десертом и вином в Демутовомъ трактире у Юге. У Фельета
в маскараде платили за жареного рябчика тридцать копеек, за бутылку красного
бордоского вина ту же цену. Ранней весной любимейшим местом гулянья всего
фешенебельного Петербурга был Невский проспект и Адмиралтейский бульвар; также и
биржа в это время года делалась всеобщим сходбищем; открытие навигации и
прибытие первого иностранного корабля составляли эпоху в жизни петербуржца.
НАЧАЛЕ текущего столетия и
в конце прошедшего, наши публичные увеселения кипели жизнью и не были так
бесцветны и вялы, как теперь; правда, и жизнь в Петербурге в то время была
баснословно дешевая. Первый, например, в столице дом графа Шереметева, на
Фонтанке, отдавался в наймы за четыре тысячи рублей. Лучшая квартира в восемь
десять комнат, на лучшей улице, стоила не дороже двадцати рублей в месяц; фунт
говядины стоил полторы и две копейки, полтеленка рубль, курица пять копеек,
десяток яиц две копейки, пуд масла коровьего 2 рубля, пуд свечей сальных два
рубля, овса четверть восемь-десятъ копеек, пуд сена три копейки, дров березовых
сажень семьдесят копеек, хлеб белый в полфунта две копейки, бутылка шампанского
вина полтора рубля, портера английского двадцать пять копеек, пиво две копейки,
десяток апельсинов двадцать пять копеек, лимон три копейки. По цене высоко стоял
только один сахар, и то оттого, что был заграничный: цена рафинада была за фунт
два и три рубля. Особенно высока цена была после двенадцатого года, в это время
во многих домах подавали самый последний сорт сахара, называвшийся „лумп“; он
был неочищенный, желто-соломенного цвета; лучшего сорта сахар назывался „мелюс“,
а второй сорт носил имя полурафинада. Наемная карета с четверкой лошадей в месяц
стоила шестьдесят рублей. За обед в первом трактире с пивом платили у Френцеля
на Невском, рядом с домом графа Строганова, и в трактире „Мыс Доброй Надежды", в
Большой Морской, тридцать копеек. За два рубля можно было иметь самый
гастрономический обед с десертом и вином в Демутовомъ трактире у Юге. У Фельета
в маскараде платили за жареного рябчика тридцать копеек, за бутылку красного
бордоского вина ту же цену. Ранней весной любимейшим местом гулянья всего
фешенебельного Петербурга был Невский проспект и Адмиралтейский бульвар; также и
биржа в это время года делалась всеобщим сходбищем; открытие навигации и
прибытие первого иностранного корабля составляли эпоху в жизни петербуржца.
Биржевая набережная и лавки тогда превращались в целые импровизированные померанцовые и лимонные рощи, с роскошными пальмовыми, фиговыми и вишневыми деревьями в полном цвете. Рощи эти населяли златокрылые и сладкогласные пернатые экзотических стран; ботаник, лошадиный, птичий и собачий охотники, каждый здесь находил себе богатую пищу.
Привезенные на кораблях английские буцефалы в виду многочисленной публики выгружались и подымались на блоках в деревянных ящиках и моментально обступались знатоками-покупателями.
В лавках за накрытыми столиками пресыщались гастрономы устрицами, только что привезенными с отмелей в десять дней известным в то время голландским рыбаком, на маленьком ботике, в сообществе одного юнги и большой собаки.
Коренастый голландец, в чистой кожаной куртке и в белом фартуке, с простым обломком ножа в руках, спешил удовлетворить желание своих многочисленных гостей, быстро вскрывая на тарелках своих жирных затворниц. Молодой юнга сновал между столами, с подносом, уставленным стаканами с свежим пенящимся английским портером.
Специалисты по части прекрасного пола любовались хорошенькими розовыми личиками в соломенных шляпках, пугливо выглядывающими из маленьких окошечек трех-мачтового корабля. Груз этот предназначался в лучшие барские дома и состоял из немок, швейцарок, англичанок француженок, на известные должности гувернанток, нянек, бонн и т. д. Интересные пленницы ждали своих будущих хозяев и полицейского чиновника для прописки паспортов.
Первый общественный увеселительный сад открылся весной в 1793 году на Мойке (теперь Демидовский дом трудящихся); учредил его поддиректор императорских театров, барон Ванжура; увеселительный сад именовался „Вокзал в Нарышкиновом саду".
Здесь каждую среду и в воскресенье давались праздники, балы, танцевальные вечера и маскарады с платой по рублю с персоны. Увеселения начинались с 8 часов вечера; посетители могли приходить в масках и без маски. В зале, предназначенной для танцев, играло два оркестра музыки: роговой и бальный. На открытом театре давали пантомимы и сожигали потешные огни. Иногда здесь шли и больные представления, как, например, „Капитана Кука сошествие на островъ с сражением, поставленным фехтмейстером Мире", или „Новый год индейцев", народные пляски и т. д. При этих представлениях публика платила два рубля.
Здесь показывали свое искусство, как гласила афиша того времени, и путешествующие актеры, и мастера разных физических, механических и других искусств, музыканты гордые, на органах и лютне, искусники разных телодвижений, прыгуны, сильные люди, великаны, мастера верховой езды, люди со львами и другими редкими зверями, искусными лошадьми, художники искусственных потешных огней и т. д.
Нарышкинский вокзал не просуществовал долго, скоро он закрылся, хотя его артисты, по словам современников, имели вначале великий успех. Вообще летних частных увеселительных садов в начале нынешнего столетия было гораздо более, чем теперь. Первым в ряду их бесспорно стоял императорский Летний сад, затем другой в Литейной части, под названием „Итальянский“.
В этих садах в праздничные и воскресные дни играла императорская роговая музыка.
Был также в городе „Вольфов сад“ при оспопрививательном доме, потом славился еще „Фридериксов" при ситцевой фабрике. Затем известны были загородные сады: Аптекарский, или Ботанический, и еще графа К. Гр. Разумовского на Крестовском острове; в этом саду, у каменного охотничьего замка, для увеселения публики, закидывалась тоня для ловли рыбы; тут же находился трактир, где угощали прохожих напитками и кушаньями. Каменный остров ее своими тенистыми аллеями был также один из любимейших народных садов; где теперь стоит летний дворец в. к. Екатерины Михаиловны, в то время был разведен графом Бестужевым-Рюминым прелестный увеселительный сад в голландском вкусе, с каналами, выложенными известковым камнем, с беседками для охотников, с увеселительными тонями и другими барскими затеями.
На Елагином острове, или, как его прежде называли, на Мельгуновом острове, публика тоже пользовалась самым широким гостеприимством от владельца, гофмаршала И. П. Елагина.
Здесь строго было приказано дворецкому угощать всех желающих обедом и ужином.
В праздничные дни в саду играла музыка, ломались паяцы и пускались увеселительные потешные огни.
В Выборгской части существовали сады: графа Ал. Сер. Строгонова и графа А. А. Безбородко.
В Строгоновском саду в праздничные дни происходили танцы на открытом воздухе; раскинуты были палатки, где угощали также даром вином и яствами.
Существовал также увеселительный сад на острове. Круглом, перед самым главным устьем Невы, напротив Подзорного дворца. Здесь, впрочем, бралась плата за вход с человека по 25 к., а за все лето по два рубля с полтиной.
Любимыми удовольствиями петербуржцев считались также прогулки по Неве в шлюпках и больших лодках, в 3, 4, 6, 10 пар весел, с ловкими гребцами, одетыми в голландские куртки. В летние ночи такие шлюпки были видны ежеминутно, с гребцами, распевающими песни и играющими на рожках.
Шлюпки эти содержались присутственными местами для перевоза через Неву, когда не было мостов.
В „Красном Кабачке", в „Желтеньком", в Екатерингофе происходили настоящие оргии. На катерах с музыкой и песенниками, на тройках, на лихих рысаках туда съезжалась публика. Заехав же в трактир, спрашивали шампанское не бутылками, а целыми ящиками. Вместо чаю пили пунш. Цыгане, крик, шум и мертвая чаша! В старину все это считалось молодецкой забавой.
На Петергофской дороге существовал великолепный сад А. Л. Нарышкина у Красной мызы, простиравшейся чуть ли не на 7 верст, тоже доступный для публики. Здесь даже была выставлена при входе доска с надписью: „Приглашаем всех городских жителей воспользоваться свежим воздухом и прогулкой в саду, для рассыпания мыслей и соблюдения здоровья“.
По Шлиссельбургскому тракту были загородные великолепные сады, с свободным входом для всех: князя Вяземского, Зиновьева, Апраксина, Потемкина, Шереметева и многих других.
Для дальних прогулок существовали уже в полной царственной красе императорские и великокняжеские дворцы и сады: Петергоф, Ораненбаум, Гатчина, Царское Село, Павловск и npoчиe.
Некоторые откупщики и богатые люди давали праздники в своих садах, ничуть не отличавшиеся от царских праздников. Так, в двадцатых годах, недалеко от Большого Охтенского перевоза, жил богач Ганин, известный своими лукулловскими праздниками, своим садом и затеями. Он нередко устраивал праздники в своем саду, стоившему не менее пяти тысяч рублей. По приказу его, как по волшебству, созидались из зелени и цветов в саду множество храмов, беседок, роскошно иллюминованных разноцветными фонарями и венецианскими люстрами.
В каждой из этих беседок для гостей был сервирован роскошный ужин. Вся крепостная прислуга этого барина при таких случаях была закостюмирована: женщины — нимфами, наядами, сильфидами, мужчины — тетями и силенами, дети — амурами. Сильфиды прислуживали у стола, наяды разливали вина, фавны носили кубки и блюда с яствами. Сатиры и нимфы с амурами в это время кружились в веселых плясках. Музыка, песни, бенгальские огни придавали всему этому вид полного очарования.
Нередко, впрочем, природа помрачала эти пиршества на открытом воздухе. Небо покрывалось тучами, гром заглушал музыку, а сильный дождь разводил вино. Картина общей, внезапной сумятицы выходила пресмешная. Стихия тешилась, и непризнанные боги и богини промокали до костей, у сильфид ветер срывал тюники, амуры теряли башмаки, нимфы вязли в грязи, а бедным фавнам и сатирам нечем было далее промочить горло.
В старину наши баре, давая там роскошные праздники, часто не думали о расплате за них, а давали их прямо в кредит.
Гулянье первого мая обыкновеннно праздновалось в Екатерингое; в этот день в роще разбивались нарядные палатки и устраивались кавалькады. Сколько народу, сколько разгульной веселости, шуму, гаму, музыки, песен, плясок и проч. было там.
Богатые вельможи делали свои палатки из турецких дорогих шалей, в палатках на столах стояла роскошная трапеза, рядом помещались оркестры дворовых музыкантов. Сколько щегольских модных карет и древних прапрадедовских колымаг и рыдванов, блестящей упряжи и веревочной сбруи, прекрасных коней и тощих старых кляч, прелестнейших кавалькад и прежалких всадников можно было встретить там. Всюду азиатская роскошь. Впрочем местами проглядывала и непокрытая голь и нищета. Нередко из-за богатой палатки виднелся чуть-чуть прикрытой рогожей и тряпками шалаш с единственными украшениями: дымящимся самоваром и простым пастушеским рожком для акомпанемента поющих и пляшущих поклонников алкоголя.
Вельможи, приезжая сюда со свитой в несколько десятков человек, пировали по три и по четыре дня; перед их палатками плясали и пели песенники-цыгане в белых кафтанах с золотыми позументами. Здесь же на потеху народу завязывался кулачный бой, в который вступая, по русскому обычаю, соперники троекратно целовались и обнимались. Победителем на таких боях долго славился целовальник Гордей.
Кулачные бои происходили также каждое воскресенье на Неве, в великом посту; боролись и дрались охтяне с фабричными стеклянного и фарфорового заводов.
Что же касается до боев на зеленом поле, то в старину они в Петербурге процветали. Петербургские старожилы, вероятно, еще помнят, как на одной из главных, самых многолюдных улиц, в двух угловых, стоявших один против другого и ярко освещенных домах, почти каждый вечер кипела очень сильная, азартная игра и манила проезжающих по улице то направо, то налево.
Лет семьдесят тому назад, один из содержателей таких домов выстроил себе в Петербурге великолепный дом, окруженный садом (дом этот принадлежит теперь одному из наших богатых князей). В его кабинете, между разными картинами, висела золотая рамка с вставленной в нее пятеркой, в знак признательности, что она рутировала ему в штосе, который он когда-то метал на какой-то ярмарке и выиграл миллион рублей.
В старину было не мало бар, принадлежавших к высшему кругу общества, с которыми даже в коммерческие игры садились играть не иначе, как с условием, чтобы они никогда не тасовали и не сдавали карт, и они покорялись этому требованию с величайшим хладнокровием.
|
Загородные зимние катанья (в «Красный Кабачок») в Петербурге в начале нынешнего столетия. С современной гравюры. |
Концерты и музыкальные вечера в Петербурге начались в 1772 году; в этом году был учрежден первый музыкальный клуб из трехсот членов, вносивших каждый по десяти рублей в год на содержание оркестра. По два раза в неделю назначались в клубе музыкальные вечера, стечение публики на них было многочисленное.
Каждую зиму также составлялось одно английское и одно немецкое купеческое общество для балов; последние давались в доме Нарышкина, у барона Ванжура (теперь дом Демидова, на Мойке).
Публичные балы и маскарады в начале нынешнего столетия славились у Фельета. Здесь высшее петербургское общество освобождалось от оков этикета и вполне предавалось веселости и даже шалости, конечно, не выходя из пределов приличия.
В начале двадцатых годов, славились придворные маскарады в Зимнем дворце. Более тридцати тысяч билетов раздавалось желающим быть в этом маскараде, которому не было подобного по разнообразию костюмов и многочисленности посетителей.
С восьми часов вечера, бесконечный ряд великолепных комнат дворца открывался и в какой-нибудь час наполнялся пестрой толпой купцов и лавочников, с окладистыми бородами, в длиннополых сибирках и в круглых шляпах, с женами их и дочерями, в парчевых и шелковых платьях, в алмазах и жемчугах.
Грузины, черкесы, армяне, татары в национальных костюмах, офицеры, иностранное посольство в парадной одежде и присутствие монарха с высочайшей фамилией и двором делало этот маскарад вполне торжественным. Государь являлся всегда приветливым хозяином и удостоивал некоторых посетителей разговором и вниманием.
Во время маскарада раздавался желающим чай, мед, разные лакомства и закуски. В маскарадах царствовал необыкновенный порядок, сохранялся он без содействия полициии, которая сюда не допускалась.
Особенно многолюден был маскарад накануне Нового года; в этот вечер весь двор являлся одетый в домино и совершал процессию через все покои дворца, затем двор ужинал в Эрмитаже. Народу во дворце собиралось несколько тысячъ, в том числе немало бараньих тулупов. И над всей этой многотысячной массой высилась высокая фигура императора Николая, в треугольной шляпе с развевающимися перьями.
Также блестящие маскарады давались и в дворянском собрании, и в Большом театре; особенно на маслянице и также ранней весной ежегодно так называемый маскарад с лотереей-томбола.
В этом маскараде, в час ночи, на особой эстраде, при звуках труб, разыгрывали разные галантерейные вещи. Этим маскарадом оканчивались бальные и маскарадные собрания петербургской публики до осени.
|
Моды в России в 1779 году.
С рисунка, приложенного к журналу „Модное ежемесячное сочинение“, изд. 1779 г. |
При императоре Александре I было в обыкновении спрашивать имя того, кто первый входил в маскарад, и у последнего, кто его покидал; имена этих господ на другое утро докладывали императору. По поводу этого обыкновения вышел сдедующий курьезный случай. Один начальник отделения военного министерства, состоявшего под управлением графа Аракчеева, никогда еще не бывал ни в маскараде, ни в театре; всю жизнь он ложился спать в 10 часов вечера и вставал вместе с курами. Сестра его жены приезжает из провинции в Петербург и обе дамы просят, чтобы старик ехал с ними в маскарад. На свое несчастье он соглашается; он не знал, что такое выходит из дому или возвращаться в 11 часов. В огромном нижнем этаже дворца, в проходных комнатах, есть маленькие, неосвещенные кабинетцы, снабженные креслами. Этот господин юркнул в один из таких, сказав своим дамам, чтобы они следовали за толпой, совершали бы свой маскарадный обход и потом пришли за ним. Но этого им не удалось сделать, кабинетцев множество, давка страшная. Дамы в отчаянии отправляются домой одни, старика же утром будят полотеры. Проходит год; Аракчеев делает представление к наградам. Его лучший работник, наш начальник отделения, тоже не забыт. Представление государь утверждает, вычеркивая одного начальника отделения. Аракчеев решается замолвить за него слово, но государь прерывает его: „Вы ничего не знаете; этот чиновник посещает все маскарады; он первый появляется и последний уезжает — это уже не работник!“ Никакие доводы не подействовали: старику пришлось выйдти в отставку. Он только и покидал свою квартиру, чтобы идти в канцелярию, где и был первым и последним.
Балы богатых вельмож представляли следующую картину. Зал освещался множеством восковых свеч, горевших в хрустальных люстрах и медных стенных подсвечниках. По двум сторонам залы, у стен, стояло множество раскрытых ломберных столов, на которых лежало по две колоды нераспечатанных карт. Музыканты размещались у передней стены, на длинных, установленных амфитеатром скамейках: когда гостей съезжалось довольно, то музыка открывала бал польским, при торжественных случаях с акомпанементом хора певчих. Протанцевав минут пять, знатнейшие пожилые особы садились за карты, а вместо них начинали отличаться молодые. Употребительнейшие танцы в то время были: полонез, а-ла-грек, английский променад, альман, хлопушка, уточка, экосезы, мазурка, котильон, матрадуры, галопад, минуэты en deux и en quatre. Во всех этих танцах соблюдали все правила, выделывая каждое па самым добросовестным образом. Известные до этого времени стройные круги хороводов, веселые плетни, метелицы, буйные трепаки, казачки, камаринская танцевались только уже в провинции.
Во время танцев старики и старушки за карточными столами потешались в вистъ три-три, рокамболь, макао, рест, квинтич, басест, шнип-шнап-шнур, кучки, а-ла-муш, юрдонь (самая азартная игра, от которой произошло известное выражение „проюрдонился"), тентере, панфилъ, ерошки или хрюшки, НИКИТИШНЫ и т. д.
Вельможи века Екатерины щеголяли роскошью своих балов. Но и семейные вечера наших бар, даваемые запросто, отличались торжественностью и великолепием; про графа А. Г. Орлова рассказывают его современники, что он еженедельно давал вечера, на которые съезжались все "званые и незваные. Сам могучий хозяин встречал гостей, сидя в передней гостиной вместе с некоторыми почетными лицами, распивая чай и другиe напитки. Здесь все были веселы, громко смеялись и рассказывали друг другу новости.
На таких вечерах в десятом часу накрывался ужин кувертов на двести. На одном столе ставился сервиз серебряный, на другом из саксонского фарфора; за первым столом служила прислуга вся старая, в сединах, за вторым суетились молодые официанты. Подавали аршинные стерляди, судаки из собственных прудов; спаржу толщиной чуть ли не в добрую дубину из своих огородов; телятину белую, как снег, выхоленную в люльках на своем же скотном дворе. Персики и ананасы были также из своих оранжерей; даже вкусное вино из ягод, в роде шампанского, было домашнего приготовления. Хозяин почти никогда не садился за стол, а только заботился о гостях. После ужина, который обыкновенно кончался в одиннадцатом часу, по знаку хозяина музыканты играли русскую песню: „Я по цветикам ходила", под звуки которой дочь графа, разодетая в богатейший русский сарафан, плясала по-русски. Гости тоже усердно за ней пускались в пляс. В половине второго танцы прерывались, и хозяин возглашал: „пора по домам!“ музыка умолкала и всякий торопился убраться домой, ранее поблагодарив радушного хозяина, который коротко знакомых обнимал, других дружески трепал по плечу, у дам целовал ручки и всем говорил не иначе, как „ты“. При разъезде, почти вся улица была запружена экипажами. Кучерам раздавали по калачу и разносили по стакану пенника.
Особенно роскошны выходили разные празднества и домашние спектакли у известного петербургского богача Всеволода Андреевича Всеволожского, даваемые им на своей мызе „Рябово". Имение этого Креза стоило ему многих миллионов рублей. К сожалению, следы былого великолепия и былой роскоши этого барича теперь уже не существуют. Изящный дворец, с оранжереями, густыми подстриженными французскими ленотровскими аллеями, с каналами, водоемами и прочими затеями, обвалился, зарос и продан по частям. Барский дом этого магната состоял из 160 комнат, расположенных в двух этажах. В Рябово съезжалось из Петербурга ко дню именин хозяина 24-го октября более пятисот человек гостей. Для всех гостей устроены были особые помещения, причем были приняты меры, чтобы привычки и обычаи каждого гостя и гостьи не встретили ни малейшего стеснения; празднование длилось трое суток. В рябовском манеже давались костюмированные турниры, карусели, на которые выезжали рыцари в латах. Обеды этого Креза славились на всю Россию. Разварные осетры, полученные по почте с Урала, подавались целиком в паровом котле; последний, обернутый массой салфеток, подавали четверо дюжих кухонных мужиков, одетых в белых как снег русских рубахах. На театре играли крепостные актеры и актрисы Всеволожского, составлявшие у него довольно многочисленную труппу. Эта же рябовская труппа, вместе с тем исполняла и обязанности хора певчих в домашней церкви и отчасти музыкантов во время балов. В заключение спектакля становился особенный пролог, который разыгрывали родственники и близкие знакомые хозяина. За прологом следовало представление в лицах, также гостями, различных шарад, загадок, каламбуров, логогрифов, омонимов, анаграм и т. д. Во время ужина в столовую то и дело являлись различные персонажи, в костюмах один другого забавнее и замысловатее. Шатался около столов какой-то господин с красным носом в шутовском наряде; он был украшен надписью „Gastronome ambulant". Этот гастроном преловко допивал недопитые рюмки у гостей, доедал объедки и т. д. Несколько старых французских эмигрантов в шитых шелковых и глазетовых кафтанах, в розовых чулках и башмаках, с стразовыми пряжками и с напудренными париками, важно нюхали здесь табак и очень забавно толковали о временах Регентства и Людовика XVI. Известный в то же время богач, чудак Ганин, почти полуидиот, над которым так часто подсмеивался Измайлов в своем „Благонамеренном“, давал также спектакли в своем загородном доме, на которых, впрочем, всегда исполнялись безграмотные пьесы самого хозяина. Здесь между актерами являлся сам творец этих бездарностей, исполнявший всегда роль львицы на четвереньках. Про этого Ганина в то время ходило много анекдотов. Император Александр Павлович бывши наследником, раз возвращался на яхте с командой гвардейского экипажа и с роговой музыкой Д. Л. Нарышкина. Проезжая по Неве мимо дачи Ганина, в довольно значительном расстоянии от берега, он увидел на берегу целую вереницу голых людей. Полагая, что эти люди вышли из находившейся здесь же бани Ганина, или из публичной купальни, государь нашел эту прогулку в одежде прародителей неприличной и велел одному из бывших при нем адьютантов отправиться на берег и сделать об этом распоряжение. Но каково было удивление адьютанта, когда он, подъезжая к берегу, увидел, что хороводы голых людей были не что ине, как ряд Ганинских алебастровых статуй, ни с того, ни с сего выкрашенных по распоряжению владельца в светлорозовый цвет. Во избежание подобного рода недоразумений, тогдашний обер-полицеймейстер, Гладкий, приказал их выбелить.
На домашних спектаклях наших бар давали и французские комедии. Из Франции, как известно, в то время нахлынуло к нам, вместе с эмигрантами, волокитство и любезности петиметров. С. Н. Глинка в своих записках пишет: „Модный московский свет на ряду с петербургским, размежевался на два отделения: в одном отличались англоманы, в другом — галломаны. В Петербурге было более англоманов, в модных домах появились будуары, диваны, и с ними начались истерики, мигрени, спазмы и так далее. По ночам кипел банк, тогда уже ломбарды более и более наполнялись закладом крестьянских душ. Быстры и внезапны были переходы от роскоши к разорению. В большом свете завелись менялы, днем разъезжали они в каретах по домам, с корзинками, наполненными разными безделками, и променивали их на чистое золото и драгоценные каменья, а вечером увивались около тех счастливцев, которые проигрывали свое имение, и выманивали у них последние деньги. В утренние разъезды и на обеды ездили с гайдуками, скороходами, на быстрых четвернях и шестернях; тогда езда парой называлась мещанской ездой. В 1800 году, в Петербурге дома были неболыше, деревянные, и только в самомъцентре города каменные. Мосты, исключая Каменного и Казанского, были тоже деревянные, даже на Невском дома были почти все деревянные, как и церковь Казанской Божией Матери. Тротуаров тоже не было, а были досчатые дорожки. О богатых гостиницах даже не было и помина. Иногородние, приезжая в Петербург останавливались по старинному русскому обычаю у своих родных и знакомых, а для богачей нанимали в городе заблаговременно квартиры. Магазинов с иностранными товарами было всего три; убранство магазинов отличалось полной простотой, богатые товары лежали на полках или шкафах из простого выкрашенного дерева. Но годовые заборы товаров из этих магазинов некоторыми барскими домами выходили на несколько десятков тысячь. Так, известный богач, граф Б-ский, чтобы рассчитаться с английским магазином, должен был отдать свой дом в уплату долга. Самыми модными магазинами также были „Нюрнбергские лавки", слава которых гремела по всей России. Здесь было все, от булавки до дорогой ткани; помещались oни на Невском, в доме католической церкви.
Зимой строили ледяные горы и учреждались парадные катанья в санях; дамы сидели с кавалерами в бархатных шубах с соболями или в атласных с золотыми бранденбургами. Лошади были под фартуками, украшались перьями, и араб, или егерь, позади держал зажженный факел. Такой щегольской поезд тянулся цугом и заезжал к знакомым, где пили чай, ужинали и т. д.
Ледяные горы во время масленицы в Петербурге строили обыкновенно на Охте, на Крестовском острове и на Неве, перед дворцом. Ледяные горы делали до восьми и более сажень в вышину. Простой народ катался с них на лубках, ледянках и на санях.
Такие же горы устраивались и на дворах наших богатых бар, где дамы в собольих шубках неслись с горной зеркальной поверхности и составляли кадрили и экосезы с кавалерами.
|
Моды в России въ 1779 году.
С рисунка, приложенного к журналу „Модное ежемесячное сочинение", изд. 1779 г. |
Вокруг невских гор строились сараи, в которых показывали разных животных, давалась кукольная комедия, китайские тени, плясали на канате и т. д. Поездки на Крестовский остров, в Красный Кабачок, составлялись целым обществом. Сама императрица нередко принимала участие в таких забавах и ездила в больших санях, к которым для свиты привязывали еще попарно 14 или 16 маленьких санок. В большие сани закладывали двенадцать прекрасных лошадей, великолепно убранных; вечером у каждых санок зажигали разноцветные фонари; зрелище выходило великолепное.
Как горы зимой, так летом качели привлекали толпы народа. Качели строились к Святой неделе и оставались все лето. Ставили их на Исаакиевской площади, и они были: круглые, маховые, подвесные, росписные, и украшены разными изображениями и флагами. У качелей воздвигались также деревянные горы, с которых спускались по покатым желобам на маленьких колясках. Горы эти вошли в употребление с того времени, когда императрица приказала выстроить в Ораненбауме две горы, одну против другой, и так искусно, что, спускаясь с одной, подымаешься нечувствительно на другую.
Вокруг качелей разбивались шатры для продажи крепких напитков, разносчики на каждом шагу предлагали лакомства, закуски; фокусники на балконах и паяцы дурачились, выделывая штуки; музыка и песни гремели со всех сторон.
Если же где случалась драка или шум, то, по приказу императрицы, ссорящихся обливали водой из пожарных труб. Кругом качелей прогуливалось в пышных, великолепных костюмах все, что ни есть богатого и знатного в столице. В последние дни праздника обыкновенно императорская фамилия посещала гулянье.
В двадцатых годах, в субботу, здесь насчитывалось более четырех тысячь карет. Число это по тому времени казалось почти невероятным, если взять во внимание, что в царствование Анны Иоанновны в целом Петербурге число карет едва доходило до ста штук.
На бульваре и тротуаре вдоль Исаакиевской площади толпились жители среднего класса и любовались на проезжающих на четверках вороных, в экипажах Иохима, лучшего каретника в Петербурге. Здесь же в стройных, пестрых рядах стояли купцы и мещане с женами и детьми в богатых национальных одеждах.
Самые прихотливые наряды и уборы перешли к нам в конце прошлого столетия. В эти года понемногу начала у нас ослабевать привязанность к национальной одежде; в особенности женщины поспешили следовать моде, избравшей своим местопребыванием Париж. Приход этой капризной богини в то время бывали до того безумны и несообразны, что просто удивительно, как находились несчастные, готовые испытывать добровольную пытку и уродовать себя. Сколько жалоб и преследования претерпели наши прабабушки и со стороны печати. Вместе с появлением модных ежемесячных журналов в роде „Библиотеки Дамского Туалета", „Магазина Английских, Французских и Немецких Мод“, явились и сатирические сочинения, цель которых, как гласила публикация в „Московских Ведомостях“ 1791 года, „состояла в том, дабы предъявить вред, причиняемый модой, роскошью и вертопрашеством и прочими пороками, которые видны во многих сценах нынешней жизни. К таким, нелишенным дозы остроумия, книгам принадлежала изданная в Москве, в 1791 году, „Переписка моды“, содержащая письма безруких мод, размышления неодушевленных нарядов, бессловесных чепцов, чувствования мебели, карет, записных книжек, пуговиц, старозаветных манек, кунташей, шлафоров, телогрей и проч. Книга вышла без имени автора, но из предисловия видно, что она принадлежит издателю „Сатирического Вестника", следовательно одному из известнейших наших прежних литературных деятелей — П. И. Страхову. В своем предисловии последний говорит: „С тех пор, как правда или, по-ученому, истина сделалась неприятнее для глаз едкого дыма, то она должна, чтобы не быть узнанной, являться в свет не иначе, как инкогнито, или в платье навыворот. Многие из авторов заставляли мыслить и философствовать чертей и духов, а иные и зверей, то для чего бы и нам не заставить чувствовать знаменитые и особенно модные платья, уборы и вещи". Моду автор представляет такой сильной властительницей и особой, к покровительству которой прибегают все люди. В конце он выражает желание, чтобы все те, которые здесь по необходимости названы и наряжены смешным образом, могли бы хотя несколько научить юношество любить истину в настоящем ее виде, открыть глаза и убедить их во вреде, причиняемом модами, роскошью, вертопрашеством и другими пороками, которые являются повсюду в современном обществе.
Книга начинается письмами „Моды" к „Непостоянству"; затем идут различные просьбы от разных старинных головных уборов, в роде: кокошника с перепелами, собольей бархатной шапочки корабликомъ, рогатой шапки, от колпаком шапки, чепца бармотика, нахтыш-чепца, от кривого чепца с шишкой и т. д. Приводим ответ письма моды к старинным модам: „Mesdames! Ваша бономи и семплисите заставили меня так смеяться, что я едва от того не лопнула. Фуй! фуй! Как вы меня уморили! Сюр-мон-онер, вы, видно, презабавные твари! Одни ваши имена: кокошник с перепелами... шапочка корабликом... рогатая шапка-чепец бармотик... Косой с шишкой... Ну! Совершенно я интересуюсь вас видеть и узнать персонально. Определить в подлинный свой штат я вас не могу, ибо ныне вместо кокошника с перепелами на головах прекрасного пола находятся целые страусы. Старинные женские головы, может быть, любили плавать, и потому нужны были шапочки корабликами, но нынешние головы имеют единственным своим основанием воздушную стихию, и потому любят ветренность и парение по воздуху. Рогатая шапка также не может быть употребляема, ибо ныне на мужских лбах рога только терпимы", и т. д. Интересно также прошение „Карточной игры", чтобы повысить следующие денежные игры: банк, рест, квинтич, вент-эн, кучки, юрдонь, гора, макао, и ввести во всеобщее употребление новые игры: штос, три-и-три, рокамболь, и затем переместить в службу солидных людей карточные игры: ломбер, вист, пикет, тентере, а-ла-муш, и уволить в уезды и деревни следующие: панфил, тресет, басет, шнип-шнап-шнур, марьяж, дурачки с пар, дурачки в навалку, дурачки во все карты, ероши или хрюшки, три листка и семь листов; а игры в „носки" и „никитишны" отпустит в чистую отставку. Далее идут письма: от женского башмачка стерлядкой к ботину, от шляпы а-ла-шарлот — к шляпе а-лондросман и шляпке корнету. В письмах „от бюро к комоду" и „от комода к бюро" описывается „жизнь" молодого вертопраха, „бездарного писца", т. е. литератора, „прелестницы" и „корыстолюбивого судьи". В этих письмах автор доказывает, что люди бывают сами причиной своих заблуждений и пороков; он говорит, что „вертопрашество", „торговые дарования", умножение прелестниц и корыстолюбивых судей обязано происхождением своим любви к деньгам, необходимым для поддержания роскоши, сообразующейся с законами моды.
|
Моды в России в 1791 году.
С рисунка, приложенного к журналу „Магазин Английских, Французских и Немецких новых мод“, изд. 1791 г. |
Непомерная роскошь в семисотых годах настолько была сильна, что императрица Екатерина II вынуждена была издать манифест, с постановлением, как должно было ездить каждому. Двум первым классам определялось ездить цугом с двумя вершниками; 3, 4, 5 классам — только цугом; 6, 7 и 8 классам — четверней; обер-офицерам — парой; не имеющим офицерских чинов — верхом, в одноколке или в санях в одну лошадь. Ливреи по указу также были разные: лакеи двух первых классов имели басоны по швам; 3, 4, 5 классов — по борту; 6-го — на воротниках, обшлагах и по камзолам; 7 и 8 классов — только на воротниках и обшлагах; обер-офицерам — ничем не обкладывать. Купцам запрещены были кареты с золотыми и серебряными украшениями; допускались кареты, одноколки и сани, просто выкрашенные под лак. Отступления от этих форм наказывались штрафами. Позже в своих записках рассказывает, что придворный ювелир Дюваль не следовал этому правилу и ездил по городу на трех лошадях. Генерал-полицеймейстер Чичерин объявил сенату, что на доклад его словесный, какой штраф положить поведено будет золотых дел мастеру Дювалю, что ездит не по званию его, ее императорское величество высочайше изустно повелеть соизволила, как оный присвоил себе из чужого права, тоесть штаб-офицерскую впряжку лишней лошади, то и взыскать с него штрафу три доли из оклада, подлежащего ко взысканию, а четвертой доли не взыскивать, потому что не все полное право присвоил.
На экипажи в то время не обращали большого внимания, только бы лошади были запряжены, да колеса вертелись, одно выше другого на пол-аршина, хомуты из ремешков, веревок; на козлах, по болезни кучера, сидел иногда и повар с щетинистой бородой, в нагольном тулупе; назади портной, в ливрее из солдатского сукна, в картузе, с платочком на шее.
Люди богатые ездили четверкой и шестеркой; в наше время не увидишь кареты шестеркой, кроме разве в какой-нибудь процессии. Такая езда в старину, кроме приписываемой страсти к пышности, на самом деле была только следствием весьма неприятной необходимости. В те времена ездили шестерней, потому что с меньшим числом лошадей можно было увязнуть в грязи; часто и шести лошадей было недостаточно; лошади, взятые по большей части из-под сохи у крестьянина, не могли предохранить семейной колымаги от увязания в грязи.
На гуляньях смесь разных берлинов, рыдванов, колымаг поражала зрителя; в то время еще не знали рессор, и кареты делали на пазах. Самая лучшая такая карета стоила не дороже ста рублей.
Около шестидесятых годов прошедшего столетия, стал входить костюм a la francaise у всех наших бар в большую моду. Он делался из разных материй: из бархата, плиса и шелковой материи; при нем всегда носили шпагу, которая прицеплялась так, что приподымала талию и торчала концом кверху. Камзолы, шитые золотом и шелками, были почти всегда голубого, малинового, коричневого и зеленого цветов; темных цветов не носили. Придворный и бальный наряд был следующие: цветной кафтан, штаны белые, атласные или гроденаплевые, иногда черные, застегнутые ниже колена пряжками серебряными, а иногда и с дорогими каменьями; камзол шитый золотом, блестками или шелками, иногда из глазета, бархата; волосы причесаны и напудрены, — последняя операция для франта того времени обходилась не менее двух, трех часов в сутки. Битых два часа ему припекали волосы разного рода щипцами, чтобы они держались à ľ oiseau royal или à la grecque. Потом страдалец прятал лицо в бумажную маску, чтобы не задохнуться в облаках надушенной пудры, носившихся около него; позднее стали волосы прятать в мешок (bourse); перчатки шелковые; часы с короткой цепочкой, на которой привешаны одна или две печати; белье тонкое, манжеты шитые или кружевные; знатные носили их из богатейшего кружева, продававшегося по баснословной цене; у Пл. Зубова кружева стоили более 30000 рублей; галстук белый батистовый, накрахмаленный, повязанный невысоко; носили и деланные галстуки; после французской революции галстуки совсем исчезли из употребления; считалось более красивым носить шею и часть груди открытыми, но они вскоре у нас снова вошли в моду и их начали делать самых больших размеров, так что голова почти уходила в них. Чулки носили шелковые, белые и полосатые, башмаки с пряжками серебряными, иногда осыпанными стразами. Позднее вместо камзола стали носить жилеты; точно также и прическа стала меняться: некоторые носили букли и косы, другие стригли коротко волосы и оставляли косу. Такую стрижку волос называли а-ла-вьерж (à lа vierge).
После французской революции ввелись в моду жабо выше подбородка, остриженные головы à la Titus, à la guillotine, лорнеты и коротенькие косы flambeau d’amour. Императрице Екатерине тaкиe франты очень не нравились. Она приказала Чичерину нарядить всех будочников в их наряд и дать им в руки лорнеты. Франты после того быстро исчезли. К описанному наряду необходима была и треугольная шляпа, которую носили прежде под мышкой, чтобы не смять волос. В 1785 году, явилась голландская и цилиндрическая англо-американская шляпа. И тогда только додумались, что шляпа существует для того, чтобы носить ее на голове; в это же время стали носить двое часов на длиннейших цепочках, которые болтались по ногам, и вместе с этой модой между мужским и женским костюмом водворяется странное смешение: женщины носят камзолы, жилеты, жабо, мужские рубашки, за то мужчины начинают носить муфты. В руках щеголя того времени непременно должна была быть соболья или сделанная из длинной шерсти украинских овец белая муфта, называемая „манька“. Эти муфты составляли необходимую принадлежность во время прогулок пешком, и всякие, имея их в руке, входил даже в гостиные. Зимнее верхнее платье были шубы, почти такие же, как нынче, только с той разницей, что их крыли иногда шелковой мaтepиeй, а иногда китайкой, и опушали бобром. Чиновники носили, кроме шуб, „киреи“ и „винчуры". Киреи крыли бархатом, казимиром и плисом; их делали с небольшим меховым воротником и с рукавами. Винчуры носили богатые баре, потому что они делались из дорогих мехов; особенно славились драгоценные меха волков туруханских. У графа А. М. Мамонова была такая шуба, стоящая ему 15000 рублей. Шапки носили зимой с бобровыми околышками, шириной вершков в пять, крытые бархатом и с большой шелковой кистью; чиновники носили бобровые и собольи картузы. Сапоги употребляли козловые; лакированные появились только в 1800 году.
|
Дамские моды 1789 года. |
С воцарением императора Павла I появились гонения и указы против французских мод. В 1797 году, указом наистрожайше подтверждено, чтобы никто в городе, кроме треугольных шляп и обыкновенных круглых шапок, никаких других не носили; затем позднее воспрещалось с подпиской всем, в городе находящимся, ношение фраков, жилетов, башмаков с лентами, а также не увертывать шеи безмерно платками, галстуками или косынками, а повязывать ее приличным образом, без излишней толстоты. В 1800 году, было обязательно для всех жителей Российской империи, как состоявших на службе, так и бывших в отставке с каким-бы то нибыло мундиром, военным, морским или гражданским, носить длиннополый прусской формы мундир, ботфорты, крагены, шпагу на пояснице, шпоры с колесцами, трость почти в сажень, шляпу с широкими галунами и напудренный парик с длинной косой.
По выражению Державина, в это время зашумели шпоры, ботфорты, тесаки, и будто по завоеванию города ворвались в покои везде военные люди с великим шумом.
С воцарением императора Александра мгновенно все изменилось.
Булгарин рассказывает: „Откуда-то вдруг явилось у всех платье нового французского покроя „а
l’incroyable", представлявшее собой резкую и даже до каррикатурьг преувеличенную реакцию прежней ощипанной, кургузой прусской формы. В прическе франтов появились какие-то неведомые „oreilles de cliien“, „эсперансы" и, к невыразимому ужасу павловских блюстителей благочиния, первые модники вместо форменной трости вооружились, по парижской республиканской картинке, сучковатыми дубинами с внушительным названием: „droit de ľhomme“.Интересно, что первым таким франтом на петербургских улицах появился в такой отчаянно-вольнодумной форме и с такой либеральной палкой в руках известный в истории просвещения М. Л. Магницкий.
Taкиe „невероятные“ львы тогда назывались „петиметрами"; они щеголяли также в шляпах à la Robinson, в чрезвычайно узких брюках с узорами по бантам, в сапогах à la husard. Портных в Петербурге иностранных было только два, а самая дорогая фрачная пюсовая пара, из лучшего английского сукна, и панталоны, с узорами по бантам à la husard стоили 30 рублей, что считалось весьма дорого. Мужские наряды в это время стали делать из разноцветных сукон, а также в парадных случаях надевались бархатные фраки с металлическими и перламутровыми пуговицами, при панталонах из кашемира или шелкового трико, но всегда не одного цвета с фраком, надеваемых под сапоги в виде ботфорт, с желтыми иногда отворотами по утрам, но без них после обеда. Черный галстук не существовал при фраке, а был в употреблении белый, или атласный, или батистовый, с батистовой рубашкой, манжетами и накрахмаленными брызжами; позже стали носить черные атласные галстуки с бриллиантовыми булавками, и это называлось американской модой. В это же время стали появляться изредка нынешние брюки сверх сапогов со штрипками; называли их тогда „Веллингтонами"; первый их ввел в Петербурге известный герцог Веллингтон, генералиссимус союзных держав и российский фельдмаршал пожалованный императором Александром I в самый день Ватерлооского сражения. Этот же герцог также ввел в Петербурге в моду свой узкий, длинный черный плащ без рукавов, плотно застегнутый, в котором он каждое утро прогуливался по Адмиралтейскому бульвару. Такой плащ назывался в то время воротником (cols).В это время входит в моду и другой еще плащ „
à lа Bulivar“, самый старинный; его носили чуть ли не римляне; им можно было обвертывать себя три раза вокруг тела; вместе с ним стали входить в моду сапоги со шпорами и усы, а также шляпы „à la Bolivar“, поля которой так были широки, что невозможно было пройти в узкую дверь, не обнажая своей головы.
|
Франт 1790 года. |
Франт 1792 года. |
Что касается до женской одежды и нарядов, бывших в употреблении сто лет назад, то разных кофт и шушунов в то время не носили. Самым нарядным женским платьем были „фуро" и „роброны". Мода эта держалась весьма долго, но в фасоне фуро были перемены; иногда обшивали его блондами, накладками из флера или дымкой, а также серебряной и золотой бахрамой, смотря по тому, какая лучше подходила к материи. Лиф старинных фуро был очень длинный и весь в китовых усах; рукава были до локтя и обшитые блондами, перед распашной, юбка из той же материи, из которой фуро; чтобы платье казалось полнее, надевали фижмы из китовых усов и еще стеганные юбки. В 1793 году, были в моде платья, которые назывались „молдаванами" (любимый наряд императрицы Екатерины II-й); носили также еще сюртучки, лиф у которых был не очень длинный, рукава в обтяжку, юбка к ним была из другой материи; если сюртучек атласный, то юбка флеровая, на тафте. К сюртучку надевали камзольчик, глазетовый или другой, только из дорогой материи; у сюртучков и фуро были длинные шлейфы. Уменье грациозно управлять длинным шлейфом считалось признаком аристократичным. В это же время появляется „corps" — ужасная машина, сжимающая женщину до того, что она превращается в статую; скоро „corps" изгоняется корсетом, фижмы также перестают носить, а заменили их des „bouffantes", которые делались из волосяной материи; кроме того, чтобы сделать платье пышнее, употреблялось проклеенное полотно, называемое „lа criarde". Эта ткань шумела страшным образом при малейшем движении. Модные цвета носили названия: цвет заглушенного вздоха (soupir étouffé), совершенной невинности (candeur parfaite), сладкой улыбки (doux sourire), нескромной жалобы (plainte indiscréte) и т. д.
Ко двору надевали робы, вышитые золотомъ, каменьями, шелкомъ, съ глазетовыми юбками, съ длиннымъ, аршина въ полтора, хвостомъ или русскими рукавчиками назади.
Прическа волос много раз изменялась; была низкая и высокая, посередине головы делали большую квадратную буклю; будто батарея, от нее шли по сторонам косые крупные букли, назади шиньон; всякая такая прическа была не менее полуаршина вышины и называлась „lе chien couchant“; накладывали на голову также в роде берета убор с цветами и страусовыми перьями; его называли „тюрбан“ и „шарлотта“.
Пудру употребляли всевозможных цветов: серенькую, белую, палевую. Щеголиха одевала „пудер-мантель“ и держала длинную маску со стеклышками из слюды против глаз, парикмахер пудрил дульцем. Богатые имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились; щеголиха влезала в него, затворяла дверцы, и пыль нежно опускалась на голову. Фижмы, обшитые обручи, по аршину с боков, сжимали одетую даму; издали таких барынь легко было принять за бочку или шлюпку с парусами. Смешно было видеть таких двух франтих в большом четырехместном берлине. Они корчились, прическа возносилась до импepиaлa, а огромные фижмы торчали из окон кареты.
Искусство разрисовывать себе лицо было доведено до невероятности: даме неприлично было являться в обществе не нарумянившись; мало того, надобно было раскрашиваться до того, чтобы природные черты лица совершенно скрывались под прикрасами. Иногда, как рассказывают современники, дамы сурмили брови так неловко, что одна бровь была толще, выше или ниже другой.
|
Моды 1797 года. |
Налепляли тафтяные мушки, начиная от величины гривенника до маленькой блестки. Эти мушки размножались до бесчисленности; вырезывать их и размещать по лицу было хитрым искусством. Они имели разные имена, смотря по своей фигуре и по той части лица, на которую налеплялись; мушка, обыкновенно вырезанная звездочкой, на середине лба, называлась величественной, на виске, у самаго глаза — страстной, на носу — наглой, на верхней губе — кокетливой, у праваго глаза — тиран, крошечная на подбородке — „люблю, да не вижу", на щеке — согласие, под носом — разлука.
Модница того времени не выезжала в общество без коробочки с мушками, на крышке которой было маленькое зеркальце, при помощи которого она налепляла новые мушки сообразно с обстоятельствами, потому что мушки давали возможность говорить молча.
Перчатки носили шелковые, длинные до локтя при коротких рукавах и короткие — при длинных. Чулки для выезда были шелковые, башмаки — матерчатые, или шитые золотом, или из парчи, каблуки высокие — до 3 вершков. Узоры на передней половине башмаков назывались „вероломством" (coups perfides), на задней „venez у voir“.
Также у прекрасного пола существовала мода нюхать табак; даже 16-летние красавицы нюхали его; табакерки юных красавиц носили поэтическое название: „кибиточки любовной почты “. Название таких табакерок произошло от обычая волокит класть во время нюхания любовных посланий.
Вигель в своих записках очень характерно описывает франта того времени; по словам его, в пятьдесят лет он румянился, сурмил брови, чернил себе волосы и, следуя рабски моде, носил двое часов, или, по крайней мере, от них две цепочки, томпаковые и семилоровые с брелоками, которые длинно висели из жилетных его карманов и которыми он побрякивал; табакерки из яшмы, перстни бирюзовые, аметистовые, покрывали его пальцы, и, наконец, две цепочки из разных камешков поверх жилета носил он крестообразно. Всего же примечательнее в его туалете был огромный лалл, который при важных оказиях в виде застежки являлся у него на груди.
|
Моды 1797 года. |
Необходимыми в туалете дамы также были блошные ловушки, которые модницами носились на ленте, на груди. Делались они из слоновой кости или серебра. Это были небольшие трубочки со множеством дырочек снизу глухих и вверху открытых. Внутрь их ввертывался стволик, намазанный медом или другой липкой жидкостью.
Жемчуг употреблялся при нарядном платье; считалось за стыд показаться в собрании без жемчуга на шее. Называли жемчуг „перло". Бриллианты были исключительно принадлежностью высшего круга общества. Самые модные духи были для богатых „усладительные", т. е. розовое масло и душистая цедра.
Теплая одежда была тоже разнообразна: „шубка длинный рукав“, у которой один рукав был обыкновенной длины, а другой висел до полу. Шубы эти надевали в парадных случаях. Затем была эпанча разных фасонов, салопы, польки, мантильи, шельмовка, душегрей, шамлук, кантус. Материи модные были: петинет, штоф, изарбат, белокос, грезет, транцепель, капфа, тафта, свистун, счир, камка и голевая камка.
В одно время все эти хитрые наряды заменяли простые: ниглиже, полунеглиже и дезабилье. С появлением в 1811 году кометы все делалось
à la comète: сапоги, шляпки, экипажи, платье, ленты, мебель. В следующем году пошли цвета à la Deghen (имя воздухоплавателя, который изумлял в то время весь Париж). В последние годы империи, кроме le bleu de Marie-Louise, не было другого цвета. До этого излюбленного всеми цвета, искусство наряжаться состояло в том, чтобы наряжаться пестро: и дамы являлись в красных шалях, зеленом платье, в розовых шляпках и серых ботинках. Пробовали англичанки в то время ввести зеленые вуали, от которых падает на лицо такой отсвет, что всякая краса лица кажется безобразной, — и зеленый вуаль потерпел полное поражение. В это время стали оставлять пудреные прически и фижмы. Волоса убирали мелкими буклями, прикалывая к ним цветы, пунцовые ленты, жемчуг, склаважи, золотые цепочки. Явились платья вырезные, рукава короткие в обтяжку, длинные шелковые перчатки без пальцев, башмаки с длинными носками опять „ стерлядкой", как в старину.
