Всё, что есть у меня - Ваше

Глава XIV
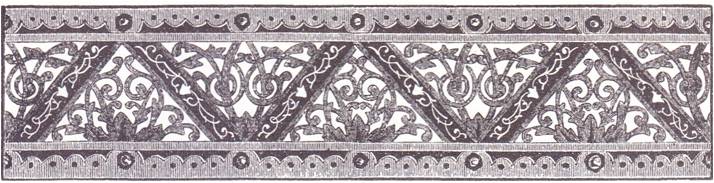
 ЕРВЫЕ торговые ряды
в Петербурге были построены в 1705 году, на Петербургской стороне, вблизи домика
Петра Великого, где теперь стоят дома церковно-служителей Петропавловского
собора; по словам первой монографии о Петербурге, отпечатанной в 1713 году в
Лейпциге, ряды заключали в себе несколько сотен грубо обтесанных брусчатых лавок
без окон и печей. Эти лавки, в ночь на 28-е июля 1710 года, сгорели дотла. На
пожаре не обошлось без крупного грабежа. Чтобы наказать грабителей, вскоре по
углам площади, занятой до пожара лавками, были построены четыре виселицы, на
которых повесили по жребию четверых из числа двенадцати человек, принадлежащих
частью к гарнизону и уличенных в воровстве. После пожара 1710 года, мелочные
торгаши воспользовались уцелевшими брусьями и досками и сколотили из них против
Кронверка, в два ряда, шалаши. Это был первый в Петербурге толкучий рынок,
который народ называл „татарским табором". Воспоминание о нем до сих пор
сохранилось в названии одного переулка „Татарского", примыкающего к описываемой
местности. По словам другого описания Петербурга, изданного в 1718 году во
Франкфурте, около этих шалашей толпилось всегда множество народа, отчего была
такая теснота, что проходившие там должны были зорко смотреть за своими
кошельками, шпагами, даже самыми шляпами и париками; все это, чтобы сохранить в
целости, необходимо было носить в руках. Неизвестный автор рассказывает:
„Однажды, гвардейский полковник с женой, проходя по рынку, не приняли нужных
предосторожностей, почему и возвратились домой — один без шляпы и парика, а жена
без фонтанжа. Это приключение с ними случилось в рынке весьма просто: какой-то
человек верхом на малорослой татарской лошаденке, проезжая мимо помянутых лиц,
стащил их головные уборы особенного устройства вилами. Толпа, видя это, смеялась
и отпускала остроты, но никто не оказал содействия к возвращению похищенного, и
все продолжали идти своей дорогой". Вблизи этого рынка в то время совершались
казни, и выставлялись на каменном столбе и железных спицах тела казненных. Здесь
видел Бергхольц, рядом с четырьмя другими головами, голову брата прежней царицы,
урожденной Лопухиной, и голову сибирского воеводы, князя Гагарина, тело
последнего было повешено уже в третий раз. Лицо казненного было закрыто платком,
одежда его состояла из камзола, сверх которого была надета белая рубашка. Тела
казненных отдавались спустя некоторое время родственникам для погребения, головы
же долгое время оставались на площади. На этой же площади прогуливались и
выделывали разные фокусы маски на уличных маскарадах, длившихся иногда целые
недели. Эта-же площадь была свидетельницей разных торжеств по случаю побед над
неприятелями.
ЕРВЫЕ торговые ряды
в Петербурге были построены в 1705 году, на Петербургской стороне, вблизи домика
Петра Великого, где теперь стоят дома церковно-служителей Петропавловского
собора; по словам первой монографии о Петербурге, отпечатанной в 1713 году в
Лейпциге, ряды заключали в себе несколько сотен грубо обтесанных брусчатых лавок
без окон и печей. Эти лавки, в ночь на 28-е июля 1710 года, сгорели дотла. На
пожаре не обошлось без крупного грабежа. Чтобы наказать грабителей, вскоре по
углам площади, занятой до пожара лавками, были построены четыре виселицы, на
которых повесили по жребию четверых из числа двенадцати человек, принадлежащих
частью к гарнизону и уличенных в воровстве. После пожара 1710 года, мелочные
торгаши воспользовались уцелевшими брусьями и досками и сколотили из них против
Кронверка, в два ряда, шалаши. Это был первый в Петербурге толкучий рынок,
который народ называл „татарским табором". Воспоминание о нем до сих пор
сохранилось в названии одного переулка „Татарского", примыкающего к описываемой
местности. По словам другого описания Петербурга, изданного в 1718 году во
Франкфурте, около этих шалашей толпилось всегда множество народа, отчего была
такая теснота, что проходившие там должны были зорко смотреть за своими
кошельками, шпагами, даже самыми шляпами и париками; все это, чтобы сохранить в
целости, необходимо было носить в руках. Неизвестный автор рассказывает:
„Однажды, гвардейский полковник с женой, проходя по рынку, не приняли нужных
предосторожностей, почему и возвратились домой — один без шляпы и парика, а жена
без фонтанжа. Это приключение с ними случилось в рынке весьма просто: какой-то
человек верхом на малорослой татарской лошаденке, проезжая мимо помянутых лиц,
стащил их головные уборы особенного устройства вилами. Толпа, видя это, смеялась
и отпускала остроты, но никто не оказал содействия к возвращению похищенного, и
все продолжали идти своей дорогой". Вблизи этого рынка в то время совершались
казни, и выставлялись на каменном столбе и железных спицах тела казненных. Здесь
видел Бергхольц, рядом с четырьмя другими головами, голову брата прежней царицы,
урожденной Лопухиной, и голову сибирского воеводы, князя Гагарина, тело
последнего было повешено уже в третий раз. Лицо казненного было закрыто платком,
одежда его состояла из камзола, сверх которого была надета белая рубашка. Тела
казненных отдавались спустя некоторое время родственникам для погребения, головы
же долгое время оставались на площади. На этой же площади прогуливались и
выделывали разные фокусы маски на уличных маскарадах, длившихся иногда целые
недели. Эта-же площадь была свидетельницей разных торжеств по случаю побед над
неприятелями.
|
Гостиный двор в начале прошлого столетия. С гравюры 1716 года. |
В 1713 году, построен был другой гостиный двор, называвшийся долго „новым". Он стоял на той же площади, шагах в двухстах выше прежнего. Новый гостиный двор был обширное мазанковое строение в два яруса, крытое черепицей, и с большим двором внутри, который пересекался поперек каналом. Во всю длину здание было перегорожено стеной надвое, так что лавки выходили двойные — одни на площадь, другие-же на внутренний двор. В этом-то гостином дворе помещалась первая книжная лавка в Петербурге; в ней продавались: печатные указы, азбуки учебные (шесть денег каждая), „считание удобное", т. е. таблица умножения (по 5-ти алтын), затем из гравюр: портреты „персоны", т. е. царя, Шереметева, виды монастырей, Москвы и т. д. Бойче всех книг, в тогдашнее время, здесь шел календарь Брюса; публика особенно ценила его за предсказания. Вовсе не покупались и лежали в лавке книги: „Разговоры на голландском и русском языках“, затем множество еще других печатных изданий. Как мало дорожили тогда книгами, об этом есть множество свидетельств: так, в конторе московской синодальной типографии накопилось такое множество напечатанных при Петре Великом книг, не находивших покупателей, что в 1752 году их приказано сжечь. О равнодушии тогдашнего общества к книгам ярким примером является также и указ 1750 года (см. „Полн. собр. зак.“, т. XIII, № 9,794), в котором говорится: „что в синоде беспрекословно было представлено для истребления множество книг и карт, которых представлять вовсе не следовало". Книги эти были после свезены в „де-сианс академию". Позднее, впрочем, в русском обществе, особенно в провинции, явилась страсть хвастаться книжками, и нередко сельские библиотеки наших бар состояли из тысяч томов, выточенных из дерева. Вся эта деревянная мудрость стояла в роскошных- шкафах, с блестящей сафьянной накладкой на корешках, и с надписью: Racine, Voltaire, Encyclopedic и т. д. В это время в быту дворянском книги составляли последнюю вещь из всех вещей. Орловский или тульский помещик говаривал, что оследит русака не то, что прочесть книгу. Книгу может прочесть всякий, а петли русачьи по выбору бредут на разум; пороша дело, а книгу читаешь от безделья. С почтенными помещиками думали тогда более или менее все одинаково.
Книжная лавка, о которой мы говорили, была единственная в Петербурге до 1760 года; она управлялась фактором. Вторая книжная лавка была открыта г. Вейтбрехтом, носила она название „Императорской книжной лавки“. Затем уже с 1785 по 1793 год, открылось около десяти новых книжных магазинов: гг. Клостермана, Еверса, братьевъ Гей, Миллера, Роспини, Логана и Герстенберга, затем Ив. Глазунова, Тимофея Полежаева, Bacилия Сопикова и Василия Алексеевича Плавильщикова. Из всех книгопродавцов того времени, имя Плавильщикова отличается наибольшими заслугами в области просвещения. Ему принадлежит слава основателя первой русской библиoтeки для чтения: до него книги для чтения можно было получать от книгопродавцов не по выбору читателей, а по воле последних, которые и выдавали книги испорченные или старые. В. А. Плавилыциков1 прибыл из Москвы в Петербург в 1788 году; он сперва взял в аренду губернскую и после театральную типографию, и затем открыли первую книжную торговлю в Гостином дворе, в лавке под № 27-м. По словам современников, его магазин представлял „тихий кабинет муз, где собирались ученые и литераторы делать справки, выписки и совещания, а не рассказывать оскорбительные анекдоты и читать на отсутствующих эпиграммы и сатиры". Все почти литераторы безденежно пользовались его библиотекой, даже и после его смерти (1823 г., 14-го августа), по духовному завещанию.
|
Уличный продавец цветов в Петербурге в конце прошлого столетия. С гравюры того времени Шенберга. |
Открытие первой библиотеки в Петербурге состоялось 15-го сентября 1815 года. Первая же библиотека в смысле книгохранилища была основана Петром во дворце в Летнем саду и затем передана в академию, где с 1728 года (22-го октября) и сделалась доступной для общественного пользования.
В старом здании Гостиного двора помещалась и биржа, которая позднее, в 1725 году, перенесена в особое строение перед Гостиным двором. Вне Гостиного двора никому не дозволялось ни складывать, ни продавать товары. Здание принадлежало царю; для безопасности, у четырех углов и при воротах Гостиного двора стоял солдатский караул. Этот Гостиный двор существовал до 1735 года, потом в нем хранилась полковая амуниция.
Что же касается до места, где теперь стоит Гостиный двор, то сначала здесь, в 1734 году, предполагалось устроить морской рынок, бывший при Петре на Адмиралтейской площади2, но, в 1735 году, купцы, торговавшие в первоначальном Гостином дворе, на Петербургской стороне, просили, по случаю ветхости здания, отвести им места „на новоотведенном, вместо морского рынка, месте от Большой и другой перспективных дорог на 180 лавок земли, длиннику по обе стороны по 130 сажень, поперечник от новой перспективы 107 сажень, а в заднем конце, что явится по мере“.
4-го июля 1735 года, позволение было дано. Место в указе определялось так: „от Адмиралтейства к Невскому монастырю, по правую сторону перспективной дороги, в ширину от первых шпренделей до двора Антона Девьера, а в длину от Девьерова двора прорубленной перспективной дорогой к церкви Вознесения Господня до переулка, который мимо Апраксина двора". Гостиный двор построен был „коштом" всего купечества для того, как говорит Н. Богданов (см. „Историч. географ. опис. Петербурга", Спб., 1779 г.), что бывший каменный Гостиный двор на Мойке, у Зеленого моста (Полицейского), от пожара, в 1735 году, сгорел и, за неисправностью в скором времени от казны выстроиться не мог. По словам Георги (см. „Описание С.-Петербурга 1794 года"), каменный Гостиный двор существующего вида был начат строением в 1755 году и окончен только в 1785 году3. Он имеет вид косого четыреугольника, длиной около 150 сажень, шириной с одной стороны в 100 и с другой — около 50 сажен. В каждом его ярусе имеется 170 лавок; он разделен на четыре линии, из которых каждая сохранила свое старинное название, показывающее прежнее назначение рядов. Так, сторона, обращенная к Невскому, называется „Суконной линией", по Садовой — „Зеркальной линией", против Думы — „Большой Суровской линией", а в тыле —„Малой Суровской линией". Под словом „суконной" в старину подразумевался всякий шерстяной товар; под словом „зеркальной" — всякий светлый товар, а „суровским", или, вернее, „сурожским", называли всякий шелковый товар. Эта торговля получила свое название от Сурожского моря; на жаргоне гостинодворцев, продавцы суровскими товарами назывались „сурогами". Против большой Суровской линии, через улицу, впоследствии был построен „Бабий ряд“, или „Перинная линия“; здесь до сороковых годов торговлей занимались одни женщины.
|
Торговцы лубочными картинами и стальными изделиями в Екатерининское время. С офорта прошлого стоетия Гейслера. |
За Бабьим рядом, с боку, был выстроен, в 1800 году, купцом Нащокиным „Мебельный ряд“ и напротив его вытянулась „Банковская линия“, или по-старинному, „Глазуновские лавки“, в которых засели менялы. Далее, по Садовой, в 1791 году, после постройки ассигнационного банка, был сооружен „Москотильный ряд“. Москотильным товаром в русской торговле называются краски, пряные коренья и аптекарские материалы. Это имя тоже очень древнее и перешло к нам от арабов, торговавших в Болгарах и Атели (нынешней Астрахани) этим товаром, получаемым из города Москота, или Муската.
Участок земли, пространством более 20000 квадратных сажень, окаймленный с одной поперечной стороны Большой Садовой улицей, с противоположной — набережной реки Фонтанки, известен, с 1740 года, под именем „торгового Апраксина двора"; это вполне упроченный народный рынок с кустарным товаром.
В 1780 году, в переулке от Большой Садовой улицы, к Фонтанке уже находился „Охотный", или „Птичий ряд“, где уже в то время продавались живые и битые птицы, собаки, кошки, обезьяны, лисицы и другие живые звери; здесь же были ряды: лоскутный, ветошный, шубный, табачный, мыльный, свечной, луковый, седельный, нитяный, холщевый, шапочный и „стригольный ряд", „где фельдшеры сидят для стрижения волос и бород". Рядом с Айраксиным двором был „Щукин двор"; там торговали ягодами и плодами в огромном, гуртовом виде.
В 1787 году, на Невской перспективе, подле Большого Гостиного двора, был выстроен каменный в три этажа дом, где в нижнем ярусе поместились 14 лавок с серебром, жемчугом и драгоценными каменьями.
Эти лавки некогда принадлежали богатому купцу Яковлеву, сын которого служил в министерстве иностранных дел и писал театральные рецензии в „Северной Пчеле". Петербургcкиe старожилы-театралы хорошо помнят его, ходившего в театр всегда в виц-мундире. За строгий разбор бенефиса актера В. А. Каратыгина, по приказанию министра двора кн. П. М. Волконского, он был выведен в водевиле „Горе без ума" в смешном виде и, по словам Каратыгиной4, был узнан всей публикой, громко смеявшейся в сцене, когда отец водевильного рецензента, почтенный богатый купец, торгующий серебряными изделиями, уговаривает сына не позорить его имени и не срамить себя самого статьями, писанными под хмельком
Не разбирай тогда актеров,
Когда тебя поразберет!
Старик оканчивал куплет словами:
Ну, брат, я вижу, ты дурак
Восемьдесят четвертой пробы.
Нападки были несправедливы. Яковлев был известен, как честный критик, талантливый переводчик и остроумнейший человек в обыденной жизни. Ocтpoyмиe его в городе вошло в пословицу; остроты, каламбуры у него так и сыпались. Про него между товарищами сохранилось множество воспоминаний.
По несчастью, Яковлев не мог похвалиться сильным характером и не был расположен оставить некоторых, вечерних привычек молодости, что и свело его в могилу. Он умер 19-го июля 1861 года. По рассказам, он писал свои фельетоны на службе в канцелярии, озаглавив их титулом докладных записок к покойному министру финансов Егору Францовичу Канкрину.
За два года до постройки Гостиного двора был дан купечеству устав о гильдиях. Преимущество гильдии единственно зависело от суммы объявленного капитала в шестигласной думе. Объявивший капитал от одной тысячи до пяти тысяч рублей принадлежал к третьей гильдии и мог отправлять мелочной торг, держать трактиры, бани и т. д.
Внесший капитал от 5-ти до 10000 рублей принадлежал к второй и торговал чем хотел, за исключением держать фабрики и иметь торговлю на судах.
Заявивший капитал от 10000 до 50000 рублей и платящий с этой суммы по одному проценту со ста принадлежал к первой гильдии и мог отправлять иностранную торговлю и иметь заводы и проч. Купцы же, объявившие у себя капитал более 50000 рублей, имевшие свои корабли и производившие вексельные обороты более, чем на 100000 рублей, или два раза избранные заседателями на судах, носили звание „именитого гражданина“. Они могли ездить в город в четыре лошади, иметь загородные дома и сады, также заводы и фабрики, и наравне с дворянством освобождались от телесного наказания.
Особенно богатых купцов в половине XVIII столетия было очень немного. Все рассказы о богатых наших именитых гражданах представляют более вымысла, нежели правды. Богатым в то время был только двор и некоторые царедворцы. При Екатерине II все высшие государственные сановники торговали и пускались в разные спекуляции. По словам Храповицкого, в это время самыми известными винными откупщиками были: князь Ю. В. Долгорукий, князь С. Гагарин и княз Куракин. Трудно было купцам при такой сильной конкуренции наживать капиталы. Богатели только таеие из них, которые участвовали в предприятиях вместе с вельможами.
Одно время, как рассказывает тот же Храповицкий, императрица хотела воспользоваться капиталами купцов, предлагая им за проценты чины и баронский титул. Но этот проект, порученный генерал-прокурору Соймонову, потерпел неудачу.
Известному в то время богачу, петербургскому городскому голове, А. Н. Березину, за постройку первой народной школы в Петербурге, был предложен начальством чин, но Березин отказался.
— Чин взять — пешком носить его тяжело, а надобно возить его в карете; пусть он охотникам достанется, — ответил он.
В конце царствования Екатерины II, купцов-миллионеров уже было гораздо более. Из числа таких славились своими богатствами: Шемякин, Лукин, Походяшин, Логинов, Яковлев, Горохов. Последний в Петербурге был на столько популярен, что заставил жителей забыть название улицы „Адмиралтейской“, на которой жил и торговал, и называть ее „Гороховой", по своей фамилии.
По преданию, он выстроил в 1756 году первый каменный дом в этой местности. Про купца Логинова, откупщика и приятеля князя Потемкина, Державин рассказывает, что он раз, устроив у себя зимой народный праздник, выставил народу такое количество водки, что на другой день полиция подобрала множество мертвых тел. По смерти этого Логинова, долг его в казну простирался до 2000000 рублей.
Другой такой же откупщик, Савва Яковлев, по уличной фамилии Собакин, при вступлении императрицы Екатерины II на престол, стал отказывать народу и не отпускать даром водку против повеления государыни; народ произвел буйство на улицах. Екатерина приказала объявить ему свое неудовольствие. Опала Яковлева стала гласной в столице; народ рассказывал на улицах, что государыня пожаловала ему чугунную пудовую медаль, с приказанием носить на шее по праздникам. Державин на него написал стихотворение „К Скопихину".
Вскоре государыня отправилась в Москву для коронования, следом за ней поехал и Яковлев; на пути Екатерина приметила в одном небольшом селении ветхую деревенскую церковь, грозившую разрушением, и приказала по возвращении своем в Петербург напомнить ей о церкви. Яковлев, узнав об этом, поспешил тотчас же восстановить храм и украсить богатыми вкладами. По окончании коронационных празднеств, государыня, на возвратном пути в Петербург, проезжая это селение, была встречена крестным ходом с колокольным звоном; императрица была удивлена таким быстрым и превосходным возобновлением церкви и пожелала знать виновника.
К крайнему удивленно, ей представлен был Яковлев; Екатерина выразила ему свою признательность, сказав: „Я забываю прошедшее". Прибыв в Петербург, Яковлев покинул все дела по откупам, вступил в гражданскую службу и впоследствии оставил ее с чином коллежского ассесора. Племянник этого Яковлева, Иван Алексеевич Яковлев, отличался тоже крупной благотворительностью; он в чине корнета Конногвардейского полка был один из всех обер-офицеров российской армии, который имел орден св. Владимира на шее; эту генеральскую награду он заслужил за то, что покрыл железом из своих сибирских заводов все казенные строения в Москве, пострадавшие во время исторического пожара 1812 года.
В 1850 году, этот же И. А. Яковлев пожертвовал миллион рублей серебром в инвалидный капитал, растраченный правителем дел Комитета Раненых Политковским. Брат его Савва отличался самодурством мота. Он при содействии безграничного кредита, открытого отцом, успевал проматывать более миллиона рублей в год. Отец его говорил ему: „Савва, будешь у меня кость глодать, как положу тебе в год на прожитье только сто тысяч". Савва служил в Кавалергардском полку и, был одно время ремонтером. По рассказам, он поставлял в полк таких коней, каких никто не ставил. Служил он недолго, пьянство и скандалы заставили его выйти из полка, особенно один крупный скандал в театре ускорил его отставку: он бросил из боковой ложи дохлую кошку в кульке немецкой актрисе Нерейтер. По выходе в отставку, Савва предался самому непробудному пьянству; не находилось между пьяницами человека, который мог бы перепить его. Мотовство и самодурство наконец значительно расшатали его баснословное богатство, он стал занимать деньги под векселя за подписью своего родственника, молодого гвардейского полковника А. И. Угримова, с своим поручительством. Векселей таких выдано было более чем на миллион рублей. Когда же пришло дело к расплате, Савва не признал своей подписи: Угримов был арестован и кончил жизнь самоубийством в тюрьме (подробности этого дела изложены в „Журн. минист. юстиции“ за 1861 год). Неповинная смерть приятеля повлияла на самодура, и он в припадках сплина стал стрелять из пистолета по драгоценными фигурам старого саксонского и севрского фарфора, хранившимся в богатых покоях своего отца. Вскоре он, впрочем, утешился, сойдясь с наездницей из цирка Лежара, Людовикой-Слопачинской. Красавица, впрочем, недолго терпела его самодурства и променяла его на известного тоже богача-красавца Вадковского, который и дал Савве публично в цирке пощечину за какой-то неблаговидный поступок с Слопачинской; Яковлева из цирка привезли в обмороке домой, и так как он непременно желал стреляться с Вадковским, то был подвергнут домашнему аресту. Последний скандал на него подействовал весьма сильно, он предался пьянству еще больше. По рассказам, „серебряный гроб“ уже не сходил с его стола; „гробомъ" он называл кубок, сделанный формой обыкновенного гроба, в который входила бутылка шампанского. Процесс же питья из гроба был следующий: в конце каждой своей попойки он хриплым голосом кричал: „гроб!!!“. В тот же момент слуги вносили ящики с шампанскими, один за ними нес на подносе кубок „гроб“, а другой вносил заряженный пулей пистолет. После них входил дворецкий и называл по имени одного из присутствовавших гостей. Гость вставал и подходил к хозяину; слуга подавал кубок, а хозяин поднимал над головой гостя пистолет, гость должен был выпивать вино до дна и, поцеловав хозяина, отправляться домой, если же гость не мог уже осушить гроб и падал к ногам Саввы, то он приказывал „похоронить мертвого“, что означало положить в спальню на диван. Так угостив всех гостей, хозяин сам выпивал чашу и успокоивался тут же на раздвижном своем стуле. Яковлев кончил жизнь самоубийством: раз прокричав „гроб“ и осушив его до дна, повернул дуло пистолета себе в рот, и прежде чем прислуга и гости успели вскрикнуть, раздался выстрел и Савва, обливаясь кровью, пал никем не оплаканный.
Родной брат покойного, известный под именем „Корнет“, умер от скоротечной чахотки, с мелом в руке, отмечая на стене, ежеминутно, припадки своей болезни (подробности эти берем из книги В. П. Бурнашева: „Чудодеи“ и пр.).
|
Торговка старыми вещами и рекрут Екатерининского времени. С офорта прошлого столетия Гейслера. |
Торговые части Петербурга, где теперь стоят Гостиный и Апраксин дворы, в половине Х
VIII столетия были наполнены топями и болотами, так что в дурную погоду не было возможности ни пройти, ни проехать. Невский проспект, на котором теперь красуется лицевой своей стороной Гостиный двор, получил свое название при императрице Анне (20-го апреля 1738 года); в это время было постановлено: „по коммисскому рассуждению, впредь именовать Большую проспективу, что следует от Адмиралтейства к Невскому монастырю, — Невской проспективой“. Невский проспект был тогда ни что иное, как длинная терявшаяся в отдалении аллея, вымощенная бревнами и обсаженная по обеим сторонам деревьями. Проложили и работали над ней при Петре пленные шведы; на обязанности их было также мести ее каждую субботу. По улицам Петербурга предписывалась величайшая чистота; каждый домовладелец обязан был против своего двора рано утром или вечером, когда по улицам не было ни езды, ни ходьбы, сметать с мостков всякий сор; а камни, которые выламывались в продолжение дня, поправлять.За неисполнение этого правила взыскивался штраф, по две деньги с сажени в ширину его двора. Особенно строго наказывались те, кто вывозил на Неву и другие реки помет и сор. За такие проступки у знатных — их служители, а незнатные домовладельцы самолично, должны были быть биты кнутом и ссылаемы в вечную каторжную работу. Постановлено было, чтобы все торгующие съестными припасами на улицах и в лавках „ходили в белом мундире по указу, а мундиры бы делать по образцу, как в мясном и рыбном рядах у торговых людей". С неисполнителей брали штраф, а товар отбирали „на великого государя".
Было также запрещено: „чтоб никто никакого чину по малой речке Мье и по другим малым речкам и по каналам днем и ночью, на лошадях, в санях и верхом, кроме пеших, отнюдь не ездил, того ради, что от коневого помета засариваются оные речки и каналы". Также замечено было, что извозчики в Петербурге ездили на невзнузданных лошадях и топтали пешеходов, почему было постановлено за первую подобную вину — кошки, за вторую — кнут, за третью — ссылка на каторгу. „Имеющим же охоту, — сказано в указе, — бегать на резвых лошадях в запуски или в заклад, и тем людям такое бегание позволяется чинить, выезжая в Ямскую слободу" и т. д.
Не менее интересно было, в описываемое время, запрещение нищим шататься по улицам и просить милостыню, „понеже в таковых мнoгиe за леностями и молодые, которые в работы и наймы не употребляются, милостыни просят, от которых ничего доброго, кроме воровства, показать не можно"... С подавших милостыню взыскивался штраф в 5 рублей, потому что желающие помогать бедным обязывались делать пожертвования на богоугодные заведения. Многое из вышеписанного недурно было бы принять в соображение и в настоящее время.
В деревянном Гостином дворе, что стоял на месте нынешнего Гостиного двора, торговали на ларях, в шалашах и в разноску. Здесь нередко происходили драки и даже разбои. По рассказам иностранцев, бывших в это время в Петербурге, иногда и проезд по преспективе от тесноты был невозможен, особенно от возов с дровами и сеном. Купцы того времени, или, вернее, торгаши, пользовались весьма дурной славой. В то время явился даже обличитель купцов, Матинский, написавший комическую оперу „Санкпетербургский Гостиный двор“, где был выведен разными плутнями и мошенничеством нажившийся гостинодворец „Феропонт Сквалыгин“ и товарищ в его плутовских проделках, взяточник, подъячий „Крючкодей". Опера была дана в первый раз 26-го ноября 1783 года, на Царицыном лугу, на театре Книпера и Дмитревского. Как гласила афиша, сочинения она „путешествующего по Италии крепостного человека Матинского графа Ягужинского, музыка тоже Матинского". Опера имела необычайный успех и в короткое время выдержала три издания: в 1791, 1792 и 1799 году.
Роль Сквалыгина играл актер Сем. Соколов, а Крючкодея — Ан. Крутицкий.
Образ жизни купца XVIII века, как говорит П. И. Страхов5, был таков, что блаженство его состояло в том, чтобы иметь жирную лошадь, толстую жену, крепкое пиво, в доме своем особенную светелку, баню и сад. Утром сидел он в лавке, где с знакомыми и покупателями выпивал нисколько так называемых „галенков“ чаю. После обеда спал три часа, а остальное время проводил с нриятелями, играя в шашки на пиво. Богатый купец имел свою пословицу, которая в кругу его знакомых заменяла остроумие, возбуждала смех и часто давала предлог к выпивке. Купцы за особенное качество ума считали бестолковость в разговорах; речь их иногда делалась совсем непонятной от излюбленной пословицы, которую они употребляли без всякой надобности, почти через несколько слов.
При первом с кем-нибудь свидании или знакомстве, купец тотчас старался закидать его пословицами и прибаутками, и тем дать знать, что он, как говорится, „сам себе на уме“. Купец всегда любил выпить, и помимо разных семейных празднеств: именин, родин, крестин, искал случая напиться, особенно баня также еженедельно давала предлога к пьянству и созывам гостей.
Летом в праздники купцы с друзьями ездили за город с пирогами, самоварами и водкой. Смотрение кулачных боев, медвежьей травли, катанья с гор составляли любимейшие зимние удовольствия. Жены купцов не пили пива и не играли в шашки, но хозяйка дома свою гостью отводила потихоньку в спальню, как будто для разговора, и подносила ей там по чарочке тайком, пока не напаивала допьяна.
Приказчики где нибудь в отдельном жилье подражали хозяевам, с той только разницей, что напивались допьяна при игре одного из товарищей на гуслях. Достоинство молодого купеческого сына состояло в том, чтобы он умел твердо читать и писать и знал бы проворно выкладывать на счетах. Но тот считался с большими способностями, кто умел быстро и звонко звать покупателя, скоро говорить, хвалить товар, божиться, обвешивать и присчитывать. Дочери богатых купцов всегда составляли лакомый кусок для промотавшихся дворян. Было время, — говорит Страхов, — что из Петербурга разорившиеся моты на последние деньги скакали в Москву для поправления своего состояния женитьбой на них. Видные и красивые осаждали миллионы как крепости, брали их иногда хитростью, а иногда штурмом. Женившись на богачке, из всей силы продолжали мотать по смерть, оставляя детям при нищете одно удовольствие — вспоминать, что мать их была миллионщица. Эти гордые бедняки представляли подобие тех голых веников, которые домогались уважения, выдавая свое происхождение от самаго древнего и густого дуба!
|
Вид Невского проспекта от Зеленого (Полицейского) до Аничкова моста в прошлом столетии. С рисунка того времени Бенуа. (Из собрания П. Я. Дашкова). |
Дед нынешнего купца носил русское платье, ходилъ „при бороде", летом был в чуйке, зимой в шубе. Жил он в своем деревянном домике, где-нибудь на „Песках" или у „Владимирской"; вид его был смирный, богобоязливый, почитал он после Бога власть, поставленную от Бога, стоял почтительно за прилавком, снявши шапку перед благородной полицией, боялся военных, чиновников, целый век обдергивался, суетился. Жену, детей держал в черном теле и в страхе Божьем. Умирал такой отец семейства, выносили его в дубовой колоде ногами в ворота на „Большую Охту", или на „Волково".
По смерти старика купца, всегда оказывался капитал значительный, наследник его на месте отческого диконького домика выводил огромный домина и сам облекался в особенный вариант европейской моды, об которой теперь едва сохранилось воспоминание: такой коммерсант носил длинный сюртук, вправляя брюки в сапоги, и брил бороду. Платье его чистил старший приказчик, но сапоги вверялъ он сыну или мальчику. Чищение последних требовало долгой работы и особенного уменья. Вакса употреблялась восковая, накладывать ее на кожу нужно было понемножку, разогревая дыханием, затем сейчас же растирать и намазывать следующий слой. Такое подравнивание слоев отнимало много времени и могло быть благополучно окончено только опытной рукой. Сапожный глянец высоко ценился купцами.
Вставал купец рано и являлся в лавку зимой вместе с первым проблеском света, летом он приходил в шесть часов утра. Отпирая лавку, пил сбитень, съедал несколько калачей и принимался за торговлю. В торговле в то время первое дело было зазвать к себе покупателя и отбить последнего у соседа. Потому молодцы с зычным голосом, неотвязчивые и умеющие в зазывах своих насулить покупателю с три короба, высоко ценились хозяевами. Когда покупатель в лавку был зазван, торговец старался улестить его, отвести ему глаза, продать товар втридорога. На такие уловки нужна была опытность. Платье, походка, речь покупателя, тут все берется в росчет. С одним надобно кланяться, упрашивать, сделать уступку „из уважения", с другого заломить сразу цену и вести себя гордо, не уступать копейки, третий, как, например, мужичек, требует фамильярного обращения: стукнуть по плечу, по животу, и „что ты, мол, брат, со своими торгуешься, со своего человека земляка лишнего не возьмем". С духовенством можно заговорить от писания, следует подойти под благословение, в самой физиономии выразить некоторую святость.
Всякий товар надобно было показать лицом. Например, материи торговец старался на прилавок накидать такую груду, что у покупателя разбегаются глаза. Кусок материи развертывался так, чтобы на него прямо падали свет и т. д. Купцы из лавок ходили обедать домой, и после обеда ложились отдыхать. Это был повсеместный обычай; спали купцы, затворив свои лавки; в то время спали после обеда все, начиная от вельможи до уличной черни, которая отдыхала прямо на улицах.
Не отдыхать после обеда считалось в некотором смысле ересью, как всякое отступает от прадедовских обычаев. Когда смеркалось, купец запирал лавку замком, потом, прикреплял восковую печать и, помолившись, шел домой. При однообразии торговой жизни в рядах Гостиного доставляла развлечение игра в шашки; около почти каждой лавки стояла скамейка, на середине которой была нарисована „шашельница".
Около играющих иногда образовывалась целая толпа зрителей, которые в игре принимали живейшее участие, ободряли игроков и смеялись над их оплошностями. В игре, как и в торговле, главное взять не столько знанием, сколько хитростью, воспользоваться оплошностью противника. Зимой, в морозные дни, приказчики грелись, схватываясь руками и похаживая посреди линии, перегоняя друг друга на сторону, или прозябнувшие молодцы вступали двумя станами в ратный бой и тянули веревку. Бывали в то время такие силачи, как живший еще в конце сороковых годов шкатулочник — большой оригинал, „Евграф Егорыч“, ходивший зимой и летом в большой боярской меховой шапке; он, бывало, ухватится за один конец веревки, и все усилия противников сдвинуть его с места пропадали даром?
Не мало в то время развлечения доставляла торговцам и публика, гулявшая по линиям Гостиного двора. Вероятно, теперь уже нет в живых гостинодворцев, которые бы помнили приезжавшего к Гостиному двору в карете цугом высокого мужчину в черном доломане с металлической мертвой головой на груди. Это был барон Жерамбо, гусар из полка наполеоновских гусаров смерти. По рассказам, он вел большую карточную игру, писал латинские стихи и был отчаянный бретер, загубивший не одну христианскую душу на дуэли. Возбуждала здесь тоже общее любопытство своей ловкостью фигура старого немца с длинными волосами на плечах; это был известный в свое время фокусник Апфельбаум, отмеченный Гоголем в одной из его повестей; затем памятны всем были Екатерининский секунд-майор Щегловский и Павловский бригадир Брызгалов. Первый уже столетний старик, одетый в мундир светло-зеленого цвета, с красными отворотами, с широким золотым галуном, в треугольной шляпе, с большим белым султаном, в парике, с буклями и с тростью в руках, бодро еще ходил по линии, заходя в лавки, чтоб отдохнуть и словоохотливо поболтать с купцами о штурме Бендер, о походе заграницу во время Семилетней войны. Жизнь его была крайне интересна: он вступил в службу солдатом при Елизавете, сделал поход в Семилетнюю войну, при штурме Бендер находился в армии графа Панина. В 1777 году был в походе в Судакских горах, там ранен в шею и в голову стрелой и в руку кинжалом, после чего взят турками в плен с майором Зоричем и находился в Турции четыре года, до заключения мира. По возвращении из турецкого плена был избран для сопровождения императрицы Екатерины из Шева в Херсон. Здесь, танцуя на бале у императрицы, он переменил в малороссийской мазурке четырех дам; государыня, смотря на ловкого танцора, в знак удовольствия рукоплескала; после бала он был пожалован золотой табакеркой.
В Таврической области, при переезде императрицы из Кинбурна, снесло бурей мост через проток Сиваша. Необходимо было устроить новый. Императрица спешила выехать, а еще неизвестно было, поспел ли мост; Щегловский был послан Потемкиным за 27 верст узнать, готов ли мост. Часа через три, когда государыня села за обеденный столъ, он возвратился, загнав несколько лошадей и проскакав 54 версты не более, как в три часа. Войдя в столовую императрицы, где находился и Потемкин, Щегловский, с трудом переводя дыхание, едва мог промолвить:
— Ваша светлость! мост поспел!.
— Как? — сказала императрица; — он уже и съездил — и так была довольна, что сняла с руки свой богатый бриллиантовый перстень и подарила Щегловскому. В следующем году, он был пожалован золотой саблей и капитанским чином за храбрость, а за взятие в плен паши — орденом св. Георгия; потом он отчаянно дрался под стенами Очакова; за долгое сопротивление город был предан Потемкиным на три дня в добычу победителям 18 солдат из отряда Щегловского возвратились к нему с мешками золота и, поощренные удачей, отправились снова на поиски.
|
Уличная продавщица конфет в Петербурге в конце прошлого столетия. С гравюры того времени Шенберга. |
Тогда была ужасная зима: лиман замерз, войско в лагере укрывалось в землянках. Телеги, кровати, все было пожжено; нечем было ни топить, ни сварить похлебки. Несколько раз возвращались с мешками серебра и золота разгоряченные вином солдаты Щегловского, и раз пошли и не вернулись более. Щегловский должен был в скорости выступить; взять натасканные сокровища не было возможности и даже опасно; завалив землянку с сокровищами, он покинул Очаков. С тех пор ему не удалось уже быть там, и неизвестно, сохранились ли в целости его сокровища. В 1790 году, он получил ордер сдать турецких пленных поручику Никорице. По прибытии в Яссы, Щегловский получил рапорт, что из числа пленных девять турецких офицеровъбежали, и не прошло пяти дней, как за это упущение пленных, даже без всякого допроса и суда, он был, по повелению Потемкина, в кандалах отправлен в Сибирь, где и пробыл 52 года в ссылке. Причина гнева и немилости князя Потемкина, по словам Щегловского, лежала в особенном обстоятельстве. Он имел несчастье понравиться одной польской княгине, которая была предметом внимания Потемкина. В 1839 году, император Николай I повелел сосланного в Сибирь Щегловского освободить и наградить тысячью рублями. Взяв на шеститысячеверстный путь десять рублей деньгами и простившись с 80-тиллетней своей женой, Щегловский отправился в Петербург. Здесь в дворцовых сенях он упал к ногам царя и на другой день получил триста рублей деньгами, а от императрицы — мундир полный формы майорской одежды Екатерининских времен. В этой форме майор был представлен государю, и на вопрос, за что был сослан в Сибирь, отвечал „За одну вину: потерпел за Еву!“
В 1843 году, стосемилетний бодрый старик, в полном мундире Екатерининских времен, присутствовал в числе зрителей на параде, на Суворовской площади, и, по милостивому вниманию императрицы, ему предложено было кресло. Как Елизаветинский столетний рядовой, он получил в сравнении с другими, бывшими на параде, в сто раз более — 1750 рублей.
Из рассказов и воспоминаний Щегловского, интересен рассказ про известного фаворита Екатерины, Зорича, который жил впоследствии в пожалованном императрицей местечке Шклове, в полной роскоши, среди наслаждений, как сатрап. Вот что рассказывал о нем стосемилилетний Щегловский: „Храбрый майор Зорич был окружен турками и мужественно защищался, но, когда, наконец, увидел необходимость сдаться, то закричал: „Я капитан-паша!“ Это слово спасло его жизнь. Капитан-паша у турок — полный генерал, и его отвезли к султану в Константинополь. Здесь его важный вид, осанка, рассказы, все побуждало султана отличить его и даже предложить ему перейти в турецкую службу, впрочем, с тем, чтобы он переминил веру. Но ни угрозы, ни пышные обещания не могли поколебать Зорича. И когда политические обстоятельства переменились, султан, желая склонить императрицу к миру, согласился на размен пленнных, в письме своем поздравлял императрицу, что она имеет такого храброго русского генерала, как храбрый Зорич, который отверг все его предложения. Государыня велела справиться, и по справкам оказалось, что никакого генерала Зорича не было взято в плен, а был взят майор Зорич. Возвращенный в Петербург. Зорич был представлен императрице.
— Вы майор Зорич? — спросила Екатерина.
— Я, — отвечал Зорич.
— С чего же, — продолжала императрица: — вы назвались русским капитаном-пашей, ведь это полный генерал?
— Виноват, ваше величество, для спасения жизни своей, и чтобы еще иметь счастье служить вашему величеству.
— Будьте же вы генералом, — продолжала императрица: — турецкий султан хвалит вас, и я не сниму с вас чина, который вы себе дали и заслужили.
И майор был сделан генералом. У этого Зорича в Шклове давались лукулловские пиры, учреждались летом поездки в санях по рассыпанной по дороге соли и сожигался фейерверк, деланный несколько месяцев, один павильон состоял из 50000 ракет. Его крепостной балет был настолько хорошь, что туда посылался в начале царствования Павла балетмейстер Вальберх, и привезены танцовщицы, и т. д.
Другой такой же свидетель прошедшего века бригадир Брызгалов ходил в длиннополом русском мундире, ботфортах, крагенах, со шпагой назад и с длинной тростью. Этот старик некогда служил кастеляном в Михайловском дворце и при Павле исполнял должность смотрителя за подъемным мостом; он редко гулял один, всегда его сопровождали дочь и два сына. Часто дети впереди несли его длинную трость. Зимой Брызгалов одевал волчью шубу на малиновом сукне. Брызгалов был очень сварливого нрава и вечно заводил ссоры с купцами. Посещал также ежедневно Гостиный несколько недель гостивший в Петербурге известный сподвижник Александра Благословенного, герцог Велингтон. Знаменитый гость разгуливал в круглой шляпе и в узком, длинном черном плаще без рукавов (cols). В старину в Гостином дворе гуляли все известные лица тогдашнего общества. Здесь меценат Н. И. Перепечин, директор банка, отыскал в щепетильной лавке, под № 67, молодого сидельца Яковлева, впоследствии знаменитого трагического актера. В Гостином же, на верхней линии, осенью и зимой, в дождливые и ненастные дни, гулял наш баснописец, Ив. Андр. Крылов. Он обходил Гостиный двор ежедневно пять раз. Существует анекдот про эти прогулки Ивана Андреевича: раз, сидельцы, обыкновенно надоедавшие своими криками всем гуляющим, атаковали Крылова.
— У нас лучшие меха6, пожалуйте-с, пожалуйте-с! — схватили его за руки и насильно втащили в лавку.
Крылов решился проучить рыночника.
— Ну, покажите же, что у вас хорошего?
Приказчики натаскали ему енотовых и медвежьих мехов.
Он развертывал, разглядывал их.
— Хороши, хороши, а есть ли еще лучше?
— Есть-с.
Притащили еще.
— Хороши и эти, да нет ли еще получше?
— Извольте-с, извольте-с!
Еще разостлали перед ним несколько мехов. Таким образом он перерыл всю лавку.
— Ну, благодарствуйте, — сказал он, наконец: — вижу у васъ много прекрасных вещей. Прощайте!
— Как, сударь, да разве вам не угодно купить?
— Нет, мои друзья, мне ничего не надобно; я прохаживаюсь здесь для здоровья, и вы насильно затащили меня в вашу лавку.
Не успел он выйдти из этой лавки, как приказчики следующей подхватили его.
— У нас самые лучшие, пожалуйте-с! — и втащили в свою лавку.
Крылов таким же образом перерыл весь их товар, похвалил его, поблагодарил торговцев за показ и вышел. Приказчики уже следующих лавок, перешептываясь между собой и улыбаясь, дали ему свободный проход. Они уже знали о его проказах из первой лавки, и с тех пор он свободно проходил по Гостиному двору и только раскланивался на учтивые поклоны и веселые улыбки своих знакомых сидельцев.
|
Уличный продавец гребенок в Петербурге в конце прошлого столетия. С гравюры того времени Шенберга. |
Утром по Гостиному двору, от создания его до семидесятого года, проходили целые бесконечные нити нищих; шли бабы с грудными младенцами и с полянами вместо последних; шел благородный человек, поклонник алкоголя, в фуражке с кокардой, рассказывая публике мнимую историю своих бедствий; шел также пропойца-мастеровой, сбирали чухонки на свадьбу, гуляя попарно, со словами: „помогай невесте"; возили на розвальнях пустые гробы или крышку от гроба старухи, собирая на похороны умершему; шли фонарщики, сбирая на разбитое стекло в фонаре. Ходил и нижний полицейский чин с кренделем в платке, поздравляя гостинодворцев с своим тезоименитством. Бродил здесь и нищенствующий поэт Петр Татаринов7 с акростихом на листе бумаги, из заглавных букв которого выходило: „Татаринову на сапоги“. Проходил и артист со скрипкой, наигрывая концерт
Бepиo или полонез Огинского. Такой скрипач, бродивший в конце сороковых годов, был весьма недюжинный крепостной артист князя Потемкина. Брели, особенно перед праздниками, разные калеки, слепцы, уроды, юродивые, блаженные, странники и странницы; между последними долго пользовалась большой симпатией у торговцев старушка лет шестидесяти, в черном коленкоровом платье, с ридикюлем в руках, полным разными даяниями. Происхождением она была из княжеского рода, воспитывалась чуть ли не в Смольном и говорила по-французски и по-немецки. Звали ее „ Аннушкой “ и Анной Ивановной. В молодости она имела жениха гвардейского офицера, который женился на другой. Обманутая невеста покинула Петербург и только спустя несколько лет явилась опять в столицу, но уже юродивою. Одетая всегда почти в лохмотья, она ходила по городу, собирала милостыню и раздавала ее другим. На улице заводила ссоры, бранилась с извозчиками и нередко била их палкой. Жила она у одного богатого купца, а больше на Сенной, у священника о. Василия Чулкова, тоже очень замечательного духовного лида, вышедшего в первую холеру из простого звания, популярнейшего священника между простонародием и купцами. Аннушка отличалась прозорливостью и предсказаниями. Раз, встретившись в Невской лавре с одним архимандритом, она предсказала ему получение енископского сана; действительно архимандритъ вскоре получил епископство и был сделан викарием в Петербурге. Впоследствии он поместил Аннушку в охтенскую богадельню, под вымышленной фамилией Ложкиной. В богадельне она не жила. Незадолго до своей смерти, она пришла на Смоленское кладбище, принесла покров и, разостлав на землю, просила пpoтoиepeя отслужить панихиду по рабе Анне. Когда панихида была отслужена, она покров пожертвовала в церковь с тем, чтобы им покрывали бедных умерших, и просила протоиерея похоронить ее на этом месте. При погребении ее присутствовали тысячи народа.В числе разных пустосвяток, бродивших по Гостиному двору, обращала на себя внимание толстая баба, лет сорока, называвшая себя „голубицей оливаной". Носила эта голубица черный подрясник, с широким ременным поясом; на голове у ней была иерейская скуфья, из-под которой торчали распущенные длинные волосы; в руках у нее был пучек восковых свечей и большая трость, которую она называла „жезлом иерусалимским". На шее у нее были надеты четки с большим крестом и образ, вырезанный на перламутре. Народ и извозчики звали ее „Макарьевной" и „вдовицей Ольгой". Говорила она иносказательно, и все больше текстами; на купеческих свадьбах и поминках она играла первую роль и садилась за стол с духовенством. Занималась она также лечением, оттирая купчих разным снадобьем в бане; круг действий „Макарьевны" не ограничивался одним Петербургом, она по годам живала в Москве, затем посещала Нижегородскую ярмарку, Киев и другие города. По рассказам, она выдала свою дочь за квартального надзирателя, дав ему в приданое тысячь двадцать. Подчас „Макарьевна" жила очень весело, любила под вечерок кататься на лихачах, выбирая такого, который помоложе и подюжее.
Немало также толков и разговоров вызывали у гостинодворцев утренние провозки преступников на Конную площадь; в то время такие экзекуции случались довольно часто; телесные наказания производились публично: по обыкновению, преступника везли рано утром на позорной колеснице, одетого в длинный, черный суконный кафтан и такую же шапку, на груди у него висела черная деревянная доска с надписью крупными белыми буквами о роде преступления; преступник сидел на скамейке спиной к лошадям, руки и ноги его были привязаны к скамейке сыромятными ремнями. Позорная колесница следовала по улицам, окруженная солдатами с барабанщиком, который бил при этом особенную глухую дробь. В отдельном фургоне за ним ехал, а иногда шел пешком палач, в красной рубашке, под конвоем солдат, выпрашивая у торговцев подачки на косушку водки.
По прибытии позорной колесницы к месту казни, преступника вводили на эшафот; здесь к нему первый подходил священник и напутствовал его краткой речью, давал поцеловать крест. Затем чиновник читал приговор. Тюремные сторожа привязывали его к позорному столбу; снимали с него верхнее платье и передавали осужденного в руки палачам. Эти разрывали ему как ворот рубашки, так и спереди рубашку до конца, обнажая по пояс, клали преступника на кобылу, прикрепляли к ней руки и ноги сыромятными ремнями; затем палачи брали плети, становились в ногах преступника и ждали приказа начать наказание. Начинал сперва стоявший с левой стороны палач; медленно поднимая плеть и с криком: „берегись, ожгу!" — наносил удар, за ним бил другой и т. д. При наказании наблюдалось, чтобы удары следовали в порядке, с промежутками.
По окончании казни, отвязывали виновного, накидывали на спину рубашку и после наложения клейма надевали шапку, сводили под руки с эшафота, клали на выдвижную доску с матрасом в фургоне в наклонном положении и вместе с фельдшером отвозили в тюремную больницу. При посылке на каторгу палачем вырывались ноздри нарочно сделанными клещами. Ворам ставились на щеках и на лбу знаки: „вор", и затем их затирали порохом.
В 1801 году, император Александр I, вступив на престол, отменил как знаки, так и пытку; в указе было сказано: „самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящее, должно быть изглажено навсегда из памяти народной".
По гостинодворским преданиям, в малом Гостином ряду, или в ямщиковых лавках (рядом с Думской улицей, нынешний мебельный ряд), нередко видели в начале нынешнего столетия довольно тучного, вялого, семидесятилетнего старика, известного распространителя скопческой ереси, Кондратия Селиванова; по рассказам, его всегда сопровождал Солодовников, в то время еще приказчик богатого купца-сектанта Сидора Ненастьева; впоследствии сыновья Солодовникова были известные петербургские богачи. Про Селиванова старожилы рассказывали много таинственного и чудесного: говорили, что он предсказывает будущее, а этого уже было достаточно, чтобы привлекать суеверную публику. Петербургские барыни толпами приезжали к этому пророку, чтобы послушать пророчества. Селиванов жил у купца Ненастьева, в Басковом переулке, близ артиллерийских казарм, второй дом от угла. Здесь нередко стояло по десяти карет, заложенных, по тогдашнему обыкновению, четвернями и шестернями, даже такие особы, как министр полиции Балашов и петербургский генерал-губернатор граф Милорадович, не брезговали беседовать с этим старцем и получать от него благословение. Селиванов принимал гостей, лежа на пуховиках на кровати, в батистовой рубашке, под пологом с кисейными занавесками и золотыми кистями; комната, где он лежал, была устлана цельным большим ковром, на котором были вытканы лики крылатых юношей. Впоследствии Селиванов жил в своем доме, построенном для него Солодовниковым в Литейной части, близ Лиговки. Это был первый в Петербурге скопческий корабль, или, как его называли скопцы, „Новый иерусалим“. В этот храм стекались скопцы со всех концов Poccии. Приходивший встречал самое широкое гостеприимство. Лица, приставленные к пришлецам, незаметно выведывали от последних про их домашние нужды и обстоятельства и затем все передавали Селиванову, который этим при разговорах с ними и пользовался. Таким образом, слава лжепророка росла, как и усердные приношения в его кассу, казначеем которой был Солодовников. Селиванов в своем корабле прожил до 1820 года, т. е. до ссылки его в монастырь. В этом корабле была устроена зала, где могло радеть более шестисот человек. Построена она была в два света и разделена на две части глухой перегородкой, в один этаж. В одной половине радели мужчины, в другой женщины. Над этой перегородкой была устроена ложа, в роде кафедры, под балдахином, где сидел Селиванов, одетый в короткое зеленое шелковое полукафтанье. Молящиеся кружились внизу, одетые в двойных белых рубашках. В одной из комнат, примыкающих к храму, помещалось всегда до десятка и более молодых, бледнолицых мальчиков; здесь они излечивались от той операции, которая делала их на веки дискантами. „Настало златое время воскресения", — говорили скопцы. Полиция знала обо всем, что делается в этом доме; она знала, что число скопцов в Петербурге значительно умножается. Никаких, однако, мер для пресечения распространяющегося зла предпринимаемо не было; в это время еще не существовало никаких узаконений против скопчества; на эту секту смотрели снисходительно, на основании принципа веротерпимости в самых широких размерах. Народ же на скопцов смотрел благодушно и в шутку называл их „масонами".
|
Наказание плетью в тайной канцелярии в конце XVIII столетия. С акварели прошлого века Гейслера. (Из собрания П. Я. Дашкова). |
В эпоху фельетонов Ф. Булгарина Гостиный двор переживал много тревог. Отзывы его о магазинах, но большей части, появлялись всегда перед праздниками. Начинал он их всегда колко и ядовито для гостинодворца и потом переходил в хвалебный тон; обыкновенно в это время мифическое лицо его бесед, г. Добров, спрашивал8: „Итак, скажите нам что-нибудь о Гостином дворе?“ — „На это надобно много времени, — отвечал Фадей Венедиктович: — и я обещаю предпринять особое путешествие в Гостиный двор, в котором я, однако-ж, не люблю часто прохаживаться". — „Как! вы такой приверженец Гостиного двора, всегдашный его защитник и поборник!" — возражал г. Добров. — „Это правда, но я не люблю беспрестанных вопросов: „чего вам угодно-с? чего вам надо-с?" Это вежливое „с“, превращаясь в несносное для ушей шипенье, изгоняет из-под прекрасных сводов Гостиного двора всякий любопытный посетитель. Неужели купцы думают, что, перебегая дорогу, снимая шляпу, кланяясь и делая неуместные вопросы с шиканьем в конце речи, можно заставить человека войти в лавку и купить ненужную вещь"... В другом месте Булгарин писал: „Однажды, проходя по зеркальной линии, увидел я в одной из лавок серебряную табакерку, имевшую вид собачки. — Что хочешь за эту вещь? — спросил я приказчика или хозяина, не знаю. — Тридцать пять рублей, — отвечал купец. — Дам пять. — сказал я в шутку и пошел. В двадцати шагах от лавки, мальчики догнали меня и, подавая табакерку, сказали: „Извольте-с! пожалуйте пять рублей". Я заплатил и ужаснулся: я предложил цену в шутку и угадал настоящую цену. Спрашиваю: сколько бы я потерял, еслиб в этой пропорции ошибался по двадцать четыре раза в год, запасаясь всем нужным в Гостином дворе!“ Иногда Булгарин писал и более неприятные вещи про гостинодворцев. Так, какая-нибудь девица Полина отписывала своей приятельнице: „Я хотя и патриотка, но не люблю покупать в Гостином дворе. Для меня несносен этот обычай зазывать в лавку. Беда быть неопытной; запросят здесь в двадцать раз более настоящей цены, заплатишь гораздо дороже; я присела в лавке и раздавила блин, который положил на стуле второпях завтракавший сиделец. Другой раз моей знакомой при выходе из лавки икорник провел черту лотком по белому салопу!" Гостинодворцы знали, что это значит, и несли дары из своих лавок к сердитому фельетонисту. Следующие уже отзывы о лавках были в ином роде: „Где вы мне советуете купить часы? — спрашивал тот же г. Добров, или девица Полина. — Во всяком магазине Гостиного двора их множество... здесь вам поручатся за целый год за исправность проданной вещи. Если вам угодно купить цепочку, перчатки и даже бриллианты, то ступайте в лавку К-ва. Его вещи уважаются даже за границей, а в пробе золота и доброте камней вы можете верить его слову! — Я давно намереваюсь украсить мой кабинет несколькими бронзовыми вещами, — говорил г. Добров: — здесь в Гостином три магазина славятся бронзовыми товарами, а именно"... — следуют фамилии купцов. Если Булгарин чувстновал особенную признательность к владельцу магазина, то писал: „Я видел однажды чиновника, украшенного орденами, который дружески беседовал в магазине с купцом, своим сотоварищем по училищу. Я знаю несколько случаев, в которых школьные друзья выручали из несчастья старых своих товарищей, принадлежавших к высшему сословию“. Часто реклама была и такого сорта: „Главная отличительная черта этого магазина — честность. Пошлите ребенка, его так же примут, как вельможу, и за одинаковую цену отпустятъ товары. Сей добродетелью издавна славится меховой магазинъ Л-ых. Здесь находятся драгоценные плоды дикой промышленности сынов зимы, камчадала, алеута и канадца, т. е. великолепная и вместе спасительная одежда, заимствованная человеком от животных, щедро наделенных природой предохранительными средствами от действий климата; от оконечностей северо-восточных берегов Америки, через всю пространную Сибирь, Китай, Европу и Соединенные Штаты простираются отрасли обширной торговли гг. Лемх. Покупателю у них ненадобно быть знатоком, чтобы избегнуть обмана“ и т. д. — „Продолжайте, продолжайте! — восклицает г. Добров: — я всегда с удовольствием слушаю рассказы о честности купцов"...
В двадцатых годах, пользовалась большой популярностью лавка купца Ко-ва, торговавшего, как значилось на вывеске, „разными мииералиями и антиквитетами". Лавка этого продавца была целый драгоценный, редкий музей: картины, оружие, фарфор, драгоценные камни и нумизматические диковинки. Иностранец, приезжавший в Петербург, редко уезжал, не видав его любопытныхъ товаров; правда, в то время не было моды на амфоры времен Сарданапала, вазы Аннибала и кровати Марии Медичи и т. д. Тогда более была мода на отечественные диковинки. Так, за медную монету с надписью „ гроши“ 1724 года платили 600 рублей; за другую такую же редкую монету, четырехугольной формы, с гербами по углам и в середине со словами „цена рубль. Екатеринбурга, 1725 года", и затем надпись кругом: „Первая плата из меди Верхотурских Лялинских заводов, которые построены при воеводе господине Беклемишеве", — было заплачено 3000 рублей; первую купил купец Лаптев (автор редкой книги „Опыт старинной русской дипломатики"); вторую — известный литератор тех времен П. П. Свиньин.
На Суконной линии был еще другой такой торговец — антиквар Дергалов; торговал он орденами и особенно музыкальными инструментами: у него, например, были всевозможные скрипки, начиная от кремонских Андреа и Николо Амати, Франческо Руджиери, Гварнери до Антонио Страдивари; были скрипки и основателей этих школ; также тирольские: Якова Штайнера, Клотца, Гваданини и Маджини из Бресчии и т. д. Но особенно хорошие тогда продавались у него скрипки работы наших петербургских мастеров Иосифа Вахтера Штейнингера и русского Страдивариуса, Ивана Андреевича Батова. Скрипки Батова новые продавались от 500 до 800 рублей ассигнациями за штуку, старые же, т. е. давно сделанные, ценились от 1000 до 2000 рублей. Его произведения отличались необыкновенно тонкой работой и имели много общего с инструментами Жозефа Гварнериуса; дерево прекрасного качества, лак чрезвычайно гибгий, превосходного оттенка, не уступающей лаку Страдивариуса; размер скрипки Батова был невелик; очертания правильные; своды дек не очень высоки и понижались мало-помалу до самых усов; внутренние части сделаны из ели хорошего качества. Был у него один только недостаток — нижняя дека в центре имела значительную толщину, что сильно вредило звучности инструмента, ослабляя гибкость деки и препятствуя свободному распространению звуков волн. Скрипки Батова так близко подходили к произведениям Жозефа Гварнepиyca, что все, по большей части, покупались за границу, или продавались в Петербург за работу этого итальянского мастера.
Вот некоторые собранные нами подробности о жизни этого мастера. Батов был крепостной графа Н. П. Шереметева, родился он в 1767 году, учился ремеслу у инструментального мастера в Москве Вдадимирова. В бытность свою еще учеником, Батов отличался тем, что все его изделия были сделаны с необыкновенной точностью и чистотой; в мастерской Владимирова он снял копию с одной старинной скрипки с богатой резьбой, так что ее никто не отличил от настоящей. Батов за это выиграл большой заклад. Оставив своего учителя, Батов уехал в деревню графа Шереметева, где и снабжал прекрасными инструментами капеллу графа. Вскоре граф переехал на житье в Петербург, куда вытребовал Батова, где и определил его для изучения новаго тогда мастерства — делать фортепиано. Батов попал к фортепианщику Гауку и через год уже умел исполнять фортепиано. Батов, не смотря на большие заказы, никогда не принимал работ без позволения своего барина. Граф позволял ему делать только музыкантам. Все знаменитые виртуозы того времени пользовались его работами и отдавали ему полную справедливость. Таким образом, его заказчиками были: Бандошкин, знаменитый скрипач и балалаечник князя Потемкина; по преданию, Батов сделал ему по дружбе такую балалайку из старой, вырытой из могилы гробовой доски, что за нее впоследствии чесменский герой, граф А. Г. Орлов, предлагал ему тысячу рублей; давальцами Батова были и все иностранцы: Диц, Фодор, Френцель, Роде, Бальо, Лафон, Ламар, Борер, Ромберг и другие. В 1814 году, Батов поднес императору Александру I-му (которому и прежде неоднократно исправлял инструменты) скрипку своей работы; три месяца он безостановочно и неутомимо делал ее. По свидетельству знатоков, эта скрипка была пес plus ultra совершенства в отделке. Государь щедро наградил мастера. После этой скрипки Батов занялся устройством новой виолончели и, трудясь без отдыха более пяти месяцев, окончил ее с успехом. Bиoлончель эта, по словам Батова, красовалась и телом, и душой. Знаменитый виолончелист Бернгард Ромберг даже не верил первое время, что она была сделана Батовым, и отдавал за нее свою старинную итальянскую. Эту виолончель мастер впоследствии поднес своему барину, графу Дм. Ник. Шереметеву, который за нее дал ему вольную со всем его семейством. В течение своей деятельной жизни Батов сделал: 41 скрипку, 3 альта, 6 виолончелей и, по просьбам друзей, 10 гитар; контрабасы он делал только в мастерской Владимирова, считая эту работу неблагодарной и почти никогда не оцененной по справедливости. Множество знаменитых итальянских скрипок были им реставрированы и спасены от преждевременного уничтожения; уважение его к старинным мастерам было беспредельно. Работая много лет сряду, он особенно обращал внимание на заготовление хорошего дерева, на которое нередко употреблял значительные деньги, покупая его даже в вещах, как, например, в дверях, старинных воротах и т. д. У него до последних дней сохранялись запасы такого дерева, заготовленные еще в царствование Екатерины II. Он умер в 1839 году, оставив сыновьям не деньги, а дерево и разные рецепты для делания лака и разные лекалы, шаблоны, прорези и множество полезных приспособлений, извлеченных из результатов более пятидесятилетней постоянной практики. После его смерти осталась одна виолончель и две неоконченные скрипки, который купил за большие деньги один итальянец банкир и увез заграницу.
|
Наказание фухтелями в XVIII столетии. С офорта прошлаго века Гейслера. |
В тридцатых годах, в Гостином дворе книжных лавок было счетом восемь: Тюленева, Глазунова, Плавильщикова, Исакова, Фарикова, Свешникова (две), Воробьева и Сленина. Отец последнего торговал винами, но, видя в сыне страсть к книжному делу, открыл ему книжную лавку; И. В. Сленин немолодых уже лет выучился французскому и немецкому языкам; сперва он торговал в Гостином вместе с братом. Но в 1817 году основал другой еще магазин, где и занялся изданием „истории“ Карамзина (второе издание восемь томов и первое XI тома). Издание это ему обошлось в 165000 руб. Сленин замечателен тем, что не издал ни одного романа, песенника и т. д.
Имена старых купцов беспрестанно исчезают из списков купечества; насчитать много купцов, чей дед и отец были купцами 1-й гильдии, едва ли возможно; у нас купеческая фамилия почти всегда кончается со смертью основателя фирмы. Одно время богатые купцы тянулись в дворянство9, хлопотали о получении чинов и спешили во что бы то ни стало родниться с знатными дворянскими фамилиями; так, известный симбирский заводчик Твердыгаев весь свой громадный капитал роздал своим дочерям, которых повыдал замуж за генералов и князей. Большие имения Пашковых, Шенелевых, Баташевых, князей Белосельских, есть ни что иное, как клочки огромнейшего капитала, составленного этим купцом. Впрочем, были и исключения. Так, Прок. Акин. Демидов выдал своих дочерей за фабрикантов-купцов, не смотря на то, что сам уже был дворянином. Когда же одна из его дочерей объявила, что пойдет замуж только за дворянина, то Демидов велел прибить к воротам дома доску с надписью, что у него есть дочка дворянка, и потому не желает ли кто из дворян на ней жениться? Случайно проходивший в это время мимо чиновник Станиславский первый прочел это объявление, явился к Демидову, сделала предложение и в этот же день был обвенчан с его дочерью. Получивших дворянство купцов и торговавших после весьма немного; из таких известны фирмы: Кусовых, Погребова, Глазуновых, кажется, и только.
Кусов первый завел транзитную торговлю и имел свои корабли. Кусов отличался большой благотворительностью; император Александр Павлович часто езжал к нему запросто в гости с императрицей. Дом его стоял у Тучкова моста, после смерти он завещал его в казну для постройки на этом месте Мариинской больницы. Кусов был масоном и служил в ложе „Астреи“ казначеем; у него был сын, полковник Кавалергардского полка. Лет двадцать тому назад, род Кусовых получил баронство.
Родоначальник фамилии Кусовых был Василий Григорьевич, уроженец Троицко-Серпевского посада; он в 1766 году переписался в петербургское купечество. Ив. Вас. был
пaтpиapхом русского купечества. Слово его было верный вексель, совет — закон. Когда хоронили его, то все купечество было на ногах, самые почетнейшие несли гроб на руках. После него осталось сто семнадцать живых членов его семейства. В праздники за стол Ив. Вас. садилось до восьмидесяти его родных, помимо разных артистов, чиновников и т. д. Cтapшиe сыновья его, Алексей и Николай, продолжали портовую торговлю под фирмой „Ивана Кусова сыновья", не взирая на то, что были в чинах и орденах, следовательно и дворяне. Дом Кусовых отличался необыкновенным радушием и хлебосольством. Встарину так жили не только богачи и дворяне, но и купцы чуть-чуть зажиточные; теперь уж все это переходит в предание!Другой такой богатый купец, Жербин, вышел в дворянство также очень давно. Торговал он лесом у Калинкина моста, где и имел великолепный дом, роскошная зала, в котором в два света, отделана была с царской роскошью. Один из наследников Жербина владеет теперь большими домами на Михайловской площади; по преданию же, первый купец в Петербурге, получивший дворянство, был Меншиков (его наследники тоже известные петербургские домовладельцы); возведен он был в это звание за услуги, оказанным его дедом, московским купцом, царям Иоанну и Петру Алексеевичам; в числе царских наград в его роду сохранялся серебряный кубок, пожалованный деду царевной Софьей. Самый старейший купеческий дом, торгующий в Гостином дворе, это дом Погребова; он основан в 1781 году. В этом доме были два редких сотрудника, гг. А. П. Зайцев и И. И. Гласков, которые, если бы магазин не закрылся, отпраздновали бы свое пятидесятилетнее пребывание в стенах торгового дома; из просуществовавших сто лет купцами известны фамилии гг. Меншуткиных и Лейкиных. Из старожилов Гостиного двора там называли г. А. Сергеева, торговавшего в Суровской линии более шестидесяти лет, затем Ив. Ив. Ванчукова, И. О. Самохвалова и на Суконной линии г. Масляникова.
Гостиный двор со дня постройки не изменил наружного вида, только к Невскому проспекту он в 1886 году переделан; к удобству магазинов много содействовала пневматическая топка, устроенная с 1837 года.
Первый теплый магазин был купца Бобренкова, на Малой Суровской линии. При постройке Гостиного двора будущее отопление лавок строителем было предусмотрено, и в каждом номере были выведены дымовые трубы; на случай же пожара, внутри Гостиного был выкопанъ обширный пруд для воды. До 1803 года, в Гостином дворе на линии перед лавками были устроены шкафы; кроме того, что от них на галлерее была теснота, прохожие еле проходили, рвали платье и т. д., но еще наемщики лавок терпели и ту невыгоду, что хозяева лавок отдавали лавку в наймы одному, а шкаф — другому. Наемщику лавки от этого происходил подрыв в торговле. В 1803 году, торговцы подали жалобу тогдашнему военному губернатору, графу Толстому; узнав о жалобе, лавковладельцы явились с просьбой; лавковладельцам отказали. В дело даже был пущен подкуп в 25 т. руб., кому следовало (см. Записки В. Н. Гетуна „Истор. Вест.“, янв. 1880, стр. 283). Дело доходило до императора Александра I. Государь решил оставить только те шкафы, которые на углах против лавок устроены в стенах и не мешают проходу, а прочие все снять, нимало не медля, галлерею очистить и впредь ее ничем не загромождать.
|
Вид Гостиного Двора в начале нынешнего столетия. С акварели Патерсона 1804 года. |
В начале нынешнего столетия, Гостиный двор имел пять гранитных ступенек при входе; с поднятием тротуара и мостовой, последние ушли в землю. Стены Гостиного, как и фундамент, отличаются необыкновенной прочностью; что же касается фундамента кладовых внутри двора, то он сделан из одного крупного булыжника и при кладке новых этажей всегда требует переделки.
Газовое освещение в Гостином уже явилось в сороковых годах. Владельцы лавок долго не решались проводить его, их сильно пугали частые взрывы и пожары от газа; проведение газа в Петербурге было предпринимаемо в 20-х годах. Первый осветился газом главный штаб, затем, в 1825 году, только что построенный гр. Милорадовичем, в самое короткое время, очень красивый деревянный театр у Чернышева моста, фасадом на Фонтанку (где теперь здание министерства внутренних дел). Цена лавки (стен) в Гостином, лет 30 назад, не превышала двенадцати тысяч руб., теперь же на Большой Суровской линии доходит до 80000 рублей. Наем в год прежде ходил не дороже 600 руб., теперь 4, 5 и 6 тысяч. Наибольшим количеством лавок владеют в Гостином гг. Е. Е. Куканов и Миняев; у первого, по слухам, вместе с кладовыми их 18 номеров. Внутри Гостиного, параллельно наружному зданию, идет второй ряд лавок, вмещающий в себе кладовые, а также лавки с железными и медными изделиями; в среднем дворе помещается важня (большие весы) и столовая.
В 1853 году, чуть-чуть Гостиный двор не утерял своей вековой наружности с Невского проспекта; в этом году, подпоручик Нелидов выхлопотал дозволение впереди Суконной линии построить новое здание с магазинами; на это позволение комитет Гостиного двора принес жалобу военному генерал-губернатору, П. Н. Игнатьеву, и доказал указом, данным 21 мая 1758 года императрицей Елизаветой, „что земля против Суровской линии не есть соседственное ему место, а есть непременная принадлежность выстроенных по этой линии лавок, определенная для свободного проезда к ним, а потому в отношении чистоты и мощения и освещения в продолжение 90 лет содержится на средства владельцев лавок. В 1881 году, было еще другое посягательство на перестройку Гостиного двора: какая-то французская компания предлагала свои услуги.

1 - В. А. Плавильщиков был родной брат П. А. Плавильщикова, известного актера и автора многих театральных пьес. У него был еще третий брат, А. А. Плавильщиков, статский советник, известный тоже своей ученой деятельностью.
2 - На этом месте во времена Петра по праздничным дням собирались разные мастеровые, крестьяне и т. д.; подгуляв в кружале (кабаке), они разбивались на две стороны и вступали в кулачный бой. Обыкновенно, такие схватки происходили с дикими криками и не без серьёзного кровопролития. Иностранцы, видя, что в подобные беспорядки не вмешивалась полиция, думали, что они допускались для приучения молодых людей к бою, чтобы из них впоследствии выходили хорошие солдаты.
3 - По другим источникам, с 1780 года; последнее известие надо считать более близким к правде.
4 - См. „Воспоминания Алекс. Мих. Каратыгиной".
5 - П. И. Страхов (1757 - 1813 гг.), профессор опытной физики, друг Еф. Ив. Кострова, секретарь Хераскова и известный переводчик и сотрудник издания Н. Ив. Новикова.
6 - В то время, на верхней линии было 24 меховые лавки, торговали еще два травяника, Гокашкин и Балашов, и затем помещалось еще 18 мебельных лавок; в одной из последних, под № 123, купец Хабаров продавал и отдавал на прокат маскарадные костюмы.
7 - Петр Татаринов, автор множества патриатических стихотворений, во время Крымской войны, поэмы „Пассаж“ и затем водевиля „Папиросы с сюрпризами".
8 - См. „Литературный Листок“, 1824 г., март, № 5; „Северный Архив“ и „Северную Пчелу".
9 - Аблесимов написал в своем журнале „Собрание забавных басен“, Спб., 1781 г., следующую эпиграмму на таких купцов.
„Престранное то дело:
Купечество свое кидает ремесло,
Пускаясь из них иные смело,
Собой умножить чтоб военное число,
Повидимому, ясно:
И всяк степенный муж об оном мнит согласно;
Дала судьба им хлеб, так дай же им и честь,
У них де уж теперь довольно денег есть"...