
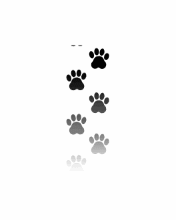
Исчезнувшие без следа
Из года в год в разных уголках нашей земли пропадают сотни людей. У этого явления разные причины: кто-то спустя время обнаруживается живым-здоровым, кого-то находит полиция, третьи просто пускаются в бега…
Но есть немало случаев, когда человек исчезает, а обстоятельства его исчезновения так и остаются загадкой. Сухие же цифры всезнающей статистики таковы, что в год на планете бесследно исчезают два миллиона человек.
По отдельным странам такие данные тоже впечатляют. Англия недосчитывает в год 5000 своих граждан, Франция, соответственно, 7000, в жаркой Италии испаряется в никуда 8500 человек, а вот в Германии аж 9000 законопослушных немцев теряются непонятным образом.
Феномен исчезновения известен с древнейших времен. В Новгородских летописях ХVII века говорится о пропаже инока Кирилова монастыря Амвросия, который исчез на глазах изумленных монахов прямо во время трапезы.
Летописец XV века писал об одной скандальной торговке Манке-Козлихе, которая на глазах множества людей в базарный день исчезла на площади Суздальского княжества, на что народ говорил, что ее, мол, «черт забрал». В те времена полагали, что в таких делах не обходится без нечистой силы.
12 декабря 1829 года таинственно исчез Джон Ленсинг - бывший судья, занимавший пост экономического советника Колумбийского колледжа. Он присутствовал на конференции этого колледжа, потом пошел в отель, где написал несколько писем и решил отнести их на почту. Именно здесь 65-летний Джо бесследно пропал. Поиски полиции ни к чему не привели.
Наиболее трудно объяснить феномен исчезновения людей на виду у свидетелей. Скажем, только что человек шел по тротуару, и через секунду его нет. Так произошло в июле 1854 году в американском городе Селма, штат Алабама, с Орионом Уильямсоном, причем свидетелями были его жена, дочери, соседи. Сравнимый случай произошел и в штате Теннесси в 1880 году. На глазах у своей жены фермер Девид Ленг, вышедший на террасу своего дома, мгновенно исчез – словно растворился…
А вот еще один пример. Десятилетний Оливер Томас из Райядара, Уэльс, в 1909 году на пару минут вышел во двор и направился к колодцу, чтобы набрать воды. Родители находились в доме и, услышав крик: «Помогите! Они схватили меня!», выбежали на улицу. Но никого не увидели - мальчик исчез бесследно.
Жертвой исчезновения стал и Люсьен Бусье, сосед по этажу и пациент доктора Бонвилена. Было это в 1867 году в Париже. Люсьен вечером пришел к доктору, чтобы тот осмотрел его и проконсультировал. Доктор попросил посетителя раздеться и лечь на кушетку, а сам отвернулся к столу, чтобы взять лежащий там стетоскоп.
Каково же было его удивление, когда, повернувшись к кушетке, он никого там не нашел. Только на стуле осталась одежда Бусье. Врач решил, что тот почему-то ушел к себе домой, подошел к квартире соседа и постучал. Но ему никто не ответил. Тогда доктор заявил в полицию, но поиски ничего не дали, человек пропал…
Но порой пропадают не только отдельные люди... 20 мая 1937 года началось кругосветное путешествие на двухмоторном самолете со специальным оснащением, команда которого состояла из летчицы Амелии Ирхарт (первого пилота) и второго пилота Фреда Нунана. При полете за самолетом велось наблюдение с земли.
Команда пролетела над Флоридой, Бразилией, Африкой, Индией, Австралией. Остановку сделали 2 июля, заправившись в городе Лаэ, Новая Гвинея, а затем полетели дальше. Спустя несколько часов с самолета последовало очень короткое радиосообщение о том, что все идет по плану, и больше летчики не подавали никаких сигналов. Поиски, в которых приняли участие многочисленные силы войск и полиции, муж Амелии, друзья их семьи, так и не увенчались успехом.
…Бесследно пропала в 1939 году во время строительства одного из лагерей бригада заключенных вместе с охранявшим их отделением войск НКВД. Было это в 150 километрах севернее Красноярска, в заболоченной местности, которую называют Чертовым курганом.
Когда велось следствие по делу исчезновения, то не нашли никаких улик, ни малейшей зацепки, которая указывала бы, скажем, на побег группы зэков. Но что удивительно: были найдены шапки и солдат, и заключенных – ровно столько, сколько пропало людей.


Открытый за 300 лет до этого испанским конкистадором Васко Нуньесом де Бальбоа, Тихий океан только к концу XVIII века начал активно изучаться и картографироваться европейцами. Большой вклад в это внесли три плавания английского капитана Джеймса Кука, совершенные в 1768 - 1779 годах. Экспедиция Лаперуза ставила себе целью обеспечить Франции место в одном ряду с Британией, бывшей в то время ведущей морской державой.
 |
| Лаперуз (слева) объясняет маршрут своей экспедиции королю Людовику XVI |
Опытный мореплаватель
Когда Лаперуз отплыл из Бреста, ему еще не исполнилось 44 лет, но он уже достиг вершины карьеры морского офицера, которую начал гардемарином в возрасте 15 лет в 1756 году - в начале Семилетней войны между Францией и Англией. В 1783 году, послужив родине в 18 кампаниях, он удалился в родовое поместье на юге Франции, но отставка длилась недолго - вскоре ему было предложено возглавить экспедицию, которая должна была открыть «все земли, ускользнувшие от зоркого глаза капитана Кука».
Для снаряжения экспедиции не жалели усилий. На борт двух 500-тонных фрегатов, названных по имени морских приборов «Буссоль» и «Астролябия», грузили запасы провизии для четырехлетнего плавания. Корабельные библиотеки снабдили новейшими картами и отчетами предыдущих экспедиций, имелась на борту и переносная обсерватория. Среди товаров, предназначенных для подарков туземцам и обмена, были 600 зеркал, 2600 расчесок, 1260 фунтов стеклянных бус и 50 000 швейных игл.
За право войти в число 200 с лишним участников плавания шла острая борьба. Среди претендентов был и 16-летний младший лейтенант из Парижской военной школы, корсиканец по имени Наполеон Бонапарт. Он был включен в предварительный список, но потом его вычеркнули и он остался во Франции, что имело громадные последствия для истории его страны.
Наконец наступил момент отплытия. Ранним августовским утром под приветственные крики толпы и гром орудийного салюта «Буссоль» и «Астролябия» отошли от брестского причала и скрылись в предрассветной мгле.
|
|
| В начале 1786 года корабли Лаперуза, обогнув мыс Горн, вошли в Тихий океан. Их путь по просторам Великого океана и вдоль его побережий, закончившийся крушением у о. Ваникоро, показан на карте внизу. |
Трагедия на Аляске
25 января 1786 года оба судна, пройдя Атлантику, обогнули мыс Горн и вошли в Тихий океан. После захода в Вальпараисо, Чили, 8 апреля они достигли острова Пасхи. Следующей остановкой был остров Мауи Гавайского архипелага, за 8 лет до этого открытого Куком (где английский мореплаватель был убит враждебно настроенными туземцами).
|
Сотрудничество бывших противников Большую часть своей морской службы Лаперуз провел, сражаясь с англичанами. Тем не менее в экспедиции он получал от былых врагов поддержку - благодаря своему гуманному поступку в годы Войны за независимость в Северной Америке. Меховой промысел в Канаде был для Англии источником богатства; его уничтожение было бы на пользу восставшим колонистам и их союзникам- французам. Когда в 1782 году Лаперуз получил приказ напасть на меховые фактории Англии в Гудзоновом заливе, он действовал быстро и решительно. Он разрушил британские форты, но пощадил дома англичан, скрывшихся в безлюдных, диких местах; он даже оставил им продукты и другие припасы, чтобы они смогли пережить приближающуюся зиму. Поступить иначе, объяснял Лаперуз такую снисходительность, было бы бесчеловечно. Проявленное Лаперузом милосердие не было оценено в Париже, зато его не забыли в Англии. Поэтому, когда три года спустя он собрался в экспедицию на Тихий океан, англичане охотно согласились способствовать его научной миссии. Французскому посреднику дали ознакомиться с картами и донесениями капитана Джеймса Кука, который в трех плаваниях по Тихому океану в 1768 - 1779 годах завоевал славу величайшего исследователя новых земель. Среди бумаг Кука были и 20 мелко исписанных страниц о профилактике и лечении цинги. Лаперуз явно кое-чему научился у Кука, и доказательством служит тот факт, что, насколько известно, в течение тех трех лет его экспедиции, о которых сохранились свидетельства, никто из его матросов не страдал от цинги. Отплывая из Бреста в 1785 году, Лаперуз взял с собой две «магнитные стрелки» - компасы, совершившие кругосветное путешествие с капитаном Куком. Лаперуз получил их в дар от Королевского научного общества Великобритании и относился к ним как к реликвиям - то есть, как писал он сам, «с чувством, граничащим с почти что религиозным благоговением перед памятью этого великого и несравненного мореплавателя». |
Первым, что увидели участники экспедиции на североамериканском побережье, была гора Св. Ильи на северной оконечности той части Аляски, что узкой полоской тянется между Канадой и Тихим океаном. Когда, двигаясь на юг, французы составляли карту побережья, их постигло несчастье. Волнами опрокинуло две лодки, проводившие замеры глубины у входа в залив; погиб 21 человек, в том числе шесть офицеров. Тем не менее Лаперуз продолжал исследовать побережье и к исходу лета спустился на юг до Монтерея в Калифорнии.
Из Калифорнии экспедиция направилась на запад и 3 января 1787 года достигла португальской колонии Макао в устье Жемчужной реки (Чжуцзян) в Китае. Подремонтировав корабли и пополнив припасы на Филиппинах, Лаперуз в апреле взял курс на север, чтобы исследовать побережье Азии: путь экспедиции пролегал мимо Тайваня, между Кореей и Японией, через Японское море и пролив, разделяющий Японию и принадлежащий России остров Сахалин.
К концу второго лета корабли достигли Камчатки. Здесь Лаперуз оставил одного из своих офицеров по имени де Лессеп, говорившего по-русски, с заданием пересечь Сибирь и доставить в Европу доклад о достижениях экспедиции.
 |
|
Величественные ледниковые вершины вздымаются над заливом Аляска, где «Буссоль» и «Астролябия» бросили якорь в 1786 году. Рисунок участника экспедиции Дюша де Ванси. |
Второе несчастье. Случайная встреча. Безмолвие
К сентябрю 1787 года экспедиция снова оказалась в южных широтах. Чтобы пополнить запас пресной воды, сделали остановку на Тутуиле, ныне главном острове принадлежащего США Восточного Самоа. Вооруженные дубинами и камнями туземцы напали на баркасы и убили 12 человек, включая Флёрио де Лангля, капитана «Астролябии» и заместителя начальника экспедиции. 43 человека спаслись, хотя половина из них получила серьезные ранения. Французы поспешно ретировались и направились к восточному побережью Австралии.
Войдя в конце января 1788 года в залив Ботани, французы, к своему удивлению, встретили там британскую эскадру. Это был знаменитый Первый флот - семь судов, доставивших из Англии около 750 заключенных. Эти мужчины, женщины и дети основали в Австралии первую колонию. Лаперуз отправил с возвращавшимися домой англичанами письма и донесения: в одном из них он обещал вернуться на родину к июню 1789 года.
10 марта «Буссоль» и «Астролябия» покинули Австралию и взяли курс на северо-восток. Больше их никогда не видели. «Он бесследно исчез в безбрежном синем океане, - напишет о Лаперузе шотландский эссеист Томас Карлейль, - и лишь скорбная, загадочная тень его долго не покидает наши умы и сердца».
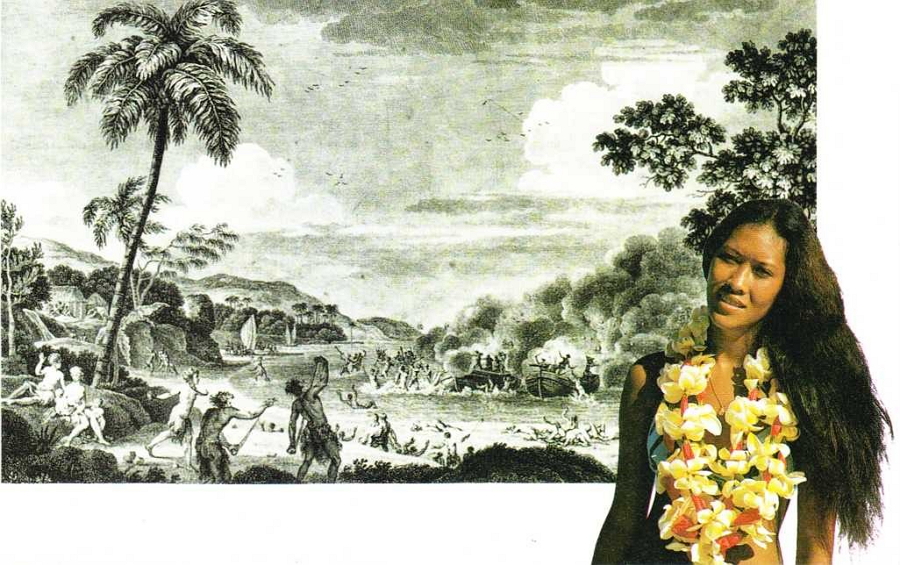 |
|
Как правило, островитяне Южных морей встречали французских мореплавателей дружелюбно. Однако на Тутуиле, одном из островов Самоа, туземцы неожиданно напали на отряд, посланный на берег за пресной водой. Сегодня на некоторых тихоокеанских островах женщины, приветствуя приезжих, надевают себе на шею цветочные гирлянды леи (цветная фотография внизу). |
Неудачные поиски
К лету 1789 года от Лаперуза уже больше года не поступало сведений, но у Франции были более важные заботы, чем волнения по поводу пропавшей экспедиции. 14 июля толпы парижан штурмом взяли тюрьму Бастилию - то было начало революции, которая сотрясала страну до конца столетия и завершилась тем, что Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором.
Лишь спустя два года французское правительство наконец что-то предприняло, объявив награду за любые сведения о пропавшей экспедиции Лаперуза и направив на ее поиски два корабля под командованием контр-адмирала Жозефа Антуана Брюни Д’Антркасто. 25 сентября 1791 года они вышли из Бреста.
Прочесывая Тихий океан в поисках «Буссоли» и «Астролябии», Д’Антркасто сделал несколько научных и географических открытий. В мае 1793 года он подошел к острову Ваникоро из группы островов Санта-Крус к северо-востоку от Австралии.
Над несколькими возвышенностями на этом гористом, густо поросшем лесом острове экипаж заметил столбы дыма. Д’Антркасто был убежден, что нашел Лаперуза или по крайней мере остатки его экспедиции. Но после того, как его корабли чуть не сели на мель на коварных рифах, он был вынужден уйти, так и не послав на берег поисковый отряд. Потом адмирал заболел и через два месяца умер, а осенью того же года на Яве его корабли были захвачены голландцами: к тому времени революционная Франция уже воевала с Голландией и практически со всей остальной Европой. Больше французы не предпринимали попыток найти экспедицию Лаперуза.
| Драка из-за Венеры | ||
|
Обнаружение останков двух кораблей Лаперуза было далеко не самой важной находкой мореплавателя Дюмон-Дюрвиля. В 1819 - 1820 годах, почти за десять лет до высадки на острове Ваникоро, этот молодой офицер участвовал во французской экспедиции на острова Греческого архипелага. Во время стоянки на острове Милос он случайно увидел статую, незадолго до этого найденную в земле местным крестьянином и спрятанную в загоне для коз. Получивший хорошее образование, Дюмон-Дюрвиль узнал в ней Венеру, или Афродиту, греческую богиню любви. В руке она держала яблоко, врученное ей Парисом как самой красивой из трех соперничавших богинь. У француза не было денег, чтобы заплатить запрошенную крестьянином цену, но он понимал, какое перед ним сокровище. Неизвестный скульптор второго века до н.э. создал шедевр, в котором мягкость |
Даже без рук Венера Милосская занимает почетное место в Лувре, Это один из великих мировых шедевров. |
линий обнаженного торса богини подчеркивалась богатыми складками драпировки, прикрывающей нижнюю часть тела. Дюмон-Дюрвиль решил, что обязан приобрести ее для своей страны. Ему удалось убедить посла Франции в Константинополе направить с ним на Милос дипломата, чтобы купить статую. К несчастью, крестьянин успел продать ее турецкому чиновнику, и Венеру уже приготовили к отправке. Щедрая взятка Дюмон-Дюрвиля помогла крестьянину «вспомнить», что французы заплатили за статую раньше и поэтому она не могла достаться туркам. Помещенную в деревянный ящик Венеру спешно отправили на носилках на берег, чтобы погрузить на корабль Дюмон-Дюрвиля. Турки бросились в погоню. В результате начавшейся схватки статуя лишилась обеих рук, так никогда и не найденных. |
Сорок лет спустя: первые свидетельства
В мае 1826 года ирландец по имени Питер Диллон, бороздивший южную часть Тихого океана в поисках выгодной торговли и приключений, сделал остановку на островке Тикопиа из группы островов Санта-Крус. Когда он спросил туземцев, откуда у них ожерелья из стеклянных бусин, те показали ему и другие предметы явно европейского происхождения: серебряные вилку и ложку, ножи, чайные чашки, железные болты и серебряную рукоять шпаги с буквами «J.F.G.P.». Эти вещи, как выяснил Диллон, туземцы получили при меновой торговле от жителей острова Ваникоро, расположенного от Тикопиа в двух днях хода под парусом.
Диллон быстро догадался, что инициалы на шпаге означали Jean Francois Galaup de La Perause - Жан Франсуа Гало де Лаперуз. Но его попытки попасть на Ваникоро к успеху не привели: сначала его корабль попал в штиль, а потом обнаружилась течь, так что ему пришлось уйти на Яву. К концу лета он сумел раздобыть денег на поиск оставшихся в живых участников экспедиции Лаперуза, но прежде чем он оказался на Ваникоро, прошел еще год.
Много лет назад, рассказал ему старый туземец, в шторм два корабля сели на мель на окружающих остров рифах. Один тут же затонул, и большинство членов его экипажа утонуло или было съедено акулами. Но второе судно удержалось на рифе, и уцелевшие моряки смогли соорудить из его останков небольшую лодку, в которой «через много лун» они уплыли. Двое чужеземцев - один «вождь», а другой его слуга - остались на острове и еще несколько лет назад были живы. Повсюду на Ваникоро отряд Диллона находил свидетельства пребывания здесь французов, в том числе корабельный колокол с гравировкой и доску с вырезанными на ней геральдическими лилиями.
 |
||
|
|
Многие острова в Тихом океане могут показаться земным раем (вверху); но большинство из них окружено опасными коралловыми рифами, подобными рифам о. Ваникоро, где погибли «Буссоль» и «Астролябия» (слева). Справа - корабельный колокол «Астролябии». |
|
Окончательное доказательство
В феврале 1829 года Диллон привез то, что осталось от несчастной экспедиции Лаперуза, в Париж. Предметы опознал тот самый де Лессеп. который летом 1787 года сошел на берег на Камчатке, чтобы доставить доклад об итогах двух лет плавания, и потратил целый год, чтобы пересечь Сибирь.
Слухи о находках Диллона достигли Парижа гораздо быстрее, чем он сам, и по официальному распоряжению в южную часть Тихого океана отправился поисковый отряд под командованием Жюля Себастьяна Сезара Дюмон-Дюрвиля. В начале 1828 года он бросил якорь вблизи острова Ваникоро.
Туземцы показали Дюмон-Дюрвилю проход в рифах, который они называли Коварным или Гибельным проходом. В тот ненастный день много лет назад «Буссоль», флагманский корабль Лаперуза, прокладывал путь в казавшуюся безопасной гавань - и потерпел крушение, напоровшись на коралловый риф с острыми краями, скрывавшийся под самой поверхностью воды. «Астролябия» поспешила на помощь и села на мель. «На дне, на глубине трех-четырех саженей, - писал Дюмон-Дюрвиль, - наши матросы видели якоря, орудия, ядра и множество свинцовых пластин». Последние сомнения, что они действительно нашли то место, где покоились два корабля Лаперуза, рассеялись, когда матросы подняли с рифа предметы, неоспоримо принадлежавшие этим кораблям. Перед тем как покинуть Ваникоро, Дюмон-Дюрвиль поставил на острове памятник Лаперузу и 200 другим участникам его печально закончившейся экспедиции.
В 1964 году на Ваникоро были сделаны новые находки, но никто уже никогда не узнает, пережил ли Лаперуз кораблекрушение, и если да, то остался ли он на острове, где, по рассказам, еще за три года до прибытия туда в 1826 году Диллона жили два француза, или уплыл на самодельной лодке через несколько месяцев после катастрофы.
Тихий океан хранит свои тайны, но на его необъятных просторах памятником Лаперузу остались названия, данные им географическим объектам от острова Пасхи до Гавайев, Японии и Австралии.

В ту роковую субботу, а это был рабочий день, 5000 служащих Рейхсбанка, главного банка нацистской Германии, прятались в глубоком подвальном бункере построенного в начале века монументального, величественного здания. На Рейхсбанк сбросили 21 авиабомбу, превратив его в руины.
Никто из работников Рейхсбанка, включая его всемирно известного президента д-ра Вальтера Функа, не погиб при этом страшном налете, но разрушение финансового центра страны-агрессора положило начало серии событий, которые вылились в одну из самых интригующих и до сих пор неразгаданных тайн истории. Казалось очевидным, что, когда армии союзников наступают по всей стране, немцы тайно вывезут богатства Германии в безопасное место. На самом деле алчные чиновники постараются урвать для себя миллионные сокровища и так надежно спрячут золото и валюту, что их никогда не найдут.
В сейфах Рейхсбанка хранилась большая часть золотого запаса нацистской Германии, оцениваемого, в сегодняшних ценах, примерно в 7,5 миллиарда долларов, в том числе 1,5 миллиарда итальянского золота.
 |
| К концу войны лишь развалины Рейхстага возвышались над опустошенным Берлином. |
Тайник с миллиардами
Доктору Функу было достаточно одного взгляда на уничтоженный бомбами и пожаром банк. Он немедленно перевел руководящих сотрудников в другие города, чтобы продолжать работу Рейхсбанка, а золотой и денежный запасы приказал отправить в большую шахту, где добывали калийную соль, в 300 километрах юго-западнее Берлина. Шахта Кайзерода, от которой до ближайшего городка было около 50 километров, представляла собой прекрасный тайник на глубине 800 метров. Ее штольни, общей протяженностью в 50 километров, имели пять отдельных входов. Для тайной перевозки большей части нацистских запасов — примерно 100 тонн золота и 1000 мешков с купюрами потребовалось 13 железнодорожных вагонов.
Однако уже через семь недель 3-я американская армия под командованием генерала Джорджа С. Паттона приблизилась к этому району. Невероятно, но немцам помешали вывезти золото пасхальные праздники - не нашлось достаточно вагонов, тем не менее представители Рейхсбанка смогли забрать из шахты 450 мешков с бумажными деньгами. 4 апреля в этих местах уже были американцы. Спустя два дня военный патруль встретил на сельской дороге двух француженок, насильно угнанных в Германию, и, следуя приказу, который ограничивал передвижение гражданских лиц, отвез их обратно в город Меркерс, откуда они шли. Когда машина проезжала Кайзероду, одна из женщин сказала: «Это шахта, где немцы прячут золото».
| Пропавшая комната | |
|
|
До сих пор остается неизвестной судьба замечательной Янтарной комнаты, сделанной из резного янтаря. Первоначально она принадлежала королю Пруссии Фридриху Вильгельму I, который подарил ее своему русскому союзнику царю Петру I. Петр поместил щедрый дар во дворце в пригороде Петербурга, расширив комнату до размеров банкетного зала и добавив 24 зеркала и перламутровый пол. Спустя два столетия, во время Второй мировой войны, вторгшиеся в Россию немцы вернули прусский подарок в Кёнигсбергский замок. Короткое время Янтарная комната была открыта для посетителей, но затем ее разобрали и спрятали в подвал - прежде чем английские бомбардировщики разрушили город в августе 1944 года. После войны в разрушенных подвалах замка не обнаружили никаких следов уникального сокровища. Ходили слухи, что фашисты пытались вывезти Янтарную комнату на корабле, но его потопила советская подлодка. В 1959 году появилось свидетельство, согласно которому ее спрятали в соляной шахте, где хранились и другие произведения искусства. Но стоило следователям приблизиться к предполагаемому тайнику, как произошел непонятный взрыв, ствол шахты затопило водой и проникнуть в нее стало невозможно. |
7 апреля американские офицеры спустились на глубину 640 метров и обнаружили там в соляной пещере 550 оставленных немцами мешков с миллиардом рейхсмарок. Взорвав динамитом стальную дверь зала номер 8, они попали в помещение длиной 46, шириной 23 и высотой 3,5 метра, где оказалось еще более 7000 пронумерованных мешков. В подземной кладовой было 8527 золотых слитков, золотые монеты из Франции, Швейцарии и США и множество пачек бумажных денег этих стран. Золотая и серебряная посуда, расплющенная, чтобы удобнее было хранить, и сложенная в ящики и сундуки. Чемоданы, полные бриллиантов, жемчуга и других драгоценных камней, украденных у узников лагерей смерти, а рядом - мешки, набитые золотыми коронками и пломбами. Плюс к этому - в небольших количествах - английские, норвежские,
турецкие, испанские и португальские деньги. Если же сложить все вместе, то тайник в шахте представлял собой одно из самых богатых хранилищ в мире в то время. Там были спрятаны целых 93.17 процента всех золотовалютных резервов Германии на конец войны.Но на этом находки не закончились. В других тоннелях, в разных направлениях прорубленных в мягкой породе, были обнаружены произведения искусства общим весом до 400 тонн, в том числе картины из 15 немецких музеев и ценные книги из библиотеки Гете в Веймаре. Под строгой охраной сокровища Кайзероды в 11750 ящиках погрузили на 32 десятитонных грузовика и доставили во Франкфурт, где их разместили в хранилищах местного филиала Рейхсбанка. Вопреки слухам о том. что один из грузовиков по дороге исчез, при перевозке ничего не пропало.
Потерянные сокровища
По мнению гитлеровского шефа пропаганды Йозефа Геббельса, из-за того, что Функ «преступно нарушил свой долг», богатство рейха попало в руки противника, однако фюрер одобрил попытку эвакуировать оставшиеся ценности. На самом деле замысел принадлежал офицеру его личной охраны полковнику полиции Фридриху Йозефу Рауху. Следуя примеру гестапо, которое уже начало перевозить свое золото, драгоценности, произведения искусства и бумажные деньги в шахты, на дно озер и в другие тайники в горах южной Баварии и на севере Австрии, полковник Раух предложил вывезти в Баварию и укрыть в безопасном месте оставшиеся в Рейхсбанке 6,83 процента официального золотого запаса. Эти слитки и монеты сегодня, наверное, стоили бы около 150 миллионов долларов.
Валюту погрузили на два поезда, а золото в слитках и монеты приготовили к отправке на машинах. По дороге коллега д-ра Функа Ханс Альфред фон Розенберг-Липински приказал снять мешки с деньгами с поезда и перегрузить на машины. В конце концов колонна грузовиков с рейхсмарками, золотыми монетами и слитками и иностранной валютой прибыла в маленький городок в баварских Альпах. Поезда же продолжали свой путь в Мюнхен. Один мешок с иностранной валютой и пять небольших ящиков Розенберг-Липински «по определенным соображениям» оставил у себя. Представляется вполне вероятным, что этот банковский начальник готовил себе безбедное будущее.
Его примеру следовали и другие. Груженные сокровищами машины направились в учебный центр пехоты. Пока раздраженные офицеры спорили о том, где лучше спрятать оставшиеся ценности, сотрудник Рейхсбанка Эмиль Янушевски, судя по всему, взял два слитка золота. Когда позднее кто-то,
безуспешно пытаясь разжечь печь в офицерской столовой, обнаружил слитки в дымоходе, Янушевски, уже немолодой, всеми уважаемый человек, покончил с собой. К этому времени все остальное золото уже было захоронено в водонепроницаемых шурфах неподалеку от уединенного альпийского шале, известного как Лесной домик. Бумажные деньги разделили на три части и спрятали на трех горных вершинах. Впоследствии, два найденных в дымоходе золотых слитка и большое количество валюты оказались в руках некоего Карла Якоба. Больше их никогда не видели.Вскоре д-р Функ и другие нацистские начальники были арестованы союзниками, но никто из них не признался, что знает, где спрятано пропавшее золото. В конце концов американские военные нашли золото Рейхсбанка на сумму около 14 миллионов долларов, а также золото на сумму 41 миллион долларов, принадлежавшее другим ведомствам нацистской Германии, но ценности, скрытые вблизи Лесного домика, так и не отыскались. Четыре года американские следователи усердно пытались разгадать эту тайну, однако в конце концов были вынуждены доложить, что примерно 3,5 миллиона долларов в золоте и около 2 миллионов бумажными деньгами (соответственно 46,5 миллиона и 12 миллионов в нынешних ценах) бесследно исчезли.
| Украдено художественное наследие Европы |
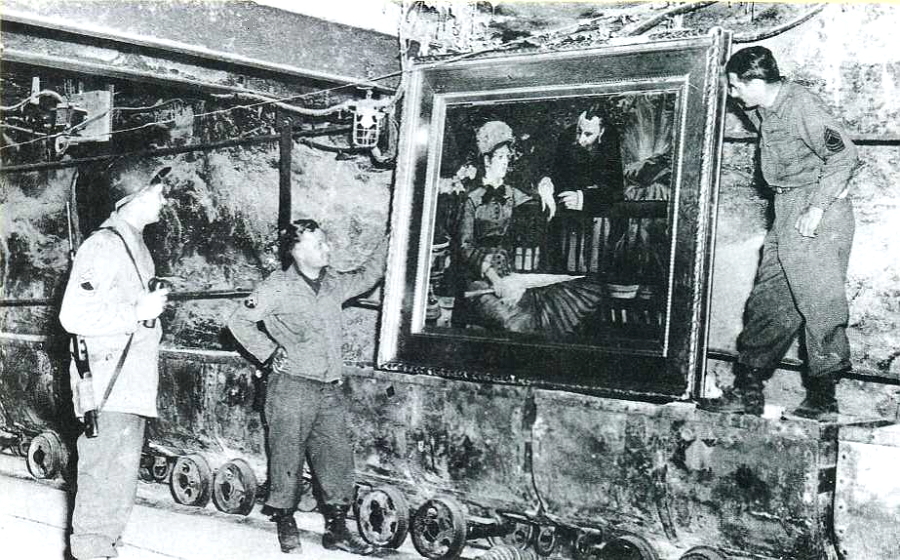 |
|
После поразительной находки в шахте Кайзерода ее посетили верховный главнокомандующий экспедиционными войсками союзников в Западной Европе Дуайт Эйзенхауэр и четыре его генерала, в том числе Джордж Паттон. Вспоминая, как впервые увидел бесценные полотна, Паттон писал: «Те, что я видел, стоили, на мой взгляд, два с половиной доллара и относились к тому сорту картин, что обычно висят в американских барах». Другие придерживались иного мнения, ведь эта коллекция включала в себя шедевры Ренуара, Тициана, Рафаэля, Рембрандта, Дюрера, Ван Дейка и Мане (вверху). Но даже эти вершины изобразительного искусства меркли рядом со знаменитым бюстом прекрасной царицы Древнего Египта Нефертити, которому было 3000 лет. Нацистские военачальники захватили огромное количество произведений искусства из музеев и частных собраний оккупированных стран. Многие из них, видимо, погибли в пламени войны, но некоторые были возвращены законным владельцам благодаря неустанным усилиям специальных групп, работавших при Госдепартаменте и Министерстве обороны США. Тем не менее в одном из последних списков, подготовленном в Мюнхене, числятся около 4000 пропавших полотен европейских мастеров. Похищение национальных художественных сокровищ поверженного врага - знакомая тема, повторяющаяся на протяжении истории, начиная с военных походов Ассирии, Египта, Греции и Рима и продолжая кампаниями Наполеона и колониальными войнами Англии. Величественные колонны из красного порфира, украшающие храм Св. Софии в Стамбуле, например, были похищены римлянами из древнеперсидского Персеполя. Знаменитая четверка вздыбленных коней на соборе Св. Марка в Венеции - военный трофей из древнего Константинополя. Принятая в 1907 году Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны прямо разрешает «спасение художественных сокровищ из всех зон боевых действий», но нацисты пошли гораздо дальше, они вывезли из покоренных ими стран художественные ценности на миллионы долларов. Некоторые были выставлены в немецких музеях, другие оказались в тайных хранилищах или украшали богатые дома любившего роскошь окружения Гитлера. Среди особых конфискационных подразделений было и высококвалифицированное «Бильденде Кунст» («Изобразительное искусство»), в которое входили 350 библиотекарей, архивистов и искусствоведов. Их задачей было регистрировать и каталогизировать награбленные богатства, тщательно упаковывать художественные ценности, чтобы не повредить при транспортировке, и подыскивать места для их тайного хранения. По мнению специалистов, вполне возможно, что некоторые пропавшие произведения искусства никогда не отыщутся, так как многие документы о том, где они спрятаны, были утеряны или погибли в последние дни сражений Второй мировой войны. |
Добыча победителей
Не одни только немцы пользовались неожиданными возможностями, когда золото, деньги и уникальные художественные ценности сами шли в руки. К ужасу офицеров, подобных генералу Паттону, который очень щепетильно обращался с германским богатством и говорил: «Я не хочу, чтобы кто-нибудь мог сказать, что сукин сын Паттон стащил хоть какую-то их часть», у многих американских солдат чужое добро липло к рукам. Известно около 300 случаев, когда ценные произведения искусства вывозились в Соединенные Штаты. Виновных судили за присвоение краденого и либо сажали в тюрьму, либо с позором изгоняли с военной службы.
Тем не менее в 1990 году мир был потрясен известием о том, что сокровища из Германии каким-то образом оказались выставленными на продажу наследниками безвестного ветерана войны из захолустного техасского городка.
Владелец магазина скобяных изделий Джо Т. Мидор, судя по имеющимся свидетельствам, хранил бесценное рукописное Евангелие IX века завернутым в одеяло, часто показывая его друзьям и родственникам у себя дома в городке Уайтрайт, примерно в 100 километрах к северу от Далласа. Украшенный орнаментом, иллюстрированный 1100-летний манускрипт в переплете прекрасной работы из золота и серебра принадлежал церкви в немецком городе Кведлинбург. Неожиданно его выставили на продажу в Швейцарии.
Рукопись, которая, по оценкам, стоит 30 миллионов долларов, на шесть веков старше Библии Гутенберга. Она содержит все четыре Евангелия, была написана золотом для императорского двора и в конце X века подарена монастырю старинного города-крепости, возможно, императором Оттоном III и его сестрой Аделейд, аббатисой монастыря.
Оказалось, что найденный Мидором клад включал еще и рукопись 1513 года в богато орнаментированном золотом и серебром переплете, и ковчег IX - X веков, украшенный золотом, серебром и драгоценными камнями. Были в его коллекции предметы в виде сердца и напоминающие блюдо, но самым ценным был сосуд из горного хрусталя в форме епископской митры, в котором, как полагают, хранилась прядь волос Девы Марии. Кроме того, там были золотые и серебряные распятия и гребень XII века, принадлежавший Генриху
I.Эти сокровища были вывезены из Кведлинбургской церкви и спрятаны в шахте, когда союзные войска стали приближаться к этой части Германии в последние дни войны. В апреле 1945 года, если верить документам американских военных, официальные лица, проверявшие этот тайник, нашли «все в целости и сохранности». Однако спустя несколько дней обнаружили, что часть ценных предметов исчезла. Было начато расследование, которое продолжалось три года, но никаких следов так и не обнаружили. С раздела Германии в 1949 году и до падения Берлинской стены в 1989-м. любые контакты жителей Восточной Германии с Западом считались преступлением, и поэтому церковь в Кведлинбурге не могла требовать возвращения украденного.
По всей вероятности, Джо Мидор, в то время лейтенант американской армии, присвоил эти ценности и вывез их в США, таким образом удачно совершив одну из самых крупных краж произведений искусства в XX веке. Он хотел быть учителем рисования, но обстоятельства вынудили его продолжать семейный бизнес в магазине скобяных изделий. Однажды он сказал приятелю, что разрывается между чувством вины и огромным наслаждением, которое он испытывает при виде этих бесценных шедевров.
После смерти Мидора, когда его наследники стали предлагать сокровища из Кведлинбурга на продажу, Налоговое управление США и ФБР начали расследование. После месяцев юридического маневрирования наследники согласились расстаться со всем, что у них осталось, за 2.75 миллиона долларов, что на целый миллион больше, чем залоговая сумма, полученная ими за Евангелие. Многие критиковали такую сделку, и в 1992 году сокровища были возвращены Германии.
|
|
|
В маленьком городке Уайтрайт в Техасе хранились после войны художественные сокровища одной из немецких церквей, включая бесценное рукописное Евангелие. |
 9
апреля 1483 года король Англии Эдуард IV
неожиданно скончался, немного не дожив до 41
года. Его старшему сыну и наследнику было только
двенадцать, и в завещании Эдуард назначил
регентом своего младшего брата Ричарда, герцога
Глостерского.
9
апреля 1483 года король Англии Эдуард IV
неожиданно скончался, немного не дожив до 41
года. Его старшему сыну и наследнику было только
двенадцать, и в завещании Эдуард назначил
регентом своего младшего брата Ричарда, герцога
Глостерского.
Почти 30 лет жители Британских островов страдали от бесконечной вражды между династиями Йорков, одной из эмблем которых была белая роза, и Ланкастеров, чьим символом была алая роза. Позднее эту проходившую с переменным успехом борьбу за английскую корону романтизировали и назвали войной Алой и Белой розы. Как представитель династии Йорков, Эдуард IV объявил трех своих предшественников на троне, ланкастерских королей, узурпаторами, но он знал, что найдутся те, кто станет оспаривать право на престол его юного наследника, Эдуарда, принца Уэльского.
Ричард, показавший себя преданным и находчивым солдатом на службе своего брата и короля, дал клятву верности принцу Уэльскому. Теперь он спешил взять в свои руки управление королевством, в центре которого образовался вакуум власти. 29 апреля Ричард перехватил группу придворных, которые везли юного Эдуарда в Лондон, арестовал их руководителя, дядю мальчика по материнской
линии, и сам сопровождал племянника на оставшемся пути до столицы. Коронация Эдуарда V, первоначально назначенная на 4 мая, была перенесена на 22 июня, и будущего монарха поместили в королевских покоях в Тауэре.Подозревая своего деверя в коварстве, вдова Эдуарда IV Елизавета укрылась с младшим сыном и дочерьми в Вестминстерском аббатстве. В июне регенту удалось убедить Елизавету выдать ему сына, 9-летнего Ричарда, герцога Йоркского, объяснив, что юному королю в Тауэре одиноко.
В воскресенье, которое должно было стать днем его коронации, право Эдуарда V занять трон было поставлено под сомнение. Кембриджский богослов Шей выступил у собора Св. Павла в Лондоне с проповедью, в которой заявил о незаконности престолонаследия. По словам Шея, Эдуард IV женился на Елизавете Вудвилл, будучи обрученным с другой, а значит, их союз по тогдашнему закону был недействителен и их дети - включая юного короля - были незаконнорожденными.
Какое-то время герцог Глостерский делал вид, что не хочет быть королем, но уже 26 июня принял корону и был провозглашен Ричардом III. Царствование короля-мальчика продлилось меньше трех месяцев.
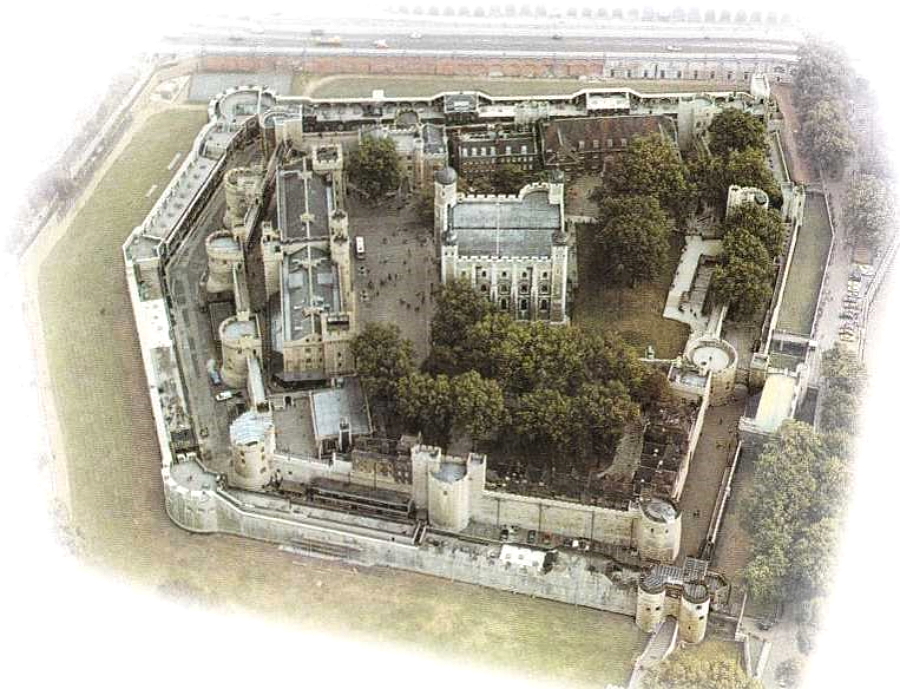 |
|
Лондонский Тауэр, свидетель многих мрачных событий - в том числе, возможно, и убийства двух принцев. |
Обвиняется Ричард III
В течение июля так и не коронованного Эдуарда V, которого теперь презрительно звали Эдуардом-ублюдком, и его брата время от времени видели играющими во дворе Тауэра. Но затем, по свидетельству одного современника, мальчиков перевели в самые удаленные комнаты дворца-крепости, они все реже показывались в забранных решетками окнах, «пока наконец не перестали появляться совсем».
К осени 1483 года распространились слухи, что оба принца были умерщвлены в Тауэре - но кем? В январе 1484 года французский дипломат предупреждал об опасностях, связанных с пребыванием на престоле малолетнего монарха - королю Франции Карлу VIII было всего 14. Сыновей Эдуарда IV убил их дядя, уверенно заявлял он, и, таким образом, корона досталась убийце.
 |
|
Предполагают, что сыновья Эдуарда IV были задушены во сне в лондонском Тауэре. Был ли их дядя, Ричард III (справа), горбатым злодеем, каким его изображали Тюдоры, занявшие английский престол после его смерти? |
Тем временем Елизавета Вудвилл заключила союз с врагами Ричарда, предложив свою старшую дочь в жены претенденту на трон из династии Ланкастеров Генриху Тюдору. В августе 1485 года Ричард III встретился с Генрихом Тюдором в битве на Босвортском поле. В критический момент сражения один из сторонников короля предал его, и Ричард был убит. Предатель снял корону с погибшего монарха и возложил ее на голову Генриха VII. Война Алой и Белой розы закончилась; в Англии воцарилась династия Тюдоров, при которой страну ждал период невиданного расцвета.
Если Ричарду III не давала покоя молва, обвинявшая его в убийстве принцев, то Генриха VII мучили слухи о том, что они живы, а значит, могли претендовать на трон. В конце концов ему удалось создать версию, по которой мальчиков по приказу Ричарда задушили подушками и похоронили под каменными плитами у подножия одной из лестниц Тауэра.
| Шекспировский злодей | |
|
Правление Ричарда III было одним из самых коротких в истории Англии, тем не менее почти каждое новое поколение ученых давало свою оценку этому монарху, В нынешнем столетии появились общества Ричарда III, защищающие доброе имя короля. Но им приходится вести неравную борьбу, ведь против них - гений Уильяма Шекспира. Еще при жизни обвиненный в убийстве двух принцев, Ричард приобрел бессмертную печальную славу век спустя - как герой-злодей одной из ранних пьес Шекспира, исторической драмы «Ричард III».Шекспир писал ее в последнее десятилетие XVI века, в царствование Елизаветы I, и неудивительно, что в своем повествовании он более благосклонен к деду Елизаветы, первому королю из династии Тюдоров Генриху VII. Он показал Ричарда злобным узурпатором, который без колебаний нанимает убийцу, чтобы умертвить «двух врагов смертельных; от них покоя нет мне, нет мне сна... двух незаконнорожденных в Тауэре». Совершив это черное дело. Ричард хладнокровно решает добиваться расположения старшей сестры убитых принцев, уже обещанной в жены его сопернику, Генриху Тюдору. Неприметное уродство - судя по всему, одно плечо у Ричарда было чуть выше другого - было усилено драматургом, и шекспировский Ричард стал проклинающим судьбу горбуном. В счастливом финале пьесы, после победы на Босвортском поле, Генрих Тюдор провозглашает: «Издох кровавый пес... и кончена вражда». |
 |
Запоздалые похороны
В 1674 году, почти через 200 лет после предполагаемого убийства, в ходе строительных работ в Тауэре обнаружили деревянный ящик с двумя детскими скелетами. Было решено, что это останки убиенных принцев, и их перезахоронили в Вестминстерском аббатстве.
В 1933 году костные останки передали для исследования на экспертизу. По заключению специалистов, это были скелеты двух мальчиков того же возраста, в котором находились ко времени своего исчезновения Эдуард V и его брат. Причину смерти не установили, но на челюсти старшего мальчика обнаружили заметное повреждение.
Среди людей, последними видевших принцев в лондонском Тауэре, был и придворный врач, вызванный к Эдуарду V, когда у того заболел зуб. Юный король, рассказывал врач, много молился и ежедневно приносил покаяние, так как был уверен, что ему грозит скорая смерть. «Ах, если бы мой дядя оставил мне жизнь, - сказал он, - даже если я потеряю королевство».
Козлом отпущения сделали сэра Джеймса Тайрелла, его предали суду и в мае 1502 года казнили за «точно не установленную измену». Лишь позднее было объявлено, что Тайрелл перед тем, как ему отсекли голову, признался в убийстве принцев. Все это было принято за правду и вошло в труды историков, как и написанная Томасом Мором биография Ричарда III, опубликованная в 1534 году и позднее использованная Шекспиром при создании драмы «Ричард III».
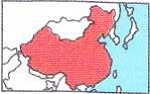 Пекинскую
площадь Тяньаньмэнь окутала тьма. Всю вторую половину дня из репродукторов
разносились военные марши - тысячи студентов и школьников репетировали парад в
честь 22-й годовщины Китайской Народной Республики, который должен был
состояться через две с половиной недели, 1 октября. Теперь же на площади было
тихо и практически безлюдно.
Пекинскую
площадь Тяньаньмэнь окутала тьма. Всю вторую половину дня из репродукторов
разносились военные марши - тысячи студентов и школьников репетировали парад в
честь 22-й годовщины Китайской Народной Республики, который должен был
состояться через две с половиной недели, 1 октября. Теперь же на площади было
тихо и практически безлюдно.
Неожиданно ночное безмолвие нарушил рев моторов, около 50 черных лимузинов на полной скорости выехали на площадь и остановились перед зданием Всекитайского собрания народных представителей. Из машин вышли руководители правительства и правящей Коммунистической партии Китая - не было среди них только министра обороны Линь Бяо.
Позднее той же ночью с аэродрома вблизи курортного города Бэйдайхэ примерно в 270 километрах восточнее Пекина взлетел реактивный «Трайдент». Взяв курс на северо-запад, самолет пересек границу Монгольской Народной Республики и около 2.30 разбился. Среди обломков были найдены девять полуобгоревших трупов, а также оружие, документы и оборудование, говорившие о принадлежности самолета к ВВС Китая. По просьбе китайского правительства тела были погребены на месте катастрофы.
Торжества 1 октября, на которых Линь Бяо должен был занимать почетное место рядом с Председателем Мао, отменили без каких-либо объяснений. Контролируемая властями пресса больше не упоминала ни Линь Бяо, ни других высокопоставленных китайских военачальников.
Это было все, что могли узнать сторонние наблюдатели о событиях 12 - 13 сентября 1971 года из официальных сообщений. Но существовала ли связь между встречей китайского руководства той поздней ночью, случившейся на следующее утро катастрофой самолета и отменой праздничных мероприятий?
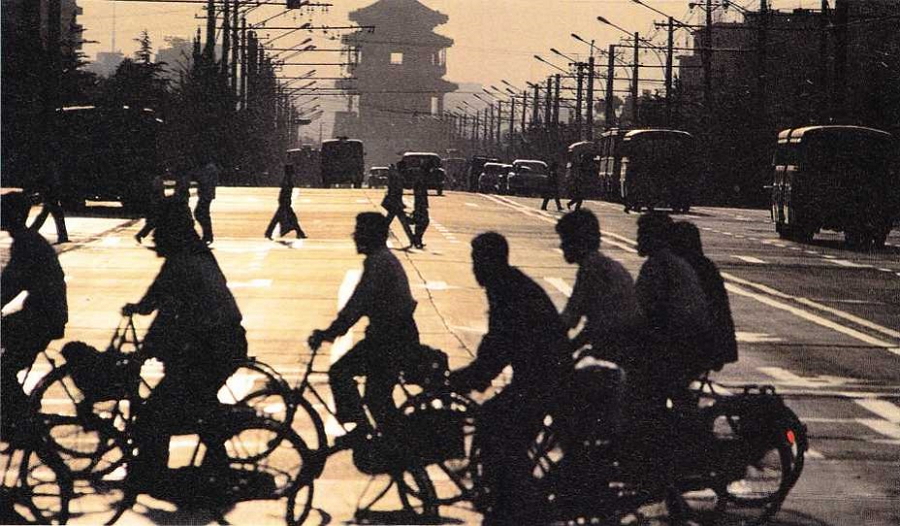 |
|
Осенью 1971 года Пекин жил обычной жизнью, а за кулисами шла ожесточенная борьба за власть. |
Путь наверх
Заслуженный военачальник. Линь Бяо в 1959 году становится министром обороны КНР. Спустя семь лет он получает также пост заместителя Председателя Компартии Китая, а в 1969 году официально объявляется преемником китайского вождя. Его карьера была отмечена демонстрацией безраздельной преданности Мао - именно Линь Бяо, например, приписывают составление «Сборника цитат Председателя Мао Цзэдуна», «красной книжечки» хунвэйбинов, которые неистовствовали во время Великой пролетарской культурной революции. начатой Мао в 1965 году.
Направленная против «партийных руководителей, вставших на капиталистический путь», «культурная революция» была призвана мобилизовать китайскую молодежь на защиту коммунизма. Она, в частности, привела к смещению Лю Шаоци с поста главы государства и укрепила неограниченную власть Мао как руководителя Компартии.
Премьер Госсовета Чжоу Эньлай старался держаться в стороне от этих событий, он лишь желал вернуть силу пошатнувшейся экономике Китая. Но когда он стал восстанавливать партийных деятелей, изгнанных со своих постов за время политических боев, он вступил в конфликт с Линь Бяо, который хотел, чтобы решающая власть была в руках у военных. В отличие от Линь Бяо премьер понимал, как опасно быть вторым человеком после одержимого жаждой власти Мао, и его устраивало до поры до времени занимать третью или даже четвертую позицию в руководящей верхушке.
В августе 1970 года на заседании партийного руководства 62-летний Линь Бяо, которого уже не удовлетворяет положение будущего преемника Мао, делает смелый шаг. Сначала, бесстыдно льстя вождю, он предлагает изменить конституцию, канонизировав Мао Цзэдуна как «гения», а затем предлагает избрать Мао на пост главы государства, ставший вакантным после изгнания Лю Шаоци. Если Мао откажется, добавил Линь Бяо, то нужно выбрать другого кандидата на эту должность - вероятно, имея в виду себя. Даже Мао Цзэдун отверг первое предложение. «Гениальность зависит не от одного человека или нескольких людей, - с несвойственной ему скромностью отметил он. - Гениальность присуща нашей партии». А отказавшись занять еще один пост главы государства, Мао заявил, что он должен оставаться вакантным. Было очевидно, что Председатель КПК недоволен столь явными маневрами Линь Бяо.
|
|
|
Кто находился в самолете, разбившемся в Монголии 13 сентября 1971 года? И куда направлялся этот самолет? |
Мишень — Председатель Мао
Эта трещина в отношениях между Мао и Линь Бяо, по одной из версий, положила начало заговору, который достиг кульминации в ночь с 12 на 13 сентября 1971 года. «Если поста главы государства не существует, - жаловалась жена министра обороны, - то что делать Линь Бяо? Куда его можно поставить?» Несмотря на возраст, 77-летний Мао не выказывал признаков усталости и не помышлял
о том, чтобы передать кому-то власть над страной. Жена Линь Бяо говорила, что ее супругу остается выбирать из трех вариантов: терпеливо ждать неминуемой кончины Мао, перестать мечтать о высшей власти и, наконец, устранить «кормчего» и захватить власть в КНР.Осенью 1970 года Линь Бяо послал своего сына Линь Лиго, который благодаря отцу дослужился до высокого чина в военно-воздушных силах, в крупнейшие города Китая с секретным заданием: создать организацию из преданных, надежных офицеров, которая будет называться «Объединенный флот». К весне 1971 года у заговорщиков был готов план военного переворота. План получил кодовое название «Проект 571». Сам Мао именовался «Б-52» - по названию американского бомбардировщика: просоветски настроенный Линь Бяо ненавидел все, связанное с США.
Было предпринято три покушения на жизнь Мао Цзэдуна: самолет атаковал с воздуха его шанхайскую резиденцию; личный поезд Мао был пущен под откос на пути из Шанхая в Пекин; в дом Мао в столице подослали убийцу, замаскированного под курьера. Когда все три попытки провалились - последняя вечером 12 сентября 1971 года, - Линь Бяо, его жена, сын и несколько других заговорщиков поспешили сесть в самолет на аэродроме близ Бэйдайхэ.
|
Царство террора в революционной Франции |
||
|
Гонения на Лю Шаоци в начале Великой пролетарской культурной революции и загадочная смерть Линь Бяо в 1971 году не были уникальными событиями в короткой, но бурной истории КНР. Такие внезапные падения с вершин власти и неожиданные смерти бывали не только в Китае. На самом деле похожие события происходили и после победы Великой французской революции. Спустя два года после штурма печально знаменитой парижской тюрьмы Бастилии началась революция, короля Людовика XVI схватили при попытке бежать из страны. На следующий год, 21 сентября 1792 года, Франция была объявлена республикой, а в 1793 году король был казнен. Вскоре Комитет общественной безопасности, состоявший из девяти человек, получил практически диктаторские полномочия. |
Голову Робеспьера, пославшего на смерть своего главного соперника Дантона и многих других, кладут на гильотину - эффективное революционное орудие умерщвления. |
За лидерство в этом органе власти спорили Жорж Жак Дантон и Максимильен Робеспьер. Обладавший ораторским даром Дантон призывал создать революционный трибунал для суда над врагами республики. Во время начавшегося затем Царства террора жертвам этого трибунала отрубали головы на гильотине, установленной на главной площади Парижа. В апреле 1794 года Робеспьер добился того, что Дантона арестовали, предали суду и казнили. Но Робеспьер пережил своего соперника меньше чем на четыре месяца. В конце июля и он был казнен - вместе с примерно сотней своих сторонников. Когда большинство предводителей революции были мертвы, народ потребовал положить конец жестокости. Гильотину убрали, а площадь, где происходили казни, переименовали в площадь Согласия. |
Бегство в Советский Союз
Признания схваченного лжекурьера выдали причастность Линь Бяо к заговору. Не зная, насколько широкой поддержкой пользуется министр обороны среди военных, Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай той же ночью созвали руководство страны. Пока они совещались на площади Тяньаньмэнь, «Трайдент» уже взлетел. Первоначально Линь Бяо планировал лететь на юг, чтобы заручиться поддержкой военных, но, поднявшись в воздух, он, судя по всему, передумал и решил искать убежища в Советском Союзе. После Второй мировой войны он провел в этой стране три года, залечивая раны, и имел основания надеяться, что советские друзья окажут ему хотя бы идеологическую поддержку в его выступлении против Мао. Но и Линь Бяо, и все, кто был с ним на борту, погибли, когда их самолет разбился в Монголии.
Такова по крайней мере версия, которую сообщала пресса за пределами Китая и которую на следующий год в той или иной степени подтвердили китайские власти. Совсем другая, куда более неожиданная картина событий предстает из тайно вывезенных из КНР и в 1983 году опубликованных в Соединенных Штатах материалов, авторство которых приписывают хорошо осведомленному источнику, скрывшемуся под псевдонимом Яо Минли.
 |
|
Китайский правящий триумвират демонстрирует полную гармонию: (слева направо) Линь Бяо, Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай. Стоящие за ними бойцы «культурной революции» размахивают цитатниками Мао. |
Инсценированная война
Если верить Яо Минли, существовало два отдельных заговора. Первый, «Проект 571», был организован Линь Лиго и предполагал лишь убийство Мао Цзэдуна. Линь Бяо отверг его, отдав предпочтение более сложному плану, получившему кодовое название «Гора нефритовой башни» - по имени района роскошных вилл под Пекином, где живет правящая элита. Там и предполагалось загнать Мао в ловушку.
Опасный замысел Линь Бяо требовал тайной помощи Советского Союза, который должен был имитировать нанесение удара по Китаю. Это дало бы министру обороны КНР повод объявить военное положение и взять Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая «под охрану», чтобы затем убить их и захватить власть в свои руки.
Затем, в июле 1971 года, мир узнал, что госсекретарь США Генри Киссинджер тайно посетил Китай и провел с Чжоу Эньлаем переговоры о путях ослабления напряженности, существовавшей в отношениях между двумя странами со времени прихода к власти в Китае коммунистов в 1949 году. В начале 1972 года намечался визит в КНР Президента Ричарда Никсона. Явное примирение с Соединенными Штатами - и дальнейшее ухудшение и без того натянутых отношений с Советским Союзом - делало необходимым как можно скорее приводить в действие план «Гора нефритовой башни». Выбор пал на день, когда Мао возвращался в Пекин из поездки на юг, - 11 сентября.
Однако Чжоу Эньлай тем временем, видимо, сумел выведать у дочери Линь Бяо про заговор ее брата, а может быть, и отца. Премьер предупредил Мао об опасности, и они приготовили Линь Бяо западню.
| Театр как орудие политики | |
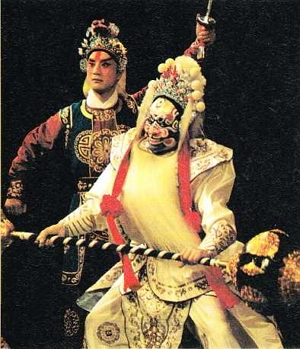 |
Европейцев, посещавших Китай в XIX веке, привлекал и одновременно поражал уникальный вид народного искусства, соединявший музыку, пение, пантомиму и акробатику. В представлениях почти не использовался реквизит, но актеры были одеты в великолепные костюмы и причудливые маски. Поскольку в этих спектаклях драма смешивалась с пением, как в привычной им опере, европейцы называли их Пекинской оперой. Мао Цзэдун прекрасно понимал, что литература и искусство могут быть мощными орудиями в пропаганде коммунистических идей. «Литература и искусство предназначены для масс, - писал он еще в 1942 году. - Они создаются для рабочих, крестьян и солдат, которые и должны пользоваться их достижениями». Во время «культурной революции» Цзян Цин, четвертая жена Мао Цзэдуна, решила реформировать Пекинскую оперу, задаваясь вопросом, почему на сцене отражается жизнь горстки помещиков, кулаков и буржуазных элементов, а не 600 миллионов рабочих, крестьян и солдат. Ревизионисты, руководимые свергнутым главой государства Лю Шаоци, заявляла она, превратили Пекинскую оперу в «отдельное царство». Цзян Цин стремилась создать новые формы искусства, которые бы прославляли коммунизм. После смерти Мао в 1976 году Цзян Цин и троих других руководителей «культурной революции» заклеймили как «банду четырех». Суд приговорил их к смертной казни, замененной позднее на пожизненное заключение. Полный разрыв с искусством прошлого, которого Цзян Цин добивалась, просуществовал лишь столько, сколько она была у власти. Сегодня традиционная Пекинская опера снова занимает в Китае прежнее положение. |
Обед у Председателя Мао
Вечером 12 сентября министр обороны с женой были гостями на ужине в резиденции Мао Цзэдуна на Горе нефритовой башни. Мао сам открыл торжество, откупорив императорское вино, запечатанное в вазе времен династии Мин 482 года назад. На банкете подавали деликатесы, доставленные в Пекин самолетом со всего Китая. После десерта из свежих фруктов жена Линь Бяо сказала, что им с мужем пора уходить, чтобы дать хозяину Возможность отдохнуть с дороги. Но Мао, казалось, не хотелось прекращать веселье, и он попросил их побыть еще полчаса. Около 11 часов Мао Цзэдун лично проводил Линь Бяо и его жену до машины. А через несколько минут, на дороге, спускающейся от виллы Мао, и автомобиль и сидевшие в нем пассажиры были уничтожены ракетами, выпущенными из засады людьми из личной охраны «кормчего».
Чжоу Эньлай, опознав в обгоревших трупах Линь Бяо и его жену, сказал Мао. что следует объяснить исчезновение министра обороны так, чтобы Линь Бяо «не выглядел героем». Не проявив никаких чувств по поводу смерти человека, более сорока лет служившего ему и его партии, Мао приказал премьеру быстро продумать все детали официальной версии.
В этой трактовке заговора, на «Трайденте» бежал только Линь Лига. Когда преследовавшие его китайские истребители дали ракетный залп, самолет рухнул как раз над монгольской границей. Позже китайские власти высказали предположение, что родители разбились вместе с сыном, - этот вариант устраивал их гораздо больше, чем история со званым ужином, закончившимся смертью.
Так Мао избавился от соперника. В следующем году он приветствовал в Пекине Президента Никсона, и рядом с ним был его верный премьер Чжоу Эньлай. Мао Цзэдун прожил 83 года, и до самого конца он отказывался делить с кем-нибудь власть или назначать преемника, который после него встанет во главе этой самой многонаселенной страны.

Его имя носят река, водопад, горный хребет и горная вершина, а также район Сиднея. В этом городе ему установлен памятник, а несколько лет назад был создан Фонд Людвига Лейхгардта. Австралийский писатель, лауреат Нобелевской премии Патрик Уайт включил историю его жизни в свой роман «Восс», по мотивам которого позднее была написана опера. Девять крупных экспедиций и множество небольших поисковых групп прочесывали континент с тех пор, как Лейхгардт и шесть его спутников пропали без вести во время последнего путешествия в 1848 году. «Их судьба - это великая тайна в истории открытия моей страны», - говорит австралийский писатель Гордон Коннелл.
 |
|
Возможно, Лейхгардт был первым европейцем, достигшим хребта Макдоннелла. |
Страсть к путешествиям
Людвиг Лейхгардт родился в Пруссии 23 октября 1813 года в семье крестьянина, и у него было мало надежд на интересное будущее. Но благодаря своему усердию он смог поступить в Геттингенский университет, где ему предстояло выучиться на преподавателя гимназии. Два его однокашника, братья англичане Джон и Уильям Николсоны, должно быть угадав в нем талант, убедили его изучать естественные науки и медицину в Берлинском университете и даже предложили помогать ему деньгами в период учебы.
Проведя в Берлине два года, Лейхгардт, чтобы избежать обязательной военной службы, в мае 1837 года, так и не закончив курса, приезжает к Уильяму Николсону в Лондон. Позднее они вдвоем путешествуют по Франции, Швейцарии и Италии и планируют отправиться в Австралию, на практически неизведанный континент, где всего лишь полвека назад англичане стали создавать первые поселения. Когда подошло время отъезда, Николсон раздумал ехать, но оплатил дорогу другу и дал ему денег. Обеспеченный материально Людвиг Лейхгардт - или, как он предпочитал теперь себя величать, доктор Лейхгардт - в октябре 1841 года пустился в долгий путь в южное полушарие.
 |
|
На карте Австралии (вверху) отмечены три экспедиции Людвига Лейхгардта. |
Рождение исследователя
Вот как описывает современник 28-летнего немца, прибывшего в Сидней 14 февраля 1842 года: «Ростом более ста восьмидесяти сантиметров, высокий лоб интеллектуала, маленькие серые умные глаза, темно-русые волосы. Нижнюю часть лица скрывают густая борода и усы, нос с легкой горбинкой...»
Следующие два года Лейхгардт зарабатывал на жизнь чтением лекций по ботанике и геологии и совершал короткие путешествия, собирая растения, насекомых и минералы. Примерно в это время у него появилась идея добиться славы, исследуя неизученные внутренние районы Австралии. Хотя он уже совершил героический 950-километровый пеший поход от Ньюкасла до Брисбена, Лейхгардт вряд ли подходил на роль путешественника-исследователя. Он был близорук, боялся огнестрельного оружия и плохо ориентировался на местности. Неудивительно, что от его услуг отказался главный геодезист Нового Южного Уэльса.
В Брисбене Лейхгардт узнал, что из-за финансовых затруднений отменили планировавшуюся властями экспедицию по северо-востоку Австралии до военной базы Порт-Эссингтон. Но фермеры в прибрежных районах по-прежнему хотели знать, где в глубине страны есть подходящие для сельского хозяйства земли. Тогда Лейхгардт вернулся в Сидней и объявил о готовности возглавить частную экспедицию - вместо несостоявшейся официальной, а вскоре у него уже было пять добровольцев и необходимая финансовая поддержка.
| Успешный переход - ужасной ценой |
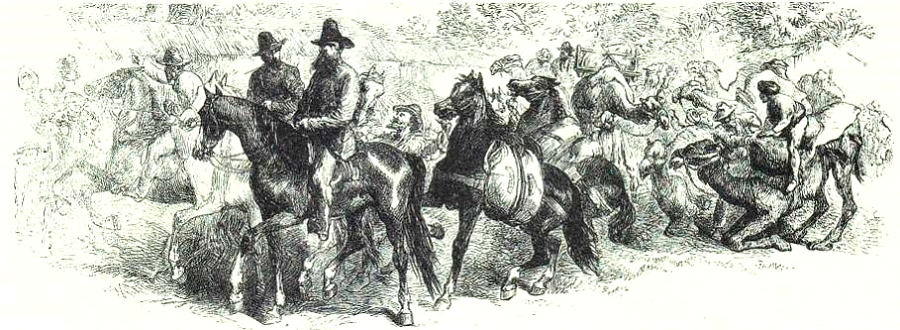 |
|
Через двенадцать лет после того, как Лейхгардт пропал без вести, пытаясь пересечь Австралию с востока на запад, двум другим путешественникам - Роберту О'Харе Берку и Уильяму Джону Уиллсу - удалось осуществить эту задачу, но только с юга на север. 20 августа 1860 года Берк во главе хорошо оснащенного отряда из семнадцати человек, включая трех погонщиков верблюдов, вышел из Мельбурна. Когда в октябре экспедиция достигла самого северного поселения Менинди, импульсивный Берк вдруг решил, что дальше пойдут лишь девять членов группы. В середине декабря он оставил Уильяма Брахе и еще четырех человек в лагере на Купер-Крик, а сам вместе с Уиллсом и двумя другими спутниками пустился в путь к заливу Карпентария, до которого было еще более 1100 километров. Последние 50 километров до залива Берк и Уиллс шли одни. Выйти к морю им так и не удалось. Припасы скоро кончились, не прошло и трех недель, как один человек, Чарлз Грей, умер. 21 апреля трое оставшихся вышли к Купер-Крик. В лагере они нашли немного еды и записку от Брахе; прождав месяц после оговоренного срока, он покинул лагерь всего несколько часов назад! Берк решил идти на юго-запад вдоль Купер-Крик, но к концу июня и он и Уиллс скончались. Единственный выживший участник похода Джон Кинг попал к аборигенам, которые заботились о нем до тех пор, пока его не нашел посланный на спасение экспедиции отряд. |
Неспешным шагом
Снова прибыв в Брисбен, Лейхгардт набрал в свой отряд еще четырех человек; таким образом, весело распевая «Боже, храни королеву». 1 октября 1844 года десять участников экспедиции тронулись в путь (правда, двое вскоре повернули обратно). От конечной цели - Порт-Эссингтона - их отделяло более 2500 километров, если мерить по прямой, но Лейхгардт планировал идти вдоль русел ближайших от побережья рек и не углубляться в районы, показанные на его единственной карте сплошным белым пятном.
Для перевозки 500 килограммов провизии Лейхгардт обменял часть лошадей на быков, которые медленно двигались, но зато при необходимости их можно было забить на мясо. Невероятно, но путешественники взяли с собой лишь 9 литров воды, не считая индивидуальных фляжек. У первого же источника устроили лагерь и послали людей на поиски следующего. Затем вернувшиеся разведчики показывали дорогу остальным. Такой метод гарантировал безопасное продвижение, но отнюдь не быстрое.
К февралю 1845 года, по расчетам Лейхгардта, экспедиция прошла четверть пути, израсходовав три четверти съестных припасов. Однажды сам руководитель, с которым был один из двух аборигенов. участвовавших в походе, проблуждал несколько дней; от голодной смерти их спасли лишь два голубя, убитых туземцем. «Чтобы хоть чем-то наполнить голодный желудок, я глотал голубиные кости и ноги», - писал Лейхгардт. «Удивительно, как быстро человек перестает быть разборчивым в еде», - заметил руководитель экспедиции. Они разнообразили свой рацион раками и угрями, которых ловили в реках, а в гнездах диких пчел находили «такой сладкий и душистый мед. какого нам никогда раньше не доводилось пробовать». Лейхгардт экспериментальным путем выяснил, что некоторые растущие у источников воды растения можно варить и есть как средство от цинги - хотя эта профилактика имела и неприятный побочный эффект, люди страдали от жестокого поноса.
Весь март и апрель путешественники неторопливо шли вперед, присваивая встречным рекам и горам имена оставшихся на побережье друзей. В начале мая отряд взял курс на северо-запад, к заливу Карпентария и конечному пункту экспедиции на северном побережье континента.
Однажды ночью в конце июня, когда они уже приближались к заливу, на их лагерь напали вооруженные копьями аборигены. Натуралист Джон Гилберт был убит, еще два человека получили ранения. Передохнув всего два дня. отряд продолжил путь, сильно потрясенный происшедшим, но полный решимости достичь цели. 17 декабря 1845 года, пройдя за 14 с половиной месяцев около 5000 километров, экспедиция Лейхгардта вошла в Порт-Эссингтон.
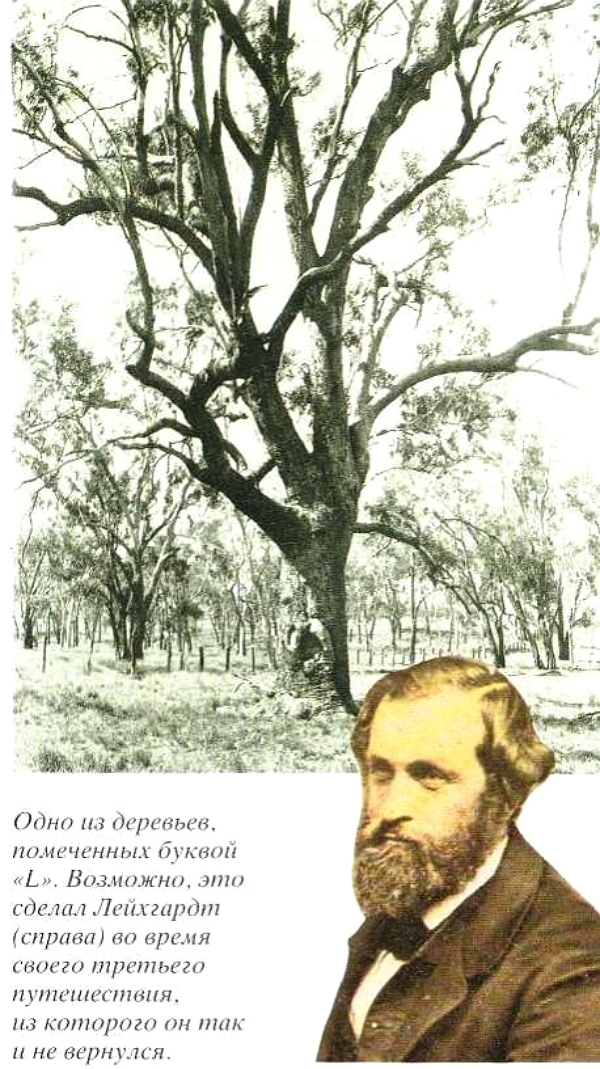 |
Герой Австралии
Участники похода вернулись в Сидней морем, их встречали как героев, как восставших из мертвых. Лейхгардт составил карту значительной части северо-восточной Австралии, обнаружив там «прекрасные земли, почти без исключения подходящие для выпаса скота». Благодарные граждане щедро вознаградили первопроходца (это были первые деньги, заработанные 32-летним Лейхгардтом) и собрали дополнительную сумму, чтобы разделить ее между шестью другими членами его отряда.
Лейхгардт теперь без особого труда нашел средства для второй экспедиции, которая должна была пересечь северную часть материка, а затем спуститься на юг до Перта вдоль западного побережья. 7 декабря 1846 года Лейхгардт в сопровождении шестерых европейцев и двух аборигенов вновь пустился в путь, взяв с собой 270 коз, 108 овец, 40 быков, а также мулов и овчарок.
Отряду пришлось испытать все тяготы сезона дождей: день и ночь они были мокрыми до нитки, ветер рвал в клочья их легкие палатки. Вскоре всех поразила болотная лихорадка, и иногда они были вынуждены пить одну холодную мутную воду, гак как ни у кого не было сил развести огонь и приготовить чай. При жаре свыше 40 градусов людям приходилось ехать верхом в одежде, чтобы уберечься от укусов слепней, а по коже измученных насекомыми лошадей часто струилась кровь.
Менее чем через полгода отряд вернулся, пройдя всего 800 километров на северо-запад по «самой жуткой земле, на которую ступала нога белого человека». как выразился один участник экспедиции. Болезни и раздоры - Лейхгардта обвиняли в том, что он берет себе пищу, предназначенную больным, - с самого начала обрекли предприятие на неудачу.
|
Исконное население Австралии |
|
Коренные жители Австралии, аборигены, пришли на южный континент более 50 тысяч лет назад из Юго-Восточной Азии, пересекая океан по островам. В январе 1788 года первые английские колонисты - 736 осужденных за преступления мужчин и женщин - прибыли в бухту Сиднея на 11 кораблях Первого флота. Они были гораздо менее приспособлены к жизни на новой родине, чем те первобытные люди, которых они там встретили. Эти охотники и собиратели ходили практически голыми, а их основными орудиями были бумеранг, копье, каменный топор и палочки для добывания огня. 750 тысяч аборигенов делились на 600 племен с разными языками и обычаями. Вся их жизнь была тесно связана с природой, мужчины были терпеливыми и умелыми охотниками, а женщины собирали съедобные растения. Каждое племя имело свою территорию, и территориальные права племен строго соблюдались. Судьба австралийских аборигенов, как и индейцев Северной Америки, - это печальный этап в истории открытия и заселения европейцами новых земель. Британия установила свое владычество над территориями, необходимыми для поселений сосланных в Австралию преступников, мало считаясь с претензиями коренных обитателей. «Куда бы ни ступала нога европейца, - писал Чарлз Дарвин после посещения Австралии в 1836 году, - это почти всегда влечет гибель коренных жителей». У аборигенов отбирали земли, где они привыкли охотиться, их косили невиданные прежде болезни, пришельцы приобщали их к алкоголю, использовали как дешевую рабочую силу. В результате численность коренных австралийцев катастрофически сокращалась: к 1901 году их насчитывалось всего 66950, а к 1921 году - 60479. Вторая мировая война ознаменовала поворот в отношении к исконным обитателям Австралии. Когда тысячи солдат послали сражаться в заморских странах, создалась острая нехватка рабочих рук. Аборигенов стали брать на работу, и многим из них впервые платили за их труд деньги. В послевоенные годы они получили гражданство и право голоса, больший доступ к образованию и медицинскому обслуживанию, право владеть землей и право самим выбирать, оставаться аборигенами или ассимилироваться с австралийцами европейского происхождения. Перепись населения 1991 года показала, что их численность выросла до 238575 человек. |
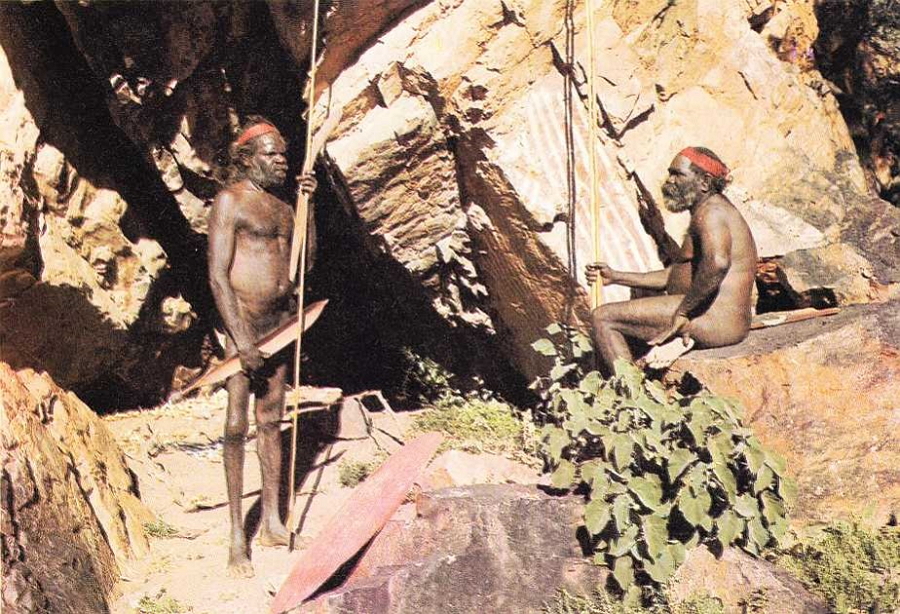 |
|
Мало кто из австралийских аборигенов придерживается сегодня традиционного образа жизни охотников и собирателей. |
Последний поход
Лейхгардт не отказался от мечты пересечь Австралию и, несмотря на печальный провал второй экспедиции, уже в начале 1848 года собрал новый отряд. 4 апреля он написал последнее письмо - с овцеводческой фермы в 400 километрах к западу от Брисбена, - прежде чем с четырьмя белыми и двумя аборигенами, 50 быками, 20 мулами и 7 лошадьми отправиться на северо-запад.
Прошло два с половиной года, а об экспедиции Лейхгардта не было никаких известий. Однако это не вызывало особого беспокойства у его друзей и тех. кто его финансировал, они понимали, какое грандиозное предприятие он затеял. Но в конце 1850 года на ферме Сурат, расположенной менее чем в 80 километрах от того места, где стартовала экспедиция, появился абориген, который принес тревожные новости. Как он слышал от другого аборигена, несколько белых и двое темнокожих мужчин были убиты западнее реки Мараноа - как раз там, где должны были проходить Лейхгардт и его спутники. Напав среди ночи, туземцы уничтожили весь отряд, перебили животных и скрылись.
Деревья, помеченные буквой «
L»В Порт-Эссингтон был послан корабль, на случай, что там может появиться Лейхгардт, если он пошел по следам своей первой, успешной экспедиции, но в тех местах его не видели. Джон Макдауэлл Стюарт, проводивший поиски на северо-западе. сообщил, что в районе, где, насколько известно, никогда не бывали европейцы, обнаружены таинственные следы. Следы, как сказал Стюарт, «были оставлены длинной и узкой стопой с высоким подъемом и крупным большим пальцем... и скорее напоминали отпечаток ноги белого человека. чем аборигена». В конце концов, после того как поселенец по имени Гидеон Лэнг подтвердил сообщение об убийстве на реке Мараноа, правительство выделило средства на поиски, но из-за засухи они были начаты только в 1852 году.
Человек, назначенный руководителем поискового отряда, был смыт за борт и утонул по пути из Сиднея в Брисбен, и группу возглавил Ховенден Хили, участник второй экспедиции Лейхгардта. Он был уверен, что вблизи реки Мараноа убили именно Лейхгардта и его людей, и сосредоточил поиски в этом районе. Жившие там аборигены повторили уже известную историю, но добавили, что виноваты во всем два аборигена из отряда Лейхгардта, которые приставали к местным женщинам.
В середине июня 1852 года, перенеся поиски к реке Уоррего, Хили обнаружил следы стоянки и дерево, на стволе которого была вырезана буква «L». а над ней - «XVA». Могла ли эта буква означать «Лейхгардт», a «XVA» - 15 апреля, дату, наступившую всего через 11 дней после того, как экспедицию видели в последний раз? Неподалеку нашли еще два дерева, помеченные таким же образом. Хили прекратил поиски и вернулся с докладом, что члены пропавшей экспедиции, несомненно, были убиты аборигенами.
Белый дикарь
До конца десятилетия еще дважды предпринимались поиски, а в апреле 1861 года поступило сообщение - от того самого Стюарта, который за десять лет до этого нашел следы, - о заброшенной хижине у горы Стерт на крайнем северо-западе Нового Южного Уэльса, больше похожей на постройку белого человека, чем аборигена. Обнаружили новые деревья с буквой «
L». Позднее, в 1871 году, после упорных слухов о «белом дикаре», живущем среди аборигенов на западе Квинсленда, офицер полиции Дж. М. Гилмор возглавил еще один поисковый поход в глубь страны. Он вернулся с шестью парами мужских брюк, обрывками шерстяных одеял, мешком, сделанным из человеческих волос - прямых, а значит, принадлежавших белым людям, и костями, которые, как выяснилось, тоже принадлежали европейцам. Безусловно, все это были следы какой-то экспедиции, но какой именно? Лейхгардт был не единственным путешественником, без вести пропавшим в те годы.В 1938 году, через 90 лет после исчезновения Лейхгардта, была предпринята очередная - девятая - попытка найти его следы. Поводом для нее послужили сообщения о костях, найденных на краю пустыни Симпсон. Кости, как оказалось, принадлежали аборигенам, но там же нашли две английские монеты, отчеканенные до того, как Лейхгардт покинул Англию. Могли ли это быть его монеты?
Смерть на реке Диамантина?
Проведя скрупулезное расследование, взвесив все имевшиеся факты, Гордон Коннелл в 1980 году опубликовал свои выводы о судьбе Людвига Лейхгардта.
По его мнению, Лейхгардт достиг Арнемленда, но затем повернул на юг, возможно, чтобы тем же путем вернуться в Квинсленд. У одного из источников недалеко от того места, где река Диамантина пересекает границу Южной Австралии, он и его люди попали в засаду и были убиты. Там были обнаружены останки европейцев. Он мог также погибнуть и во время бурного разлива Диамантины и Купер-Крик.
Если заключения Коннелла верны, то это значит, что Лейхгардт преодолел около 4800 километров - рекордное расстояние для того времени. Судя по всему, трагедия настигла его всего в 800 километрах от начального пункта. И знания о природе районов, расположенных в глубине Австралии, принес не он, а многочисленные экспедиции, посланные на его поиски.
 В
воскресенье около
десяти часов вечера Филипп Кристоф, граф
Кенигсмарк вышел из своего дома в Ганновере на
севере Германии и под покровом темноты поспешил
к стоявшему на берегу реки Лейне замку. Утром он
получил записку с приглашением попозже ночью
навестить юную супругу кронпринца Ганноверского
Софию Доротею. Письмо было написано незнакомым
почерком, однако Филипп с радостью согласился
пойти на тайное свидание со своей возлюбленной,
потому что уже много недель им не удавалось
побыть наедине. Возможно, он подумал и о том,
что это был особый день: ровно четыре года назад
они впервые обменялись любовными посланиями.
В
воскресенье около
десяти часов вечера Филипп Кристоф, граф
Кенигсмарк вышел из своего дома в Ганновере на
севере Германии и под покровом темноты поспешил
к стоявшему на берегу реки Лейне замку. Утром он
получил записку с приглашением попозже ночью
навестить юную супругу кронпринца Ганноверского
Софию Доротею. Письмо было написано незнакомым
почерком, однако Филипп с радостью согласился
пойти на тайное свидание со своей возлюбленной,
потому что уже много недель им не удавалось
побыть наедине. Возможно, он подумал и о том,
что это был особый день: ровно четыре года назад
они впервые обменялись любовными посланиями.
София Доротея не писала записку и никому не диктовала ее, поэтому неожиданное появление возлюбленного удивило ее, но и обрадовало. Может быть, у них и возникло подозрение, что это письмо - ловушка, но счастье снова быть вместе оказалось сильнее осторожности, необходимой, когда идешь на столь опасную встречу. В любом случае, должно быть, решили они, скоро игра в прятки для них кончится. Уже на заре Софию Доротею будет ждать карета. Наконец-то кончится притворство, в котором она жила, выйдя замуж без любви за своего двоюродного брата Георга Людвига, и она навсегда покинет дворец, так и не ставший ей домом. Завтра она начнет новую жизнь - с Филиппом.
Прежде чем расстаться, любовники обговорили последние детали тщательно спланированного побега; теперь им оставалось лишь считать часы до рассвета. Но напрасно София Доротея ждала Филиппа на следующее утро. Он так и не появился и не прислал записку с объяснением того, что помешало их планам. Филипп исчез, и больше его никто никогда не видел. В отчаянии, страшась худшего, София Доротея обратилась к одному из членов придворного тайного совета, умоляя его раскрыть тайну исчезновения Филиппа. «Меня бросает в дрожь от одной мысли, что граф Кенигсмарк мог попасть в руки этой женщины...» Какой женщины так боялась София Доротея и почему? И что же на самом деле случилось с Филиппом после
того, как он оставил покои кронпринцессы? Чтобы разгадать эту загадку, необходимо заглянуть в предысторию несчастного замужества Софии Доротеи, на фоне которого разворачивались события любовного романа с роковым концом.
|
|
Граф Кенигсмарк тайком входит в Ганноверский замок, спеша на свидание с кронпринцессой. Они думали, что больше им не придется встречаться украдкой, на следующее утро они собирались бежать. |
Брак как ход в политической игре
Браки по расчету между соперничающими династиями были обычным делом в Германии, разделенной на мелкие княжества и королевства. Лю
бовь при заключении подобных союзов не имела никакого значения. Тем не менее редко когда жених и невеста испытывали друг к другу такую неприязнь, как София Доротея и Георг Людвиг. Они невзлюбили друг друга еще с детства, но зародилась эта враждебность в обеих семьях в предыдущем поколении.Отец невесты, герцог Брауншвейг-Целльский Георг Вильгельм, в свое время был помолвлен с другой Софией, принцессой из соседнего пфальцгерцогства Рейнланд. Не желая расставаться с привычной холостяцкой жизнью, Георг Вильгельм расторг помолвку и отказался от невесты в пользу младшего брага, Эрнста Августа. А чтобы сделать этот брак более привлекательным для обеих сторон, он в 1658 году подписал обязательство, по которому обещал, что никогда не женится и что после его смерти герцогство Брауншвейг-Целле объединится с унаследованным братом герцогством Брауншвейг-Люнебургским.
Спустя несколько лет после заключения соглашения с младшим братом убежденный холостяк Георг Вильгельм влюбился во француженку по имени Элеонора д’Ольбрёз. Не желая, чтобы она была всего лишь его любовницей, он решил аннулировать свое обязательство и вступить с ней в законный брак. Для этого он обратился в Вену к Леопольду I, который в качестве императора Священной Римской империи правил непрочным союзом германских государств. Его прошение было удовлетворено только в 1676 году. Элеонора стала герцогиней Брауншвейг-Целльской, а их дочь София Доротея, которой к тому времени исполнилось десять лет, была признана законной и получила титул кронпринцессы.
В Ганновере, при дворе Эрнста Августа, такое развитие событий вызывало подозрения. Обещанное воссоединение двух герцогств оказалось под угрозой. К счастью, братьям удалось найти решение этой проблемы: София Доротея должна выйти замуж за своего двоюродного брата Георга Людвига, старшего сына Эрнста Августа.
В политическом смысле такое решение представлялось идеальным, но Софию Доротею оно совсем не устраивало. Она не привыкла к строгому протоколу, ее удивляли и беспокоили придворные интриги - иными словами, она неуютно себя чувствовала в Ганновере. Хуже того, у ее мужа была любовница - как и у ее свекра. По странному этикету того времени любовница герцога Эрнста Августа графиня Платен претендовала на более высокий статус при дворе, чем кронпринцесса. После рождения в 1683 году сына, а через четыре года и дочери Георг Людвиг окончательно охладел к жене. Поэтому неудивительно, что София Доротея так быстро поддалась чарам красавца графа Кенигсмарка, когда он в 1688 году появился при дворе.
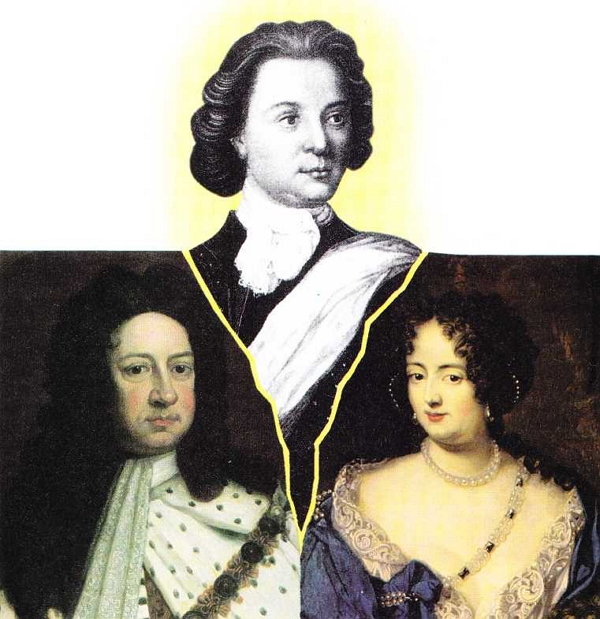 |
|
Брак между Георгом Людвигом (слева) и Софией Доротеей (справа) был заключен без любви, и кронпринцесса неуютно чувствовала себя в замке на берегу реки Лейне (рисунок внизу). Неудивительно, что она так легко поддалась чарам друга детства Филиппа Кристофа, графа Кенигсмарка (в центре). |
 |
Любовь к Марсу и Адонису
Филипп Кристоф, граф Кенигсмарк приехал в Ганновер 23-летним молодым человеком - на год старше Софии Доротеи. Его семья происходила из Германии, но богатства и власти достигла на службе у шведского короля.
Филиппа вместе со старшим братом Карлом Иоганном в 1680 году послали в Лондон обучаться искусству танца, верховой езды и фехтования, предполагая, что по завершении своего образования они посвятят себя более интеллектуальным занятиям в Оксфорде. Но Филипп наделал карточных долгов, а Карл Иоганн оказался причастным к смерти одного знатного человека, с женой которого он флиртовал. Карлу Иоганну удалось покинуть Англию и избежать наказания, но этот скандал сделал невыносимым и положение младшего брата. В 1682 году он вернулся в Германию и следующим летом поступил на службу в армию императора Леопольда I, которая в то время отвоевывала у турок Венгрию.
Когда в 1688 году его полк был распущен, Филиппу пришлось искать новую службу, и он отправился в Ганновер, надеясь найти ее там. Он прибыл в город в разгар празднеств, предшествовавших Великому посту, и на одном из многочисленных приемов во дворце встретил женщину, которая стала его судьбой, Софию Доротею. На самом деле они были знакомы еще с детства, но теперь перед кронпринцессой предстал удалой офицер в расцвете сил. По описанию современника, Филипп был «замечательно сложен, высок ростом, красив, с ниспадающими волосами и живым блеском в глазах, одним словом, в нем гармонично сочетались Марс и Адонис [т. е. бог войны и воплощение мужской красоты]».
|
Судьба сестры Исчезновение графа Кенигсмарка изменило судьбу его младшей сестры Марии Авроры. Несмотря на факты, свидетельствовавшие об обратном, Мария Аврора была уверена, что после бесследного исчезновения в ночь с 1 на 2 июля 1694 года ее брат остался в живых. Ее непоколебимая вера основывалась на предсказании астролога, по которому как раз в этом году Филипп должен был попасть в беду, но выйти из нее целым и невредимым. Пытаясь помочь поискам брата, она обратилась к курфюрсту Саксонскому Фридриху Августу, на службу к которому собирался поступить Филипп. Осенью 1694 года она прибыла ко двору в Дрезден. В Дрездене уже были наслышаны о красоте и уме Марии Авроры. Среди ее многочисленных поклонников было и два герцога, одному из которых было уже 60, а второму - всего 17. Французский философ Вольтер, родившийся в год, так круто изменивший судьбу брата и сестры Кенигсмарк, писал позднее о Марии Авроре как о «самой знаменитой женщине двух столетий». Юный правитель Саксонии не стал исключением. Как многие мужчины, он с первого взгляда влюбился в Марию Аврору. Она поддалась его страстным ухаживаниям и в октябре 1696 года родила Фридриху Августу сына. Но лишь в 1711 году курфюрст признал мальчика своим законным ребенком и ему было позволено называться Германном Морисом, графом Саксонским. В 1720 году Германн Морис поступил на службу во Франции и со временем получил высшее воинское звание этой страны. |
Поначалу София Доротея нашла в графе Кенигсмарке внимательного слушателя и верного друга. При нем она могла дать волю своим чувствам по отношению к этой интриганке графине Платен, которую она боялась и ненавидела.
Тут, однако, была одна проблема. Дело в том, что вскоре после появления при дворе Филипп завязал роман с графиней. Потом он пожалел о своем глупом и неосторожном поступке, но было слишком поздно, он уже понял, как трудно ему будет порвать с этой женщиной так, чтобы не навлечь ее гнев на себя и Софию Доротею. Чтобы вырваться из этой затруднительной ситуации, граф Кенигсмарк покинул двор и пошел добровольцем в действующую армию.
Вернувшись в Ганновер по окончании своей первой кампании, Филипп ошибочно решил, что графиня Платен потеряла к нему интерес и что он может снова, теперь уже без опаски, встречаться с Софией Доротеей.
К весне 1690 года он, должно быть, признался кронпринцессе в любви. За четыре года - с 1 июля до исчезновения Филиппа - он и София Доротея написали друг другу более 300 нежных посланий, в которых говорили, как они любят, как счастливы и как тоскуют друг без друга.
|
Взлет и падение фаворита |
||
|
Три поколения спустя в Дании разыгралась трагедия, поразительно похожая на ганноверскую историю. То, что можно назвать прологом, произошло в 1766 году, когда 17-летний датский король Кристиан VII женился на Каролине Матильде, 15-летней сестре английского короля Георга III и правнучке Георга Людвига и Софии Доротеи. Главное же действие началось двумя годами позже, когда Кристиан взял на службу немецкого врача по имени Иоганн Фридрих фон Штруэнзее. Судя по всему, молодой доктор сумел завоевать не только доверие страдавшего психическим расстройством короля, но и благосклонность несчастной в браке королевы. При дворе его неизбежно ждал быстрый взлет. В 1770 году он назначается государственным министром и наделяется беспрецедентными полномочиями. Роман Штруэнзее с королевой ни для кого не был секретом, но король, казалось, не |
|
обращал на него внимания. Тогда мачеха короля Мария Юлиана вступила в сговор с обиженными монархом дворянами. Скандал, в котором будут замешаны Кристиан и Каролина Матильда, как она думала, увеличит шансы ее собственного сына взойти на престол. В ночь с 16 на 17 января 1772 года группа заговорщиков вошла в спальню короля и заставила его подписать приказ об аресте Штруэнзее и королевы. На состоявшемся затем суде не удалось доказать выдвинутые против лейб-медика обвинения в различных должностных преступлениях. Но когда он признался - вероятно, под пытками - в прелюбодеянии с королевой, его приговорили к смерти. Каролину Матильду, как и ее несчастную прабабку, ждали развод и ссылка - по иронии судьбы в тот самый замок в Германии, в котором больше чем за сто лет до этого родилась София Доротея.
|
|
Персонажи трагедии: Штруэнзее и королева играют в шахматы, в то время как ничего не замечающий король возлежит на диване. |
||
На краю пропасти
Но графиня Платен по-прежнему пылала страстью к Филиппу. По ее приказу за любовниками была установлена постоянная слежка, и по пропавшим письмам и сломанным печатям они могли догадаться, что за ними шпионят. К 1693 году стало очевидным, что их тайна раскрыта. В отчаянной попытке усмирить графиню Платен Филипп снова начал за ней ухаживать - хотя из его писем видно, как это было ему неприятно.
Все чаще Филипп и София Доротея говорили о том, что им нужно бежать из Ганновера, подальше от двора, где их положение стало невыносимым. Но их планы наталкивались на непреодолимое препятствие - отсутствие денег. Филипп уже жил не по средствам, а София Доротея лишилась состояния и личного имущества при вступлении в брак с Георгом Людвигом.
В мае 1694 года Филипп снова покинул Ганновер, на этот раз в надежде получить генеральский чин в армии Саксонского курфюрста в Дрездене. Заключенный им контракт позволил ему через месяц вернуться в Ганновер, значительно улучшив свое будущее финансовое положение. К тому времени почти весь двор переехал в летний дворец в окрестностях Ганновера, и отсутствие в городе мужа и свекрови Софии Доротеи должно было облегчить любовникам побег. Лишь престарелый Эрнст Август и графиня Платен оставались в ганноверском замке в ту ночь, когда Филипп пришел на свидание к кронпринцессе, подтвердил, что план их побега остается в силе, нежно попрощался с ней - и бесследно пропал.
|
|
Персонажи трагедии: Штруэнзее и королева играют в шахматы, в то время как ничего не замечающий король возлежит на диване. Ревнивая графиня Плотен не могла простить Филиппу, что он бросил ее, предпочтя более молодую кронпринцессу, но отомстить она смогла лишь через четыре года. Хотя она и не держала в руках орудия убийства, как в изображенной здесь мрачной сцене нападения на графа Кенигсмарка, скорее всего, именно она сплела интригу, приведшую к смерти молодого аристократа. |
Избежать скандала — любой ценой!
Весть об исчезновении графа Кенигсмарка молниеносно облетела Ганновер, а вскоре об этом узнали и при других германских дворах. Эрнст Август всего двумя годами ранее стал курфюрстом Ганноверским, одним из германских правителей, имевших право участвовать в избрании императора Священной Римской империи. Скандал при ганноверском дворе отозвался бы по всей Европе, вплоть до самой Англии.
Супруга Эрнста Августа, София старшая, была внучкой английского короля Якова I, и ее единственной целью в жизни было возвести на английский трон одного из своих потомков. История с убийством, в которой замешаны жена ее сына и любовница ее мужа, могла помешать этим планам. Обычно несдержанная на язык герцогиня София об этом деле предпочитала отмалчиваться. Через две недели в письме родственнице она писала: «На дровяном рынке, где можно услышать любые новости, говорят, что Кенигсмарка заманили дрезденские ведьмы».
Но не ведьмы заставили Филиппа исчезнуть. При внимательном изучении дипломатических документов той поры, относящихся к событиям в Ганновере, можно попытаться восстановить то, что в действительности произошло той ночью.
Судя по всему, шпионы графини Платен предупредили ее о том, что любовники намерены бежать из Ганновера 2 июля. Она обо всем рассказала курфюрсту Эрнсту Августу, который выдал ей ордер на арест графа Кенигсмарка. По выходе из покоев Софии Доротеи или рано утром, когда он вернулся в замок, Филиппа встретили четыре человека с обнаженными шпагами. В завязавшейся схватке один из них нанес графу смертельную рану. От тела быстро избавились - по одной версии, труп бросили в реку Лейне, по другим - сожгли или закопали в замке. Неизвестно, имели ли эти четверо приказ убить Кенигсмарка, но в любом случае его смерть многих очень устраивала.
Менее чем через полгода состоялся развод Софии Доротеи и Георга Людвига, но имя Кенигсмарка при этом ни разу не упоминалось. Опозоренная кронпринцесса была сослана в Альденский замок неподалеку от Ганновера, где прожила в изоляции 32 года, до самой смерти в 1726 году, - лишь ее матери разрешалось ее навещать. Тем временем старшая София в конце концов добилась своего: в 1714 году - году ее смерти - Георг Людвиг стал королем Англии Георгом I. Его прямые потомки до сих пор занимают английский престол.
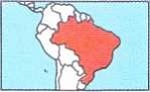
В апреле 1925 года три исследователя отважились отправиться в эти душные дикие джунгли, где обитали неизвестные зоологам животные и жили племена, о существовании которых никто даже не подозревал. Через пять недель после того, как они оставили столицу штата город Куяба, руководитель группы написал жене в Англию со стоянки, которой дал зловещее имя «Мертвая лошадь» (в этом месте во время предыдущей экспедиции у него пала лошадь): «Мы надеемся пройти этот район за несколько дней... Тебе не надо бояться нашей неудачи». Больше вестей от него не было.
Проникая за завесу
Полковник Перси Гаррисон Фосетт почти двадцать лет жил мечтой разгадать тайны бразильских джунглей. В 1906-1909 годах он по заданию правительства Боливии изучал район у границы с Бразилией, а в последующие годы несколько раз возвращался в мрачные дикие леса, которые часто называют «зеленым адом».
Испанские завоеватели Южной Америки так и не нашли сказочного Эльдорадо или страны воинственных женщин-амазонок, но предания о них не умирают. В 1911 году пришла сенсационная новость об открытии американцем Хирамом Бингемом затерянного в перуанских Андах города инков - Мачу-Пикчу.
Во время следующих походов и топографических экспедиций индейцы постоянно рассказывали Фосетту и о затерянных в джунглях городах. В Чили он услышал о все еще населенном Городе Цезарей, где улицы вымощены серебром, а крыши зданий покрыты золотом. Его обитатели, если верить рассказам, не знали забот, живя под властью просвещенного монарха. Какое-то волшебство делало город невидимым для забредших в те края нежеланных искателей приключений. В Рио-де-Жанейро Фосетт отыскал сообщение о сделанном в 1753 году и давно забытом открытии развалин величественного каменного города; не было никаких сведений о том, что с тех пор там кто-либо бывал.
Затем ему в руки попала 25-сантиметровая фигурка, вырезанная из черного базальта, и он показал ее психометристу, человеку, утверждавшему, что может, ощупав предмет, определить его происхождение. Фосетт услышал, что фигурка, без сомнения, из Атлантиды: жители исчезнувшего континента захватили ее с собой, спасаясь от катастрофы, нашли убежище в необитаемом краю на территории нынешней Бразилии, где и выстроили большой город. Поскольку название его было неизвестно, Фосетт для удобства обозначил его буквой
Z.«Я ни на миг не сомневаюсь в существовании древних городов, - писал Фосетт в 1924 году, собираясь в очередную экспедицию. - Какая-то завеса скрывает тайны Южной Америки от внешнего мира»; тот, кто проникнет за нее, неимоверно расширит наши знания о прошлом. В свои 57 лет Фосетт понимал, что другого шанса сделать это у него не будет.
Раздобыв средства в различных научных обществах и заранее продав историю своей экспедиции и предполагаемых открытий Североамериканскому газетному альянсу, в начале 1925 года Фосетт был готов к рискованному путешествию. С собой он возьмет только 21-летнего сына и юного друга по имени Рэли Раймел. Возможно, их поход продлится до конца следующего года. Но, если они не вернутся из «зеленого ада» Бразилии, не надо никого посылать на поиски. Если даже Фосетт с его опытом не смог выжить в джунглях, то другим не на что надеяться. По этой причине он отказался дать точный маршрут своей экспедиции.
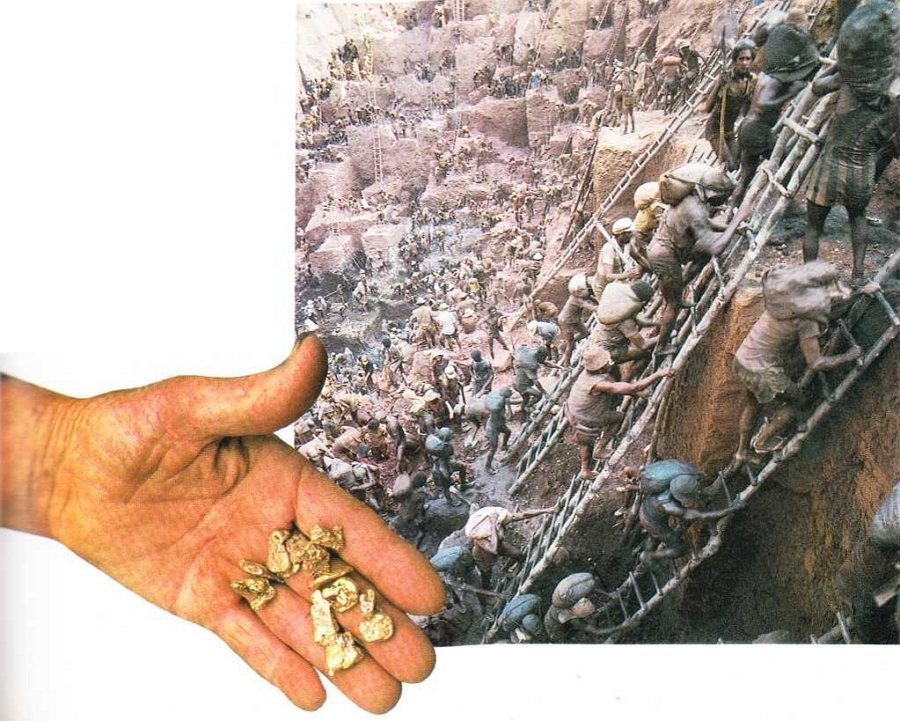 |
|
Полковника Фосетта гнало в тропические леса в глубине Бразилии не алчное стремление найти золото, а желание отыскать давно забытую культуру. Сегодня в этих местах тысячи рабочих в невероятно тяжелых условиях добывают золото; немногим счастливчикам попадаются самородки, вроде тех, что показаны внизу. |
Разгадка кажется близкой
В 1927 году младший сын Фосетта Брайан столкнулся в Лиме, столице Перу, с французским путешественником. Пересекая континент на автомобиле, этот француз повстречал на дороге в бразильском штате Минас-Жерайс, расположенном между Мату-Гросу и Атлантикой, старого, больного и явно плохо соображающего человека, назвавшегося Фосеттом. Француз ничего не слышал о пропавшем исследователе и не настоял на том, чтобы взять его с собой.
Брайан не мог найти денег для поисков, и лишь на следующий год Североамериканский газетный альянс снарядил группу под руководством Джорджа Дайотта, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения Фосетта. Вождь одного из племен сказал Дайотту, что видел пожилого белого человека в сопровождении двух мужчин помоложе, оба они хромали. Они двигались на восток, к Атлантическому океану. В течение пяти дней был виден дым от их костров, а потом о них ничего не слышали. Дайотт вернулся с убеждением, что Фосетта и его спутников убили индейцы, но семья полковника отказывалась в это верить.
Спустя четыре года швейцарский охотник Штефан Раттин возвратился из Мату-Гросу с рассказом о том, что индейцы держат полковника Фосетта в плену. Позднее Брайан услышал про мальчика, наполовину индейца, наполовину белого, который выдает себя за сына его брата Джека. Все подобные «ключи» не приближали к разгадке тайны - в том числе и кости, якобы принадлежащие Фосетту. Судьба его отца, с грустью заключил Брайан, так и останется неизвестной, а загадка «города
Z» - неразгаданной.«Пройдем ли мы через джунгли и вернемся или наши кости останутся гнить там, несомненно одно, - сказал полковник Фосетт Брайану перед расставанием. - Разгадку тайны далекого прошлого Южной Америки - а, возможно, и всего доисторического мира - можно будет найти, когда будут обнаружены и открыты для научных исследований древние города. Что эти города существуют, я знаю...»

Это полушутливое замечание оказалось мрачным пророчеством: ни Валленберга, ни его шофера Вильмоша Лангфельдера никогда больше на Западе не видели. С того дня их судьба покрыта тайной, здесь смешались слухи, предположения, полуправда и откровенная ложь, приходившая из- за «железного занавеса».
Что же это был за человек, Рауль Валленберг, загадку исчезновения которого за последние сорок лет неоднократно пытались разгадать и чья печальная судьба вызывает сочувствие во многих странах? Он родился 4 августа 1912 года в одной из богатейших семей Швеции, которую часто называют «шведскими Рокфеллерами»: в ней есть банкиры, промышленники, дипломаты, священники. В Мичиганском университете в Америке Рауль изучал архитектуру, однако ему было уготовано место в принадлежавшем семье банке, и в 1936 году его послали учиться бизнесу в Хайфу в тогдашней Палестине. Прапрадед Рауля был евреем, принявшим христианство, и молодой человек как-то похвастался, что его, Валленберга и «полуеврея», никому никогда не победить. В Хайфе, где он жил в пансионе для правоверных иудеев, он остро почувствовал, какой опасностью грозит европейским евреям нацизм: в город прибывало множество беженцев, и вскоре еврейское население достигло 50 тысяч.
Вернувшись в Швецию в 1939 году, как раз к началу Второй мировой войны, Рауль занялся экспортом и импортом продовольствия, став партнером бежавшего из Венгрии еврея Коломана Лауэра, которому был нужен надежный, знающий языки «иноверец», чтобы ездить в страны, захваченные фашистами. То, что он увидел в этих поездках, ужаснуло Валленберга, и через какое-то время его перестала удовлетворять его работа, у него возникло сильное желание делать что-то действительно полезное. В 1942 году, посмотрев английский кинофильм о вроде бы рассеянном профессоре, которому тем не менее удается провести фашистов и спасти евреев, Рауль сказал сестре, что это «как раз то», что хотел бы сделать он.
 |
|
Действительно ли Рауль Валленберг умер в застенках печально известной Лубянки? |
Валленберг против Эйхмана
В оккупированной нацистами Европе евреи были обречены на скорбный путь в концентрационные лагеря и газовые камеры. Но даже среди противников Германии мало кто поднимал голос против этих зверств и протягивал руку помощи тем, кто пытался бежать из ада. Лишь в январе 1944 года - и то только благодаря настойчивости министра финансов Генри Моргентау-младшего - американское правительство наконец что-то предприняло, образовав Совет по делам военных беженцев. Совет направил Ивера Ольсена, представителя министерства финансов, имевшего связи в Управлении стратегической разведки (позднее это ведомство превратилось в Центральное разведывательное управление), в нейтральную Швецию для осуществления плана спасения последней крупной еврейской общины в Европе - более 700 тысяч евреев, живших в Венгрии, которая стала союзницей Германии.
До того времени венгерское правительство не уступало нажиму Берлина, требовавшего массовой депортации евреев; многие из них были христианами и играли важную роль в экономической жизни страны. В марте 1944 года, чувствуя, что союзница колеблется, Германия послала в Венгрию войска и установила в стране послушный ей режим. Среди направленных в Будапешт нацистов был и Адольф Эйхман, архитектор «окончательного решения еврейского вопроса», человек, который, по словам одного из соратников, был «совершенно одержим идеей уничтожения всех евреев, что попадутся ему в руки». Отныне венгерским евреям предписывалось носить желтую шестиконечную звезду Давида, а вскоре их стали забирать для отправки в лагеря смерти.
В Стокгольме Ивер Ольсен привлек к американскому плану противостояния Эйхману 31-летнего Рауля Валленберга. С деньгами из секретных американских источников и с паспортом шведского дипломата 9 июля Валленберг прибыл в Будапешт. Он знал, что его миссия сопряжена с опасностью и что ему придется действовать быстро. Эйхман намеревался отправить всех будапештских евреев в лагеря смерти; Валленберг должен был постараться спасти как можно больше из них.
Пытаясь договориться с Эйхманом, Валленберг в декабре пригласил нациста на обед к себе на квартиру. В ходе беседы, проходившей под аккомпанемент советской артиллерии, заревом освещавшей горизонт на востоке, швед сказал своему гостю, что нацизм обречен. Эйхман был непоколебим. «Не думайте, что мы стали друзьями, - сказал он на прощанье. - Ничего подобного. Я намерен сделать все, чтобы помешать вам спасти ваших евреев. Дипломатический паспорт не от всего может защитить. Даже дипломат из нейтральной страны может попасть в аварию». Вскоре после этого в автомобиль Валленберга «случайно» врезался немецкий грузовик; к счастью, шведского дипломата при этом не было в машине.
На следующий день после Рождества советские войска окружили Будапешт. Эйхману удалось бежать из венгерской столицы, а Валленберг остался с доверившимися ему людьми.
В бездну
13 января 1945 года советский патруль обнаружил Валленберга в здании, находившемся под защитой Международного Красного Креста. Молодой дипломат попросил, чтобы его отвезли в штаб, где, как он надеялся, он сможет рассказать о своем
плане защиты оставшихся венгерских евреев и об их послевоенной реабилитации. Через четыре дня он ехал в Дебрецен.Не успела машина выехать из столицы, как Валленберга и его водителя Лангфельдера передали в руки НКВД. Вместо встречи с маршалом Малиновским их посадили на поезд и повезли в Москву. Советский МИД известил посла Швеции, что «приняты меры для защиты господина Рауля Валленберга». «Взятие под охрану» на самом деле означало заключение - сначала в здании НКВД на Лубянке, затем в Лефортовской тюрьме. Лангфельдера с марта 1945 года никто больше не видел. От бывших сокамерников Валленберга, позднее так или иначе оказавшихся на Западе, известно, что шведский дипломат содержался в московской тюрьме до весны 1947 года, после чего, вероятно, его отправили в Сибирь.
Тем временем советский посол в Стокгольме заверил мать Рауля Валленберга, что с ее сыном все в порядке и он скоро вернется домой; позднее посол сказал жене шведского министра иностранных дел, что, наверное, лучше не поднимать «шума» вокруг этого дела.
8 марта 1945 года друзья Валленберга в Будапеште услышали поразившее их сообщение контролировавшегося советскими властями радио: 17 января по дороге в Дебрецен шведского дипломата убили, скорее всего, немцы или их венгерские приспешники. На Западе этому мало кто поверил.
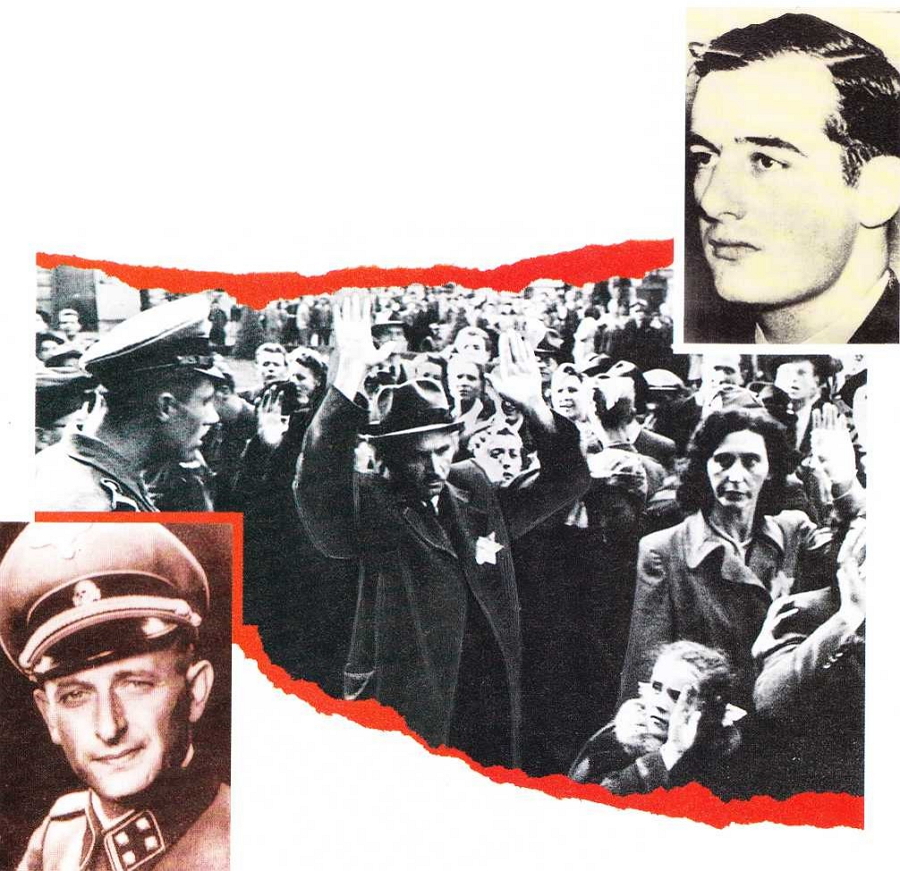 |
| Рауль Валленберг (справа) отважно выступил против Адольфа Эйхмана (внизу слева), стремившегося уничтожить венгерских евреев (на фото в центре - нацисты проводят облаву на евреев). |
Дипломатия холодной войны
Шведский посол Стэффан Содерблум сообщал своему начальству в Стокгольм: «Безусловно, трагическое исчезновение Валленберга тяжестью лежит у меня на сердце». Тем не менее он отверг помощь, предложенную послом США Авереллом Гарриманом, заявив, что нет причин не верить русским. «Мы не нуждаемся во вмешательстве американцев», - резко добавил Содерблум.
Рауль Валленберг стал первой жертвой холодной войны. Из-за того, что он вел дела с Эйхманом, его поначалу сочли гитлеровским агентом. Когда же русские узнали, что его миссии содействовал Совет по делам военных беженцев, а также что он связан с Ивером Ольсеном, они, судя по всему, решили, что Валленберг работает на Управление стратегической разведки. Стремясь сохранить нейтралитет Швеции по отношению к Соединенным Штатам и Советскому Союзу, Содерблум мало что сделал, чтобы продолжить поиски. Вполне понятно, писал он на родину, что Валленберг мог пропасть в хаосе последних месяцев войны в Венгрии.
Перед тем как покинуть Москву в июне 1946 года, Содерблум попросил аудиенции у Сталина. Хотя он был уверен, что Валленберг мертв и что у советских властей нет никаких сведений о его судьбе, он все же попросил Сталина дать официальное подтверждение. «Это и в ваших же интересах, - сказал он советскому диктатору, - поскольку есть люди, которые, в отсутствие такой информации, могут сделать неверные выводы». Сталин записал имя Валленберга и обещал, что все будет выяснено. «Я лично за этим прослежу», - заверил он.
Спустя четырнадцать месяцев, в августе 1947 года, Министерство иностранных дел СССР проинформировало нового шведского посла в Москве, что «Валленберга в Советском Союзе нет и нам о нем ничего не известно».
| Герой Холокоста | |
|
|
К тому времени, когда Рауль Валленберг появился в Будапеште - в июле 1944 года, - Адольф Эйхман уже успел отправить в концентрационные лагеря около полумиллиона венгерских евреев. Однако более 200 тысяч евреев, в основном в столице, сумели избежать страшной участи. Чтобы спасти как можно больше людей, Валленберг начал выписывать «охранные паспорта» (см. слева), подтверждающие, что их владельцы прошли необходимые формальности для репатриации в Швецию и находятся под покровительством дипломатической миссии Королевства Швеция в Будапеште. Сначала эти паспорта выдавались лишь тем, кто имел родственные или деловые связи со Швецией; позднее Валленберг стал выписывать их без подобных ограничений. Но деятельность Валленберга не ограничивалась выдачей паспортов. Со временем он создал организацию, в которой было 40 врачей и 335 других работников, трудившихся в двух больницах, в бесплатных столовых, детских яслях и, самое главное, в 32 убежищах, над которыми был вывешен шведский флаг. Когда пронацистски настроенные салашисты напали на одно из них, находчивый швед переодел некоторых из своих подопечных - с наиболее «арийской внешностью» - в немецкую форму и поставил «часовых» перед убежищами. Когда военное поражение Германии стало очевидным, Валленберг заявил немцам и их венгерским пособникам, что если они не прекратят преследование евреев, то их будут судить как военных преступников. Сам же он не боялся угроз: «Моя жизнь — это жизнь только одного человека, а речь идет о жизни многих людей». К концу войны в живых оставалось 120 тысяч венгерских евреев, 15 - 20 тысяч из них были обязаны своим спасением лично Валленбергу. |
«Тюремный телеграф»
На Западе дело Валленберга оставалось открытым. В Будапеште те, кто восхищался этим человеком, решили воздвигнуть ему памятник. Альберт Эйнштейн был среди тех, кто выдвинул Рауля Валленберга на Нобелевскую премию мира. Но самое главное, на Западе появились его бывшие сокамерники, которые могли подтвердить, что он находился в заключении с января 1945 по апрель 1947 года. Среди них были два немца - Густав Рихтер и Хорст Кичман. Оба они сообщили, что их допрашивали о Валленберге в Лефортовской тюрьме 27 июля 1947 года и что после допроса их перевели в одиночку.
По их рассказам, за два года заключения в Москве Валленберга выпускали из камеры лишь на ежедневную 20-минутную прогулку во дворике размером 3 на 4,5 метра, окруженном забором, чтобы узники не видели друг друга. Но, как все заключенные, он вскоре научился пользоваться «тюремным телеграфом». По соединявшим камеры трубам успешно передавались сообщения, выстукиваемые зубными щетками. Самым простым кодом была так называемая «азбука Морзе для дураков»: буква А - один удар, В - два, С - три и т. д. Существовала и более сложная система - «пять на пять» или «система квадрата», в которой все буквы алфавита располагались в воображаемой сетке: от А до Е - в первом ряду, от F до J - во втором и т. д. Сначала выстукивался номер ряда, затем - номер колонки для каждой буквы. Два удара, а затем пять означали J - пятую букву во втором ряду.
Вернувшийся из заключения в СССР итальянец Клаудио де Мор вспоминал, как он изумился, услышав по «тюремному телеграфу», что в Лефортове держат дипломата из нейтральной страны. Три освободившихся немецких дипломата рассказывали, как они помогали Валленбергу - тоже по «телеграфу» - писать по-французски письмо Сталину. Дошло ли оно до адресата, они не знали. Затем, весной 1947 года, Валленберг передал последнее сообщение: «Нас переводят отсюда».
 |
|
При Сталине в Советском Союзе существовали тысячи трудовых лагерей и колоний. Если верить рассказам бывших заключенных Гулага, Валленберг прошел через несколько из них. |
Затерянный на архипелаге Гулаг
Вместе с примерно 50 другими заключенными - почти все они были русскими, осужденными в основном за «контрреволюционную деятельность», - Валленберга отправили в Воркутинский лагерь в ста с лишним километрах к северу от Полярного круга. В течение последующих двенадцати лет, если опять же верить свидетельствам других вернувшихся на Запад узников, его перебрасывали из лагеря в лагерь печально известного архипелага Гулаг.
Один врач вспомнил, что летом 1948 года осматривал Валленберга, чтобы решить, можно ли его использовать на строительных работах; в то время шведу было 36 лет. Венгерский профессор встретил его в 1951 году в московской тюрьме, когда его переводили из одного лагеря, в 2500 километрах к северо-востоку от столицы, в другой - на 1500 километров восточнее. Бывший военный атташе Польши в 1953 году видел, как Валленберга сажали в товарный вагон в сибирском лагере. Один швейцарец перестукивался с ним во владимирской тюрьме в 1954 году, а, по словам одного австрийца, годом позже во Владимире его по ошибке поместили в камеру Валленберга, который попросил его, если его когда-нибудь освободят, сообщить в любое шведское представительство, что «швед из Будапешта все еще жив». Бывший политзаключенный из Грузии рассказал, что с 1948 по 1953 год не раз оказывался в одной камере с Валленбергом. Однако к концу десятилетия надежных свидетельств людей, видевших его, стало меньше, большинство сообщений были расплывчатыми, а факты, доказывающие, что он по-прежнему жив, были путаными и часто противоречивыми. Среди тех, кто видел его последним, был все тот же польский военный атташе, по словам которого при их новой встрече в октябре 1959 года Валленберг выглядел «молодым и крепким».
| Архипелаг Гулаг | ||
|
До того как политический климат в Советском Союзе смягчился, советским гражданам было опасно выражать несогласие с системой. Диссиденты часто исчезали в лагерях «архипелага Гулаг». Сокращение «Гулаг» расшифровывается как Главное управление исправительно-трудовыми лагерями, а «архипелагом» их назвали потому, что они, как цепь островов, протянулись через всю страну. Жизнь заключенных ярко описал лауреат Нобелевской премии писатель Александр Солженицын, который сам восемь лет провел в лагерях. В двух своих произведениях - «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг Гулаг» - он показал, в каких нечеловеческих условиях приходилось жить и работать узникам. Тяжкий труд по 16 часов в день, шесть дней в неделю, на скудном пайке и в отсутствие каких бы то ни было мер безопасности. |
|
В 70-х годах, например, заключенные работали на урановых рудниках, не имея даже защитной одежды. Тысячи людей умерли, еще больше узников Гулага серьезно подорвали здоровье. Кроме того, заключенные подвергались унижению и даже пыткам. Подобные места ссылки уголовных и политических преступников существовали и в царской России. Но в период сталинского террора сеть лагерей страшно разрослась, и, как полагают, в Гулаге погибло 10 миллионов человек. При написании «Архипелага Гулаг», рассказывая о том, что автор назвал «сорокалетием невиданного государственного терроризма», Солженицын опирался на воспоминания свидетелей и посвятил свой труд «всем тем, кому не хватило жизни об этом рассказать». |
|
Александр Солженицын рассказал правду о советских лагерях, за это он был выслан из Советского Союза. |
||
Неумирающая надежда
Несмотря на то что Москва еще в августе 1947 года решительно заявила, что в СССР ничего не знают о местонахождении Рауля Валленберга, его родные продолжали надеяться. Под давлением семьи и озабоченных граждан шведское правительство в 1952 - 1954 годах сделало не менее 15 письменных и 34 устных запросов советской стороне.
В апреле 1956 года премьер-министр Таге Эрландер, прибывший в СССР с первым официальным визитом, вручил председателю Совета министров Николаю Булганину письмо Раулю от его матери, а также папку с документами по делу Валленберга. «Это пустая трата времени! - закричал Булганин. - Нам некогда заниматься такой ерундой».
- Если вы не хотите принять материалы, которые я привез, - ответил Эрландер, - как вы можете быть уверены, что все это фальсификация, пустая интермедия с целью поставить вас в неловкое положение?
- Я не желаю больше об этом слышать! - заорал Булганин. Когда Никита Хрущев, Первый секретарь коммунистической партии, успокоил его, он согласился, «в качестве жеста доброй воли по отношению к Швеции», рассмотреть переданные материалы.
- Мы постараемся дать вам ответ как можно скорее, - пообещал Булганин.
16 февраля 1957 года шведское правительство получило ответ. В записке, написанной от руки, обнаруженной в архивах санчасти Лубянской тюрьмы, констатировалось, что «заключенный Валленберг» умер в своей камере, судя по всему, от сердечного приступа. Датирована записка 17 июля 1947 года, то есть за десять дней до допросов Рихтера и Кичмана, благодаря которым и стало известно о том, что он все это время находился в СССР.
Но и это запоздалое признание советскими властями, что Валленберг действительно был в заключении на их территории сразу после войны, не удовлетворило тех, кто хотел знать полную правду и продолжал надеяться, что Валленберг жив.
Подтверждение — и вновь отрицание
В 1961 году авторитетный врач и ученый Нанна Шварц приехала в Москву по приглашению старого знакомого, президента Академии медицинских наук А. Л. Мясникова. В разговоре, который велся на немецком языке, гостья спросила про Валленберга. Мясников признался, что ему «многое известно о деле Валленберга». По его словам, герой Будапешта был в психиатрической больнице, «чрезвычайно измученный, нервный и подавленный». Мясникова приглашали лечить шведа два года назад, когда тот объявил голодовку, а совсем недавно он вновь его осматривал.
Доктор Шварц передала эту информацию шведскому правительству, и Эрландер написал Хрущеву, попросив советского руководителя вернуть Валленберга на родину. Москва настаивала на том, что Валленберг умер. «В третий раз уже мы сообщаем вам, что тема полностью закрыта», - сказал Хрущев шведскому послу, передавшему ему письмо Эрландера, и дал понять, что любые попытки продолжать обсуждение этого вопроса лишь ухудшат отношения между Швецией и Советским Союзом.
Во время последующих приездов в Москву доктор Шварц старалась выведать у Мясникова новые подробности. Ее советский коллега то злился на нее за то, что она обманула его доверие, то заявлял, что плохо говорит по-немецки и она его неправильно поняла, но в конце концов подтвердил, что Валленберг умер в 1965 году. На этот раз Шварц обещала Мясникову хранить тайну и нарушила молчание только в 1981 году, после состоявшегося в Стокгольме международного слушания по делу Валленберга, которое, по ее мнению, вселяло напрасную надежду на то, что Валленберг жив и находится в Советском Союзе.
Среди тех, кто не терял надежды, были мать Рауля, второй раз вышедшая замуж, когда ему было шесть лет, и его отчим Фредрик фон Дардел. В феврале 1979 года, в возрасте 86 и 93 лет, они скончались - один через два дня после другого. Продолжить поиски они завещали брату и сестре Рауля Валленберга Гуи фон Дарделу и Нине Лагергрен. Им тоже не удалось раскрыть эту тайну, но они стали свидетелями посмертного признания заслуг их брата, которое он неожиданно получил в Соединенных Штатах.
 |
|
5 октября 1981 года Президент Рональд Рейган подписал документ о присвоении звания почетного гражданина США Раулю Валленбергу. Слева стоит сестра Валленберга Нина Лагергрен, справа - его брат Гун фон Дардел, за спиной Рейгана - Том Лантош. |
Почетный гражданин США
Осенью 1980 года Том Лантош, еврей, бежавший в войну из Венгрии, был избран в Палату представителей от штата Калифорния. Он и его жена принадлежали к тем людям, кто был обязан Валленбергу жизнью, и вполне естественно, что именно Том Лантош внес в Конгрессе проект постановления о присвоении Раулю Валленбергу звания почетного гражданина Соединенных Штатов - до этого такой чести был удостоен только Уинстон Черчилль. В октябре 1981 года Нина Лагергрен и Гуи фон Дардел присутствовали на церемонии подписания этого документа Президентом Рейганом.
Летом и осенью 1989 года имя Рауля Валленберга снова появилось в новостях. Представители советского правительства сообщили группе американских журналистов, что расследование дела возобновляется. Затем на проходившей в Париже конференции по правам человека член советской делегации признал, что исчезновение шведского дипломата - это «темная страница в советской истории». Московский журнал «Новое время», выражая сочувствие друзьям Валленберга, все еще надеющимся на чудо, написал, что, к сожалению, «прошлого не вернешь». Наконец, в октябре советское правительство пригласило Нину Лагергрен и Гуи фон Дардела в Москву, где им передали паспорт и записные книжки Рауля, первые реальные свидетельства его пребывания в СССР. Однако советская сторона продолжала утверждать, что он умер в июле 1947 года, и возлагала вину за его арест и содержание в тюрьме на жестокий сталинский режим.
Тем временем в мае 1987 года в Будапеште открылся давно задуманный памятник спасителю тысяч венгерских евреев. На граните высечена латинская надпись: «Пока счастье тебе улыбается, у тебя много друзей; в трудные времена ты один». У Рауля Валленберга, как выяснилось спустя сорок лет, друзья были и в несчастье и в радости. Тайна его смерти, возможно, так и не будет раскрыта, но память о нем не умрет.
 Когда
17
августа 1590 года английский капер «Хоупвелл»
подошел к острову Роанок, капитан Абрахам Кок
дал залп из пушки, извещая, что он и губернатор
Джон Уайт прибыли. Три года назад, действуя по
поручению сэра Уолтера Рейли, получившего
королевскую привилегию от Елизаветы I, Уайт
основал то, что должно было стать первой
постоянной колонией Англии на восточном
побережье Северной Америки. Оставив поселенцев
на Роаноке, 28 августа 1587 года губернатор
отплыл в Англию, чтобы привезти необходимые
припасы.
Когда
17
августа 1590 года английский капер «Хоупвелл»
подошел к острову Роанок, капитан Абрахам Кок
дал залп из пушки, извещая, что он и губернатор
Джон Уайт прибыли. Три года назад, действуя по
поручению сэра Уолтера Рейли, получившего
королевскую привилегию от Елизаветы I, Уайт
основал то, что должно было стать первой
постоянной колонией Англии на восточном
побережье Северной Америки. Оставив поселенцев
на Роаноке, 28 августа 1587 года губернатор
отплыл в Англию, чтобы привезти необходимые
припасы.
Но вернуться он смог лишь через три года и, должно быть, думал, что его радостно встретят заждавшиеся поселенцы. Матросы налегали на весла шлюпки, кричали, пели и трубили в рожки, пытаясь привлечь внимание тех, кого оставили здесь в 1587 году. Высадившись на северной оконечности острова, они обнаружили, что поселок пуст.
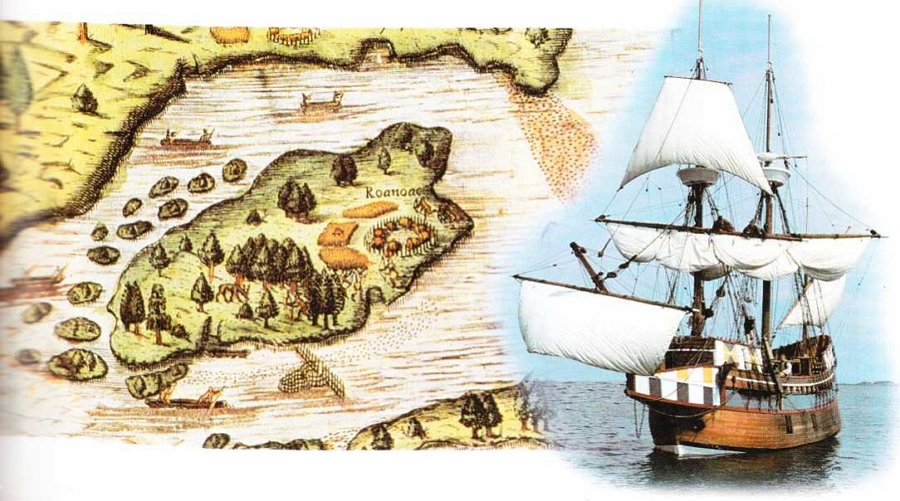 |
|
Старинное изображение острова Роанок; справа видно поселение, окруженное частоколом. Внизу справа: копия судна XVI века. Корабль, стоящий на якоре у Роанока, представляет собой музей, посвященный первому плаванию англичан к берегам Северной Каролины. |
Высадка не в том месте
Более ранняя, неудавшаяся попытка основать колонию на Роаноке была предпринята сэром Ричардом Гренвиллом, двоюродным братом Рейли, ле
том 1585 года. Оставив на острове более 100 человек, Гренвилл в конце августа отплыл в Англию, пообещав вернуться к Пасхе на следующий год. Колонисты, которыми руководил губернатор Ралф Лейн (среди них был и Джон Уайт, выполнявший обязанности художника и картографа экспедиции), исследовали местность, искали полезные ископаемые. Но вскоре у них возник конфликт с индейцами, стало труднее добывать пропитание. Не надеясь больше дождаться возвращения Гренвилла, поселенцы воспользовались возможностью вернуться в Англию с сэром Фрэнсисом Дрейком, который в июне 1586 года сделал неожиданную остановку на острове после налетов на испанские колонии в Новом Свете. Через две недели, но уже слишком поздно на Роанок вернулся Гренвилл с припасами и 15 новыми колонистами. Он оставил этих людей на острове Роанок, чтобы они удерживали позиции до прибытия подкрепления из Англии.Новую группу возглавил Джон Уайт, назначенный губернатором колонии, которую предстояло основать на берегу Чесапикского залива. 26 апреля 1587 года три корабля Уайта, на борту которых находилось 117 будущих колонистов - на этот раз среди них были также женщины и дети, отплыли из Портсмута. В числе пассажиров была и дочь Уайта Элинор. Она была замужем за поселенцем по имени Ананиас Дэйр и ждала ребенка. 22 июля корабли подошли к острову Роанок, Уайт намеревался забрать 15 мужчин, высадившихся там год назад. На Роаноке их встретила мрачная картина. Они обнаружили лишь одного из 15 человек - вернее, его останки. Укрепления были разрушены, но некоторые дома сохранились, хотя и заросли плющом. Уайт хотел двигаться дальше, но этому помешал старший капитан экспедиции, лоцман-португалец по имени Симон Фернандес. Фернандес неожиданно объявил, что высаживает колонистов на Роаноке и возвращается в Англию на самом большом из трех кораблей.
 |
Англичане, селившиеся вдоль восточного побережья Северной Америки, назвали свою первую колонию Виргинией от английского the Virgin Queen, то есть «королева- девственница», как называли Елизавету I. Сегодня эти земли входят в состав штатов Виргиния и Северная Каролина. |
Было уже слишком поздно что-то сеять, и поселенцам приходилось лишь надеяться на щедрость местных индейцев. Но те тоже покинули остров, напуганные и оскорбленные поведением англичан, прибывших сюда ранее. Поэтому Уайт решил на одном из двух небольших судов плыть в Англию за провиантом. Колонисты должны были воспользоваться третьим кораблем, чтобы партия за партией перебраться на север, к Чесапикскому заливу, оставив на Роаноке группу из 25 мужчин, чтобы они по возвращении Уайта указали ему дорогу к новому поселению.
Перед отплытием Джон Уайт отпраздновал семейное событие: 18 августа у его дочери родилась девочка, которую он нарек Вирджинией. Это был первый ребенок, родившийся у европейских поселенцев в Северной Америке за пределами испанских владений, и малышка получила подобающее имя в честь колонии и в честь «королевы-девственницы» Елизаветы I.
| Первые описания Нового Света | ||
|
Во второй половине XVI века Англия стала морской державой. В елизаветинской Англии отмечался расцвет не только музыки и литературы, активно развивалось и кораблестроение. Англичане больше не желали мириться с разделом мира между Португалией и Испанией: по Тордесильясскому договору 1494 года Португалия претендовала на Африку и Бразилию, а Испания на большую часть Нового Света и его богатства. Стремясь «опалить бороду испанскому королю», капитаны английских каперов - прежде всего Фрэнсис Дрейк - успешно атаковали испанские корабли, перевозившие на родину золото и серебро из Нового Света. Но Англия хотела иметь свою колонию, подобную тем, что приносили такие богатства Испании. В 1584 году Уолтер Рейли, фаворит королевы Елизаветы I, получил от монарха привилегию на открытие и освоение земель, которые еще не принадлежат «ни одному христианскому правителю». В том же году Рейли отправил первую экспедицию для изучения территории, в наши дни носящей название Северная Каролина. Один из руководителей экспедиции Артур Барлоу прислал Рейли длинный отчет, красочно расписывавший эти края: земля там плодородна и родит кукурузу, горох и дыни; в лесах много дичи; виноградные лозы сгибаются под тяжестью гроздей. Туземцев он нашел «добрыми, любящими и преданными, не способными на хитрость и предательство... живущими по обычаям золотого века». В числе первых колонистов, которых Рейли послал в Америку в 1585 году, был и 25-летний Томас Хэриот, недавно окончивший Оксфорд, но уже считавшийся одним из ведущих натуралистов Англии. За год, проведенный на Роаноке, он положил начало научному изучению Северной Америки. Его книга «Краткое и достоверное описание новооткрытой страны Виргиния» вышла в 1588 году с прекрасными подробными иллюстрациями Джона Уайта. Книга Хэриота, переведенная на латынь, французский и немецкий, в течение столетия была для Европы основным источником информации о Новом Свете. В первой главе автор перечислял «преимущества для торговой профессии»: квасцы, виверра, шелковичные черви, деготь, вино, кедровое дерево, шкурки выдры, медь и многое другое. Будущие поселенцы найдут там и изобильное пропитание. Глава, посвященная коренным обитателям, читается как пророчество на последующие 300 лет. Индейцы, писал он, люди бедные, европейские безделушки они считают огромным сокровищем, их оружие и приемы боя не идут в сравнение с европейскими. В стычках с поселенцами из колонии Роанок лучший способ обороны, к которому прибегали индейцы, - это «показать нам пятки». Ссоры возникали во многих туземных поселках, которые посещали белые; случались и мелкие кражи. Часто белые люди быстрыми и крутыми мерами демонстрировали свою власть и наказывали подобные проступки. Но худшее наказание часто ждало индейцев после ухода белых: они умирали от занесенных европейцами кори и оспы. После таких роковых встреч индейцы стали относиться к белым людям как к могущественным, но жестоким и мстительным богам - богам, против которых они рано или поздно должны восстать. |
|
|
|
Индейское поселение на рисунке Джона Уайта. Справа изображено кукурузное поле, вверху - место, где готовят пищу, в середине рисунка - накрытый «стол». Справа внизу - индейцы исполняют ритуальный танец, большая хижина в левом нижнем углу - место захоронения вождей. На акварельном рисунке Джона Уайта (справа) украшенный татуировкой индеец из Северной Каролины.
|
||
Запоздалое возвращение
Все вышло не так, как рассчитывал Уайт, и шесть-восемь месяцев, на которые он уезжал, растянулись на долгих три года. Лишь в марте 1590 года Рейли смог отправить губернатора в путь на капере «Хоупвелл», загрузив его и еще четыре судна припасами для оказавшихся в тяжелом положении колонистов.
Итак, 17 августа 1590 года, почти через три года после того, как Уайт покинул Роанок, он вернулся. «Хоупвелл» и другой такой же корабль «Мунлайт» бросили якоря у острова, отделяющего Албемарлский залив от Атлантического океана, и две шлюпки устремились к берегу. Первую, с «Мунлайта», перевернуло прибойной волной, и капитан с шестью матросами утонули - как раз перед тем, как Уайт обнаружил, что в поселке никого нет.
Куда же делись колонисты, приплывшие на Роанок в 1587 году? Один ключ к разгадке все же был: на острове обнаружили два одинаковых знака. На дереве у ворот обнесенного частоколом поселения было вырезано слово «КРОАТОН», на другом, у дороги, ведущей к причалу, всего три буквы - «КРО», вероятно, сокращение того же слова.
На самом деле колонисты обещали, что, если им придется покинуть Роанок, они оставят на видном месте знак, говорящий, куда они ушли. В случае опасности они должны были добавить к этому знаку крест. Поскольку креста ни на том, ни на другом дереве не было, это могло означать лишь то, что поселенцы по собственной воле перебрались на Кроатон, остров, находящийся в 80 километрах южнее и населенный дружественными индейцами. Уайт хотел немедленно плыть туда. Но погода испортилась, «Хоупвелл» сорвался с якоря, и его начало сносить в открытое море. Из-за этого Уайт так и не преодолел короткого расстояния до Кроатона, и оба корабля взяли курс на Англию. 24 октября они вернулись в Плимут.
Никого из 117 мужчин, женщин и детей, оставшихся в 1587 году на острове Роанок, больше не видели. В книгах по истории их называют «исчезнувшей колонией». Что же с ними случилось?
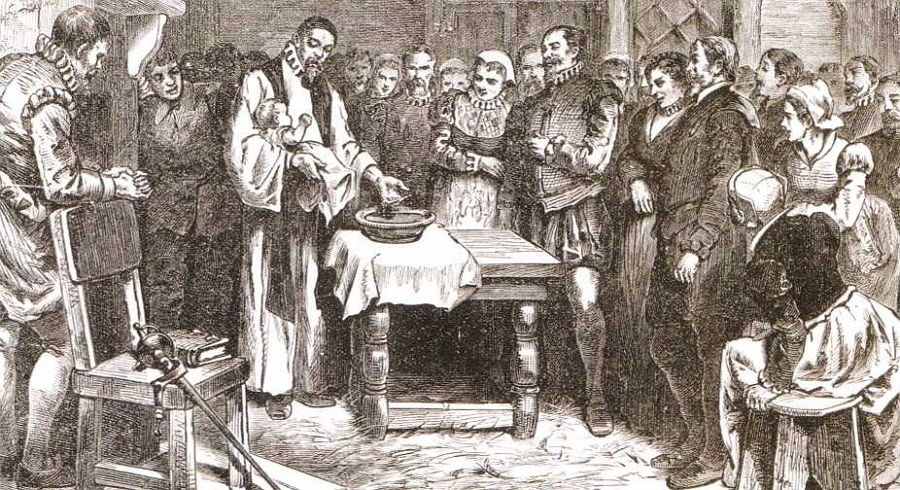 |
|
Крещение в 1587 году на Роаноке внучки Джона Уайта Вирджинии Дэйр, первого ребенка, родившегося у английских поселенцев в Америке. Девочка бесследно исчезла вместе с родителями и другими колонистами Роанока. |
Погибли от рук испанцев?
В 1586 году знаменитый английский пират сэр Фрэнсис Дрейк разграбил Сан-Аугустин во Флориде, самое северное испанское поселение в Америке, и, направляясь домой, поплыл на север вдоль побережья. До испанского губернатора Флориды Педро Менендеса Маркеса дошли слухи, что англичане строят на севере форт, а возможно, даже хотят основать колонию. Это позволило бы английскому флоту оставаться в Новом Свете на зимние месяцы. До сих пор испанцы могли рассчитывать на временную передышку от пиратских набегов, так как в конце лета англичане были вынуждены возвращаться на родину.
Менендес Маркес не мог знать, что на этот раз Дрейк всего-навсего сделал остановку в Виргинии и забрал терпящих бедствие колонистов Гренвилла с Роанока. Вероятно, испанец не знал и о второй группе поселенцев, оставленных на Роаноке Уайтом в 1587 году. Однако он был полон решимости выяснить, что затевали англичане, и в июне 1588 года послал на разведку небольшой корабль под командованием Винсента Гонсалеса.
Обследовав Чесапикский залив, на обратном пути испанцы наткнулись на Роанок. На острове они обнаружили причал для шлюпок и несколько бочек. но ни поселенцев, ни укреплений не увидели. С этим известием Винсент Гонсалес вернулся в Гавану. Но Менендес Маркес еще раньше узнал про колонию на Роаноке и уже получил от испанского короля приказ уничтожить ее при первой же возможности.
Эта возможность ему так и не представилась. Английские пираты не оставляли испанцев в покое, и приходилось использовать все имевшиеся боевые корабли для охраны судов, перевозивших из Америки в метрополию золото и серебро. Таким образом, можно смело утверждать, что испанцы не виноваты в исчезновении английской колонии.
 |
|
Губернатору Уайту, вернувшемуся в Америку в 1590 году, показывают слово «КРОАТОН», вырезанное на дереве у ворот опустевшего поселения Роанок. |
Убиты индейцами?
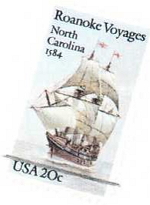 |
|
Памятная марка, выпущенная к 400-летию первого плавания к острову Роанок в 1584 году. |
Какую опасность в действительности представляли для английских поселенцев жившие в тех местах индейцы? Джон Уайт помнил, какой теплый прием оказали белым людям туземцы. Только благодаря их поддержке и гостеприимству англичане смогли пережить первую зиму. Индейцы дали им семена, научили выращивать кукурузу, помогали делать запруды, чтобы ловить рыбу.
Поселенцы по-своему отплатили за эту доброту. Когда из одной лодки пропал серебряный кубок, сэр Ричард Гренвилл сжег индейскую деревню и уничтожил посевы кукурузы. Может быть, исчезнувшие колонисты Уайта поплатились за это и другие подобные злодеяния англичан?
Но ведь на деревьях, где они оставили знаки, не было креста, который бы означал, что им пришлось бежать с Роанока, спасаясь от опасности. К тому же, прибыв на остров в 1590 году, Уайт не обнаружил ни трупов, ни сожженных строений. Иными словами, нет никаких свидетельств, подтверждающих, что поселенцы стали жертвами возмездия со стороны индейцев.
Что же произошло?
Скорее всего, большая часть колонистов, следуя первоначальному плану, двинулась на север, чтобы основать поселение у входа в Чесапикский залив, в месте под названием Скикоак. Там индейцы из племени чесапик могли дать им какую-то защиту от враждебно настроенных индейцев, живших дальше на север и на запад, во главе которых стоял вождь Поухатан.
Но небольшая группа английских поселенцев, возможно, как и было договорено, осталась на Роаноке. Столкнувшись с растущей враждебностью индейцев, опасаясь испанцев и потеряв надежду на возвращение Уайта, они могли переселиться на расположенный южнее Кроатон. С годами англичане неизбежно должны были принять образ жизни индейцев и в конце концов стали неотличимы от коренных жителей.
А что же стало с той, большей частью колонистов, которая перебралась к Чесапикскому заливу? Вероятно, они тоже со временем влились в индейское племя, в данном случае чесапик. Но однажды пришла беда. Под влиянием жрецов Поухатан решил покончить с опасностью, которая исходила от «бледнолицых», а также от племени чесапик, не желающего признавать его власти. В апреле 1607 года он напал на Скикоак и полностью его уничтожил. Спустя месяц в расположенном неподалеку Джеймстауне была основана первая постоянная английская колония. Ее жители не нашли никаких следов колонистов Роанока.

Миллер всегда нервничал, когда ему приходилось летать, и одномоторная машина не добавляла ему уверенности. Его попутчик полковник Норман Безелл успокоил его, напомнив, что Линдберг на одном моторе пересек Атлантику, а они летят всего лишь до Парижа. «Черт подери, где у них парашюты?» - спросил Миллер. «Что с вами, Миллер? Вы что, собираетесь жить вечно?» - пошутил в ответ полковник. Вскоре самолет взлетел, скрылся в густом тумане — и исчез навсегда.
Лишь 24 декабря - после того, как о случившемся сообщили жене Миллера, находившейся дома, в Нью-Джерси, - было объявлено, что руководитель знаменитого оркестра пропал без вести. Война в Европе вступила в заключительный этап, и занятое более важными проблемами военное командование США решило, что «Норсман» упал в воды Ла-Манша из-за обледенения или отказа двигателя. Никаких поисков организовано не было, и расследования катастрофы не проводилось.
Друзей и поклонников популярного джазового музыканта не удовлетворило официальное объяснение. Вскоре стали распространяться самые невероятные слухи. Говорили, что самолет, на котором летел Миллер, подбили немцы; что его убили в пьяной драке; что полковник Безелл, связанный с махинациями на черном рынке, застрелил Миллера и пилота и посадил самолет во Франции; что Миллера устранили по приказу командования как немецкого шпиона. Абсурдность подобных версий очевидна, но исчезновение Миллера так и не получило достоверного объяснения, и легенды о пропавшем музыканте, чьи мягкие ритмы завораживали миллионы слушателей, не умирают до сих пор.
 |
|
В декабре 1944 года одномоторный «Норсман», такой же, как на фотографии слева, пропал без вести вместе с находившимся в нем джазовым дирижером Гленном Миллером (на фото слева). Заголовки газет давали различные версии этого исчезновения. |
Гленн Миллер на вершине славы
Успех пришел к 35-летнему Гленну Миллеру в 1939 году. За 15 лет до этого, не доучившись в колледже, он начал работать на западном побережье в оркестре Бена Поллака в качестве тромбониста и аранжировщика. Позднее он играл в таких известных коллективах 20 - 30-х годов, как оркестры Томми и Джимми Дорси, Реда Николса, Смита Боллью и «короля свинга» Бенни Гудмена, который называл Миллера «музыкантом, преданным музыке».
Этот стройный молодой человек с серьезными глазами, глядящими сквозь стекла очков без оправы, достигал совершенства исполнения в каждой ноте, добиваясь от оркестра четкого звучания. Не добившись желаемого успеха со своим первым оркестром, Миллер в 1938 году собирает новый состав и уже в начале следующего года получает престижные ангажементы в казино «Гленн Ай
ленд» в Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк, и «Медоубрук» в Сидар-Гроув, штат Нью-Джерси.Осенью 1939 года новый оркестр Гленна Миллера выступил по национальному радио, и вскоре молодежь от Нью-Йорка до Сан-Франциско танцевала «щека к щеке» под знаменитые мелодии «В настроении», «Нитка жемчуга» и «визитную карточку» Миллера песню «Серенада лунного света». В 1940 году он заработал 800 тысяч долларов, а в следующем году снимается первый из двух фильмов с участием его оркестра «Серенада Солнечной долины» с Соней Хени в главной роли. Пластинка с записью «Чаттануга Чу-Чу», популярной песни из этой картины, разошлась миллионным тиражом и принесла Гленну Миллеру золотой диск от фирмы RCA Victor. Музыкант относился к своему успеху сдержанно и с юмором и однажды пошутил: «Вдохновляющее зрелище - смотреть с балкона на головы 7000 человек, покачивающихся в танце, особенно когда тебе платят по 600 долларов за каждую тысячу из них». А на вопрос, не хочет ли он стать новым «королем свинга», Миллер ответил: «Я бы предпочел славу руководителя одного из лучших оркестров, способных играть любую музыку. Разносторонность - вот чего я в первую очередь хочу добиться».
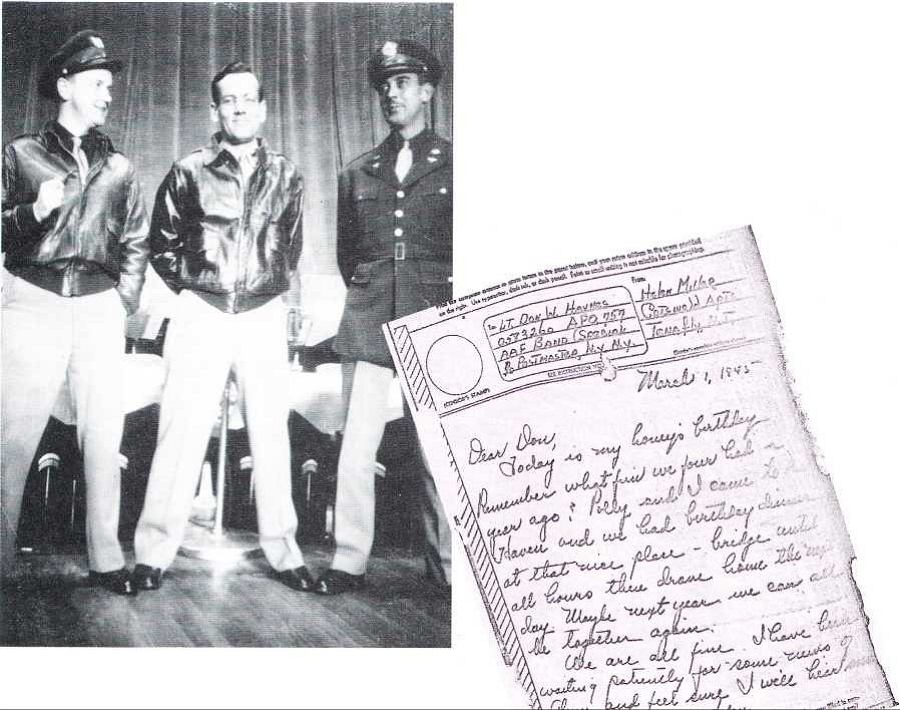 |
| (Слева) Гленн Миллер стоит в центре на фотографии, сделанной всего за три дня до исчезновения. Трои месяца спустя жена Миллера Xелен написала его другу Дону Хейнсу: «Я терпеливо жду каких-нибудь известий о Глене и уверена, что они скоро будут». |
Сбит отправляется на войну
Через восемь месяцев после вступления Америки во Вторую мировую войну Гленн Миллер отказался от своей феноменально успешной карьеры и предложил свои услуги военному ведомству. Осенью 1942 года ему присвоили звание капитана армии США. Разыскав других музыкантов, призванных на службу или записавшихся добровольцами, Миллер создал Оркестр армии и ВВС, который уже на следующий год выступал перед курсантами, проходившими подготовку в Йельском университете в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Но когда он ввел свинговые ритмы в военные марши, старший офицер напомнил ему, что в Первую мировую всех вполне устраивала музыка Джона Филипа Соусы. «А вы что, по-прежнему летаете на тех же самолетах, что и на той войне?» - спросил Миллер. Военные признали свинг.
В поездках по США оркестр собирал миллионы долларов на облигации военного займа, тем не менее музыкант считал, что делает мало. В июне 1944 года он добился разрешения выступить перед войсками, находившимися в Англии. В течение следующих пяти с половиной месяцев оркестр дал 71 концерт - лучшим средством поднятия морального духа солдат назвал их один генерал, «если не считать писем из дома». Концерты транслировались по радиосети Союзных экспедиционных войск, их могли слушать в частях на Британских островах и в континентальной Европе. Когда дирижера представили английской королеве, он узнал, что принцессы Елизавета и Маргарет почти каждый вечер слушают его оркестр по радио.
В декабре вышел приказ о выступлении оркестра во Франции. Накануне вылета в Париж Миллер почти всю ночь проговорил с другом, обсуждая планы создания нового оркестра, а затем спокойной жизни на ранчо в Калифорнии.
| Влюблённый в небо | ||
|
Всего за несколько месяцев до того, как бесследно исчез самолет, на котором летел Гленн Миллер, еще один знаменитый человек погиб в загадочной авиакатастрофе. 31 июля 1944 года французский писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери пропал, совершая разведывательный полет над Средиземным морем. До сих пор остается неясным, упал ли его самолет из-за технической неисправности или его сбил вражеский истребитель. Родившийся в 1900 году, Сент-Экзюпери сдал экзамен по вождению самолета, когда в начале 20-х годов служил во французских военно-воздушных силах. Позднее, уже в качестве гражданского летчика, он помогал прокладывать трассы воздушной почты в Северной Африке, Южной Атлантике и Южной Америке. В 1939 году он вернулся в военную авиацию, а в следующем году, после |
|
оккупации его родины нацистами, начал служить в Вооруженных силах Свободной Франции, базировавшихся в Северной Африке. В своих романах, эссе и дневниках Сент-Экзюпери с неподдельной страстью рассказывал о своих приключениях во время полетов. Сам писатель считал лучшей своей книгой вышедший в 1939 году сборник «Планета людей», но больше всего его помнят, вероятно, благодаря «Маленькому принцу». Эта ставшая классикой сказка с очаровательными авторскими иллюстрациями рассказывает о «забавном маленьком человечке» с далекой крохотной планеты, которого писатель встретил, когда сделал вынужденную посадку в пустыне. Эта детская сказка для взрослых напоминает читателю о таких извечных истинах, как то, что отдавать - это лучше, чем получать. |
|
Французский летчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери не вернулся из разведывательного полета над Средиземным морем во время Второй мировой войны. |
||
Смертельно больной человек
«Гленн Миллер не погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем. а скончался от рака легких в больнице» - таким неожиданным заявлением младший брат дирижера Герб Миллер в 1983 году нарушил почти 40-летнее молчание. По сто словам, Миллер действительно сел в самолет на аэродроме под Лондоном 15 декабря 1944 года. Но когда через полчаса самолет совершил посадку, музыканта отвезли в госпиталь, где он умер на следующий день. А версию об упавшем самолете придумал Герб Миллер, потому что его брат хотел умереть как герой, а не «на мерзкой больничной койке».
В качестве доказательства Герб Миллер приводил отрывок из письма, которое Гленн, заядлый курильщик, написал летом 1944 года: «Я совершенно истощен, хотя ем достаточно. Мне трудно дышать. По-моему, я очень болен».
Поскольку не было никакой катастрофы, утверждал младший Миллер, не было необходимости организовывать поиски или проводить расследование. Кроме того, по данным метеослужбы, 15 декабря 1944 года было 5
° тепла - вряд ли при такой температуре у самолета могли обледенеть крылья. И пилот «Норсмана» и попутчик Гленна Миллера полковник Норман Безелл позднее погибли в боях с немцами. Гленн, вероятно, похоронен в братской могиле на одном из военных кладбищ в Великобритании.В пользу этой версии говорит тот факт, что в последние месяцы жизни Гленн Миллер выглядел подавленным. раздражительным и очень усталым, страдающим, как он говорил, от приступов синусита. По словам Дона Хейнса, помощника Гленна Миллера и администратора его военного оркестра, музыкант сильно похудел и его сшитая на заказ форма «была ему совсем не по размеру. Она на нем просто висела». Джордж Вутсас, режиссер военного радио, вспоминал затянувшийся допоздна разговор о послевоенных планах. «Не знаю, зачем я трачу время на подобные планы, - вздохнул Миллер. - Знаешь, Джордж, у меня есть ужасное предчувствие, что вы, ребята, вернетесь домой без меня...»
|
Выступая перед солдатами |
|
|
Гленн Миллер по праву гордился своим вкладом в борьбу с врагом; он чувствовал, что его оркестр напоминает американским солдатам о доме. Самые замечательные звуки на его концертах, говорил он, раздавались, когда «тысячи солдат оглушительными, почти истерическими счастливыми воплями откликались на каждый номер». Высшие военачальники США придавали большое значение поддержанию морального духа и привлекали артистов театра, кино и радио для выступлений перед военнослужащими, проходившими подготовку на территории Соединенных Штатов, а позднее и в действующей армии на различных театрах военных действий. Среди наиболее популярных звезд была приехавшая в Голливуд из Германии актриса Марлен Дитрих,
|
которая очень кстати снялась в фильме под названием «Следуй за бравыми парнями». Большая поездка Дитрих по частям американской армии началась в Северной Африке и продолжилась в нескольких европейских странах. Под приветственные выкрики и аплодисменты она выходила на сцену в облегающей фигуру военной форме и начинала петь своим хрипловатым, завораживающим голосом. Актриса не требовала к себе особого отношения и часто за одним столом с солдатами ела то же, что и они. В нацистской Германии тоже понимали значение музыки и развлечений для поднятия духа солдат. Уже в октябре 1939 года, спустя месяц после начала войны, немцы начали передавать по радио программу под названием «Концерт по заявкам - для вас, воюющих на всех фронтах». Кроме музыкальных номеров эта программа включала послания и приветы из дома на фронт и с фронта домой. Одна популярная в годы Второй мировой войны песня совершила путешествие из немецких окопов в окопы союзников. «Лили Марлен», печальная песня Лале Андерсена о прощании солдата со своей невестой у ворот гарнизона, была сочтена деморализующей и в 1942 году запрещена в Третьем рейхе. Зато вскоре англоязычный вариант этой песни приобрел огромную популярность у американских солдат.
(Слева) Знойная Марлен Дитрих обнимает двух военнослужащих союзных армий. (Внизу) Гленн Миллер, которому через два месяца после прибытия в Англию было присвоено звание майора, дирижирует оркестром Объединенных ВВС перед солдатской аудиторией. |
|
|
|
 |
|
В поисках истины
Военные не подтвердили версию Герба Миллера о смерти его брата, но бывшие британские летчики предложили более правдоподобное объяснение исчезновения знаменитого музыканта.
В 1955 году Джеймс Стюарт и Джун Эллисон сыграли главные роли - Гленна Миллера и его жены Хелен - в картине «История Гленна Миллера». Посмотрев этот фильм, бывший штурман Королевских ВВС Фред Шоу попытался поделиться с прессой своими соображениями о судьбе «Норсмана», но журналисты не стали его слушать. В 1984 году Шоу, к тому времени переселившийся в Южную Африку, снова увидел картину. На этот раз ему удалось опубликовать свой рассказ.
15 декабря 1944 года их «Ланкастер», летавший бомбить Германию, возвращался, не выполнив задания. На подлете к южному побережью Англии бомбардир сбросил неизрасходованные бомбы, в том числе двухтонную «булочку», которая взорвалась в нескольких метрах над поверхностью моря. Когда Шоу выглянул, чтобы посмотреть на взрыв, он заметил летящий внизу «Норсман». Шоу объяснил, что этот легкий самолет могла сбить ударная волна от взрыва.
В Англии в поисках фактов, подтверждающих рассказ Шоу, один из членов Общества Гленна Миллера обратился в британское министерство обороны и поместил объявление в журнале для летчиков ВВС. На объявление откликнулся командир «Ланкастера» Виктор Грегори.
Хотя сам Грегори ничего не видел, он подтвердил, что его штурман Шоу действительно заметил летевший внизу «Норсман», а стрелок, ныне уже покойный, сообщил, что этот самолет упал в море. Поскольку они в тот раз не смогли выполнить задание, опрос экипажа по возвращении на базу не проводился, и позже Грегори не стал докладывать о случившемся начальству.
Свидетельство Шоу подтолкнуло отдел истории ВВС британского министерства обороны начать расследование. До этого англичане считали, что делом об исчезновении Миллера должны заниматься только американцы. Однако «Норсман», в котором находился Миллер, взлетел с английского аэродрома и направлялся во Францию, хотя план полета подан не был. Маршруты «Норсмана» и бомбардировщика могли пересечься, но самолеты могли пролететь и на много километров друг от друга.
 |
Джеймс Стюарт и Джун Эллисон сыграли главные роли в вышедшем в 1955 году популярном фильме «История Гленна Миллера », мать Миллера утверждала, что знаменитый актер далеко не так красив, как ее сын.
|
Музыка не умирает
Возможно, правда об исчезновении Гленна Миллера так никогда и не откроется - и, может быть, это теперь не так и важно. Гораздо важнее его музыка.
17 января 1946 года, всего через пять месяцев после окончания войны и через 13 месяцев после исчезновения «Норсмана», оркестр Гленна Миллера успешно дебютировал в нью-йоркском «Кэпитол тиэтр». Позднее в связи с успехом фильма «История Гленна Миллера» были вновь выпущены многие старые записи, а в 1956 году возродился оркестр Гленна Миллера. Больше всего радовали музыкантов, выступавших вплоть до 70-х годов, слушатели, которые по возрасту не могли застать самого Гленна Миллера, но которым было явно по душе особое, мягкое звучание, которым он славился.

То, что они увидели, изумило их: в скованной льдом земле, не оттаивающей даже под летним солнцем, лежало прекрасно сохранившееся тело молодого человека, умершего 138 лет назад. Он и два его товарища, похороненные рядом, были членами экипажей кораблей «Эребус» и «Террор», которые пришли в Арктику под командованием сэра Джона Франклина.
Весной 1845 года два нагруженных всем необходимым корабля Франклина, чье отплытие сопровождалось большим шумом, покинули Англию. Целью Франклина было отыскать легендарный Северо-Западный проход - морской путь из Атлантики в Тихий океан между арктическими островами Канады - и пройти по нему. Поход закончился печально, на острове Бичи были найдены и опознаны останки лишь троих из участников плавания.
 |
|
Глаза открыты, зубы обнажены в мученической гримасе - таким увидели Джона Торрингтона, участника экспедиции Франклина, канадские ученые, вскрывшие его могилу в 1984 году. |
350 лет поисков
Экспедиция Франклина, финансировавшаяся и оснащенная Британским адмиралтейством, должна была дать ответ на вопрос, уже 350 лет занимавший англичан: возможно ли пройти по открытой воде к северу от Американского континента и найти таким образом новый торговый путь с востока на запад? Панамский канал будет построен только спустя несколько десятилетий, и единственный морской путь из Атлантического океана в Тихий пролегал в обход Южной Америки, мимо опасного, грозящего штормами мыса Горн. Не выгоднее ли было бы - в смысле времени и расстояния - обойти с севера Канаду и Аляску, чтобы затем через Берингов пролив попасть в Тихий океан?
Эта привлекательная идея волновала англичан с конца XV века. Джон Кабот (на самом деле этот современник Колумба был итальянцем по имени Джованни Кабото), находившийся на службе у английского короля Генриха VII, в 1497 году пересек северную Атлантику; открытие им острова Ньюфаундленд позволяло Англии предъявлять права на Северную Америку. Позднее другие, в том числе португальцы, французы и голландцы, пытались отыскать северный путь в Тихий океан. Имена Генри Гудзона (Хадсона), Уильяма Баффина и других остались на географических картах, но никому из них не удалось доплыть до западного побережья Америки. В первом из трех походов, совершенных в 1819 - 1825 годах, Уильям Эдвард Парри был близок к победе, совсем немного не дойдя до моря Бофорта к северу от Аляски.
Наконец в 1844 году было объявлено о еще одной попытке открыть Северо-Западный путь. Но кто возглавит отплывающую на следующий год экспедицию, которая должна также исследовать неизвестные районы севера Канады и нанести их на карту? Когда сэр Джон Франклин предложил свои услуги, лорды Адмиралтейства заколебались. Они не сомневались в его способностях и упорстве, как и в знании северных заполярных областей. Но их смущал возраст отмеченного многими наградами морского офицера: 59 лет. «Нет, нет, джентльмены. Вы ошибаетесь, - спокойно поправил их Франклин. - Мне всего лишь 58». Ему доверили командование экспедицией.
Родившийся 16 апреля 1786 года, Франклин с детства мечтал о море. В 14 лет он записался во флот, а в 19 сражался в Трафальгарской битве. Льды Арктики он впервые увидел, участвуя в плавании на Шпицберген, и этот поход во многом определил его жизнь. С этого времени он был одержим идеей отправиться в арктические районы Канады.
По заданию Адмиралтейства в 1819 году Франклин начал исследовать земли вдоль северного побережья Северной Америки к востоку от реки Коппермайн. Через три с половиной года невероятных лишений он вернулся на родину, но уже в 1825 году снова отправился в страну вечных льдов. На этот раз он спустился по реке Маккензи до моря Бофорта, чтобы обследовать западную часть северного берега континента. Когда он составил карту арктического побережья протяженностью в сотни километров и опубликовал записки о жизни индейцев и эскимосов, он, можно сказать, стал национальным героем и в 1829 году за заслуги перед родиной получил дворянское звание. Позднее его назначили губернатором штрафной колонии на австралийском острове Тасмания, и ему пришлось выполнять совершенно иные обязанности.
Зов Арктики
Даже в преклонном возрасте - к 60 годам - страсть путешественника-исследователя у Франклина нисколько не угасла. Когда в 1844 году ему представилась возможность отправиться в Арктику, он тут же за нее ухватился. Он был полон решимости еще раз бросить вызов крайнему северу, бороться с арктическими льдами, холодом и штормами во имя достижения цели, которую поставила перед ним его страна: открытия морского пути, связывающего Атлантический и Тихий океаны.
В Англии все были убеждены в успехе этого предприятия, которому предшествовала очень тщательная подготовка. Парусники «Эребус» и «Террор» были переоборудованы в пароходы с гребными винтами - подобные суда впервые отправлялись в Арктику. На борт погрузили запасы продовольствия на три года. Экипажи - в общей сложности 129 человек - набирались по результатам специальных испытаний. Под восторженные крики лондонцев 19 мая 1845 года корабли спустились по Темзе и вышли в открытое море; экспедиция Франклина началась.
Поступившее вскоре донесение было созвучно всеобщей эйфории. «Мы уверены в успехе, - сообщал сэр Джон. - Следующая остановка в Гонконге в Китае». Затем китобойное судно встретило «Эребус» и «Террор», шедшие западным курсом, в море Баффина между Гренландией и Канадой. Но после того, как корабли вошли в пролив Ланкастера, их следы потерялись.
Прошел год, потом еще один, а от экспедиции не было никаких известий. Но в то время, когда возможности связи были ограниченны, это молчание не воспринималось как нечто необычайное. По прошествии же третьей зимы, к весне 1848 года, всех в Англии с новой силой стал волновать вопрос: «Где же все-таки сэр Джон Франклин?»
Вознаграждение
Адмиралтейство объявило о вознаграждении в 20000 фунтов тому, кто найдет пропавшую экспедицию и спасет людей. Леди Франклин добавила к этой сумме 3000 фунтов из собственных средств. Так началась одна из самых крупных спасательных операций в истории: на 40 поисковых отрядов в течение 10 лет было затрачено четыре миллиона долларов. Несколько кораблей направились в море Баффина, где в последний раз видели «Эребус» и «Террор», и далее по маршруту, по которому мог двигаться Франклин. Другие суда вели поиски с запада, войдя через Берингов пролив в море Бофорта к северу от Аляски, где должна была появиться экспедиция, продвигаясь к Тихому океану. Каждый поисковый отряд оставлял по пути следования запасы продовольствия и записки - под сложенными из камней приметными знаками. Кроме того, обращения к экспедиции Франклина писали на ошейниках, которые надевали на песцов - их специально отлавливали, а затем отпускали.
В суровом, неприветливом краю поисковые отряды бороздили сушу и море, превзойдя величайшие подвиги, совершенные к тому времени в ходе исследований Арктики. Были открыты новые острова, нанесены на карту береговые линии, исследованы проливы. На карте исчезло множество белых пятен. Не обнаружили только следов экспедиции Франклина - ни кораблей, ни людей, ни хотя бы их останков.
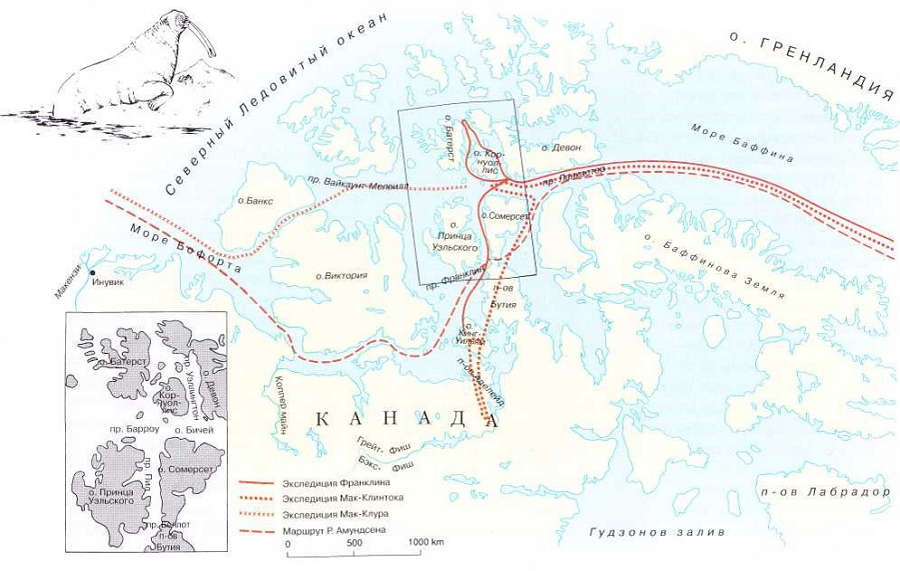 |
|
На карте показаны маршруты экспедиции Франклина (1845 - 1847). спасательных отрядов Мак-Клура (1850 - 1854) и Мак-Клинтока (1857 - 1859) и первого плавания по Северо-Западному морскому пути, совершенного Руалем Амундсеном (1903 - 1906). |
Первый след
Шел уже 1851 год. Члены экипажа корабля, бросившего якорь у острова Бичи, высадились на берег и нашли там хорошо оборудованный склад - склад Франклина! Это был первый след. Видимо, здесь сэр Джон и его люди провели зиму 1845/46 года, свою первую зимовку после отплытия из Англии. Неподалеку нашли могилы трех участников экспедиции. На одном надгробном камне стояло имя Джона Торрингтона, унтер-офицера с «Террора», в двух других могилах покоились матрос Джон Хартнелл и солдат морской пехоты Уильям Брейн, оба с «Эребуса». (Эти три могилы были вновь обнаружены и вскрыты в 1984 году.) Но не удалось найти ничего, что говорило бы, куда Франклин направился дальше.
В январе 1854 года участники пропавшей экспедиции под командованием сэра Джона Франклина были официально объявлены погибшими. Не было никакой надежды на то, что отыщутся еще какие-то следы, а тем более - что кто-то остался в живых. Но спустя девять месяцев в Англию вернулся врач компании «Гудзонов залив» Джон Рэй, и оказалось, что он может пролить новый свет на трагедию.
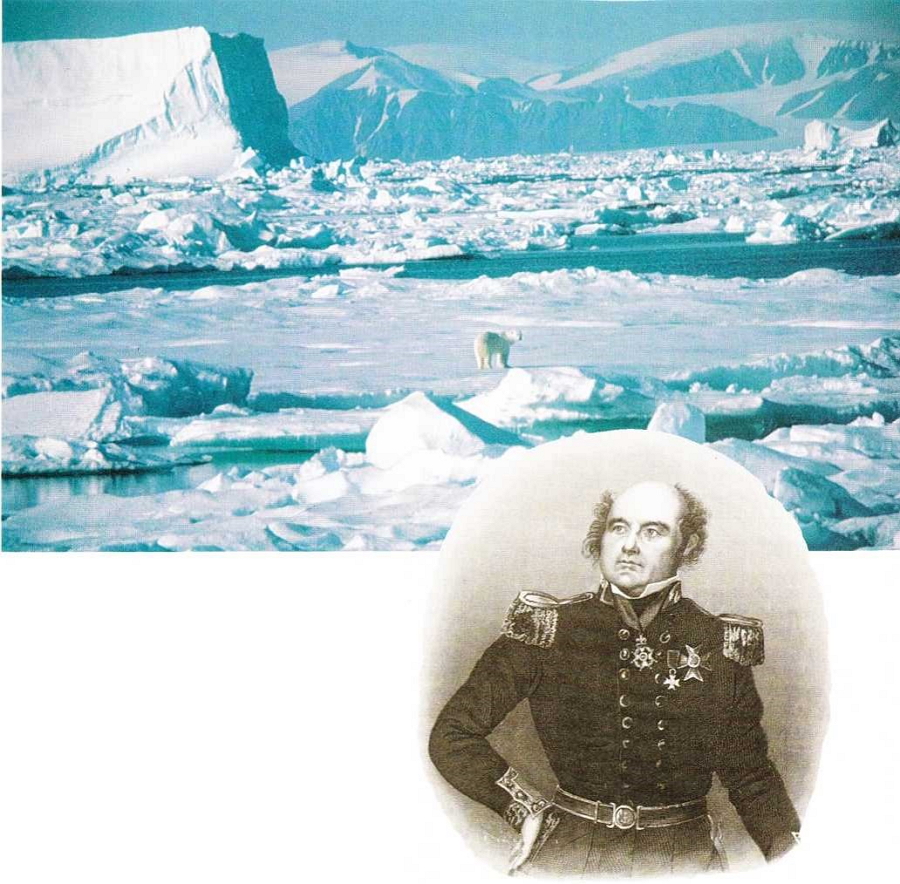 |
| Сэр Джон Франклин взялся отыскать легендарный Северо-Западный морской путь и возглавил экспедицию в составе 129 человек, которая на двух кораблях отплыла из Англии весной 1845 года. Никому из них не суждено было вернуться на родину, все они погибли в бескрайней ледяной пустыне, уголок которой можно увидеть на фото вверху. |
Страшные свидетельства
Рэй привез детали часов, компасов, серебряные ложки и вилки, а также небольшую тарелку, на которой было выгравировано «сэр Джон Франклин». Все эти вещи он купил у эскимосов примерно в 500 километрах южнее острова Бичи. Эскимосы рассказали ему, что весной 1850 года на острове Кинг-Уильям они встретили белых людей с лодкой и санями, которые шли в сторону материка. Не зная эскимосского языка, они объяснили знаками, что их корабли раздавило льдами и что они ищут какую-нибудь еду. Эскимосы продали им небольшого тюленя.
Летом того же года, как узнал Рэй, другие эскимосы нашли несколько могил и более 30 трупов на материке и еще пять на прибрежном острове. В официальном докладе Рэя Адмиралтейству приводились мрачные факты: «...судя по изуродованному виду некоторых трупов и по содержимому котелков, очевидно, что наши соотечественники были доведены до крайности и, стремясь продлить свое существование, дошли до каннибализма».
Похоже на рассказ из книги ужасов. Но участвовал ли Франклин в этом заключительном акте трагедии? Этот вопрос, как и многие другие, оставался без ответа. Тем не менее для Адмиралтейства дело было закрыто, все поиски прекратились, а доктору Рэю выплатили 10 000 фунтов в качестве вознаграждения.
|
Открытие Северо-Западного морского пути |
||
|
Удача, ускользнувшая от Франклина, улыбнулась экспедиции Роберта Мак-Клура. Посланный на поиски Франклина и его команды, Мак-Клур летом 1850 года через Берингов пролив вошел в арктические воды. Пройдя южнее острова Банкс в пролив Принца Уэльского, ведущий в пролив Вайкаунт-Мелвилл и далее в пролив Барроу, он понял, что открыл Северо-Западный морской путь. «Спасибо тебе, Господи!» - пылко произнес Мак- Клур. Однако Мак-Клуру не суждено было пройти по открытому им пути. Его корабль застрял во льдах, и после третьей зимовки - когда новая экспедиция, отправившаяся на поиски Франклина, предложила доставить Мак-Клура и его людей на родину - его пришлось бросить. В Англии Мак-Клура предали военному суду за то, что он оставил судно, но позднее он |
|
был прощен, ему было пожаловано дворянство за сделанное им открытие. Прошло более 50 лет, прежде чем норвежскому исследователю Руалю Амундсену удалось пройти Северо- Западным морским путем. Отправившись в плавание от берегов Гренландии на крохотном суденышке «Иоа» с экипажем всего из семи человек, летом 1903 года Амундсен вошел в залив Ланкастер. После двух зимовок, благополучно проведенных на том самом острове Кинг-Уильям, где погиб Франклин, Амундсен продолжил плавание вдоль берегов Канады. На третью зимовку участники экспедиции остановились совсем близко от Аляски и 30 августа 1906 года, пройдя через Берингов пролив, успешно завершили поход. В 1969 году супертанкер «Манхэттен» стал первым коммерческим судном, прошедшим по этому маршруту. |
|
Следуя за ледоколом, супертанкер «Манхэттен» в 1969 году прошел из Атлантики до нефтяных месторождений Аляски. |
||
Последние поиски
Хотя было ясно, что все участники экспедиции Франклина погибли, леди Франклин решила в последний раз предпринять поиски, чтобы найти «каждого из них, останки погибших, их дневники, записки, последние написанные ими слова». На то, что осталось от ее состояния, она купила оснащенную гребным винтом и парусами паровую яхту «Фокс» и поручила командование поисковой партией капитану Фрэнсису Леопольду Мак-Клинтоку, ходившему на розыски сэра Джона еще с первым отрядом в 1848 году.
Первого июля 1857 года, через девять лет после начала первой спасательной операции, Мак-Клин- ток отправился в новое опасное путешествие. Могло ли крохотное суденышко с экипажем из 25 человек выполнить задачу, с которой не справились гораздо более крупные и намного лучше снаряженные суда? Отряд Мак-Клинтока, состоявший только из добровольцев, половина из которых уже плавала в Арктике, был настроен на победу. Их несокрушимая уверенность в успехе помогла им не только выиграть битву с могучей ледяной стихией, но и проникнуть в так долго остававшуюся неразгаданной тайну исчезновения экспедиции Франклина.
Поиски отряда Мак-Клинтока должны были сосредоточиться в районе южнее пролива Беллот, разделяющего полуостров Бутия и остров Сомерсет. По сведениям Рэя, следовало искать именно там - или на близлежащем острове Кинг-Уильям. Однако, едва достигнув моря Баффина, «Фокс» оказался скованным паковым льдом. За восемь месяцев яхту снесло к югу примерно на 1600 километров. Когда судно наконец освободилось из ледового плена, Мак-Клинток взял курс на остров Бичи, чтобы установить памятную табличку в том месте, где ранее были обнаружены склад и могилы участников экспедиции Франклина. Затем, обогнув остров Сомерсет, он вошел в пролив Пил. Но этот путь оказался непроходимым. Тогда Мак-Клинток попытался достичь своей цели с востока. К началу второй зимы плавания он подошел к проливу Беллот, но войти в него не смог.
Не в силах ждать весны, Мак-Клинток приказал вести поиски, используя собачьи упряжки, таким образом он и его люди обследовали большую часть полуострова Бутия и обошли вокруг Кинг- Уильяма. 20 апреля 1859 года они встретили эскимосов, у которых были вещи с «Эребуса» и «Террора» и которые могли наконец поведать о судьбе кораблей Франклина. Один из них раздавило льдами у северо-западного берега острова Кинг-Уильям; второй, получивший серьезные повреждения, участники экспедиции вытащили на берег, но затем бросили.
Другая поисковая группа Мак-Клинтока, возглавляемая лейтенантом У. Р. Хобсоном, сделала важную находку в Виктори-Пойнт, на северо-западном берегу Кинг-Уильяма. Под сложенным из камней знаком они обнаружили записку, подписанную лейтенантом Грэмом Гором и датированную 28 мая 1847 года. В ней говорилось, что к исходу второй зимы все идет хорошо и что Франклин по- прежнему руководит экспедицией. Но год спустя капитаны Фитцджеймс и Крозиер приписали печальный постскриптум: «Корабли “Террор” и “Эребус” оставлены экипажами 22 апреля [1848 года], так как с 12 сентября 1846 года они были скованы льдом... Сэр Джон Франклин скончался 11 июня
1847 года, а общее число умерших в экспедиции составляет на сегодня девять офицеров и 15 матросов... Завтра, 26-го, отправляемся к реке Грейт-Фиш».Вскоре Хобсон нашел небольшую лодку, установленную на сани, а в ней два скелета. Поблизости были разбросаны часы, книги, туалетные принадлежности и то, что Мак-Клинток назвал «множеством предметов того или иного рода, поразительно разнообразных и таких, которые можно было бы счесть мертвым грузом, но на что-то все же годных и, весьма вероятно, способных надорвать силы тех, кто тянул сани». Отсюда, судя по всему, 105 остававшихся в живых спутников Франклина тронулись в путь на юг, навстречу смерти.
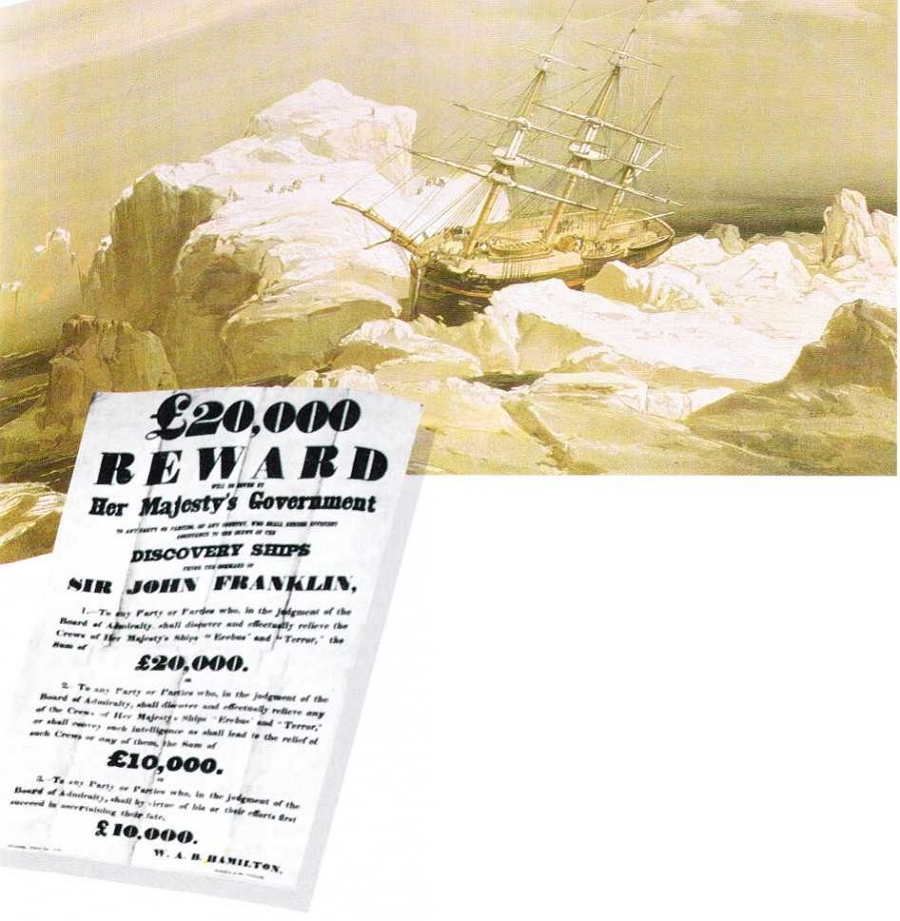 |
|
Трагическую судьбу экспедиции Франклина чуть не повторила одна из поисковых партий. Роберт Мак-Клур, возглавлявший экспедицию 1850 - 1854 годов, которой и довелось открыть Северо-Западный морской путь, был вынужден бросить свой корабль «Инвестигейтор», застрявший во льду у острова Банкс. В отличие от Франклина Мак-Клур и его люди спаслись - их подобрала другая поисковая группа, посланная в Арктику. (Слева) Английское правительство объявило о вознаграждении в 20000 фунтов стерлингов тем, кто найдет и спасет экспедицию Франклина, и в 10000 - за информацию о местонахождении или судьбе пропавшей экспедиции. |
Последний поход экспедиции Франклина
Наконец стало возможным установить, что случилось с экспедицией сэра Джона Франклина.
В июле 1845 года, через два месяца после отплытия из Англии, «Эребус» и «Террор», как сообщил китобой, последним видевший их, вошли в пролив Ланкастер. Пролив Барроу все еще был скован льдами, и Франклин стал искать свободный
проход севернее и нашел его в проливе Веллингтон. Но он слишком сильно отклонился на север, в то время как должен был следовать на запад, поэтому он вернулся, чтобы переждать зиму 1845/46 года на острове Бичи. Весной плавание продолжилось. Поскольку пролив Барроу не до конца очистился ото льда, Франклин решил пройти южнее, вдоль западного берега острова Сомерсет и полуострова Бутия к острову Кинг-Уильям.Но куда плыть теперь, дальше на юг или на запад? На карте экспедиции Кинг-Уильям был обозначен не как остров, а как часть полуострова Бутия, поэтому Франклин, должно быть, подумал, что у него нет иного выбора, как двигаться на запад. Эта ошибка на карте стала началом катастрофы. Оба корабля пошли на запад, в район многолетних льдов, которые к 12 сентября 1846 года сковали суда и больше их не выпустили.
28 мая 1847 года лейтенант Гор, на санях обследовавший местность, оставил записку, что с экспедицией все в порядке. Спустя две недели Франклин умер. В течение второй зимы, проведенной в ледовом плену к северу от Кинг-Уильяма, несколько человек скончались от испорченной пищи. 22 апреля 1848 года, как сказано в постскриптуме к записке Гора, 105 оставшихся в живых людей бросили корабли, чтобы предпринять отчаянную - и безуспешную - попытку достичь континентальной Канады. Они решили двигаться к реке Грейт-Фиш, откуда они могли бы выйти к одной из факторий компании «Гудзонов залив».
Еще лет десять ходили упорные слухи, что некоторые из людей Франклина все-таки не погибли и, потеряв надежду на спасение и возвращение на родину, остались жить среди дружественно настроенных туземцев. Постепенно они приняли образ жизни обитателей Севера, и лишь грустные голубые глаза выдавали в них чужеземцев. Но обнаружить этих «белых туземцев» так и не удалось. Похоже, что все участники экспедиции Франклина погибли, не выдержав суровых условий холодного Севера.
| Причины трагедии | |
|
|
Испорченные продукты, как теперь доказано, предопределили трагический исход экспедиции Франклина. Рядом с первыми останками членов экипажа, найденными в 50-х годах прошлого века, лежали заряженные ружья и запасы пищи, которая хорошо сохранилась и выглядела вполне съедобной. Почему же, имея и еду, и оружие, чтобы охотиться, эти люди погибли? Антрополог Оуэн Битти нашел ответ, исследовав тела, эксгумированные на острове Бичи в 1984 году. В останках обнаружилась необычайно высокая концентрация свинца, видимо попавшего в организм с консервами из плохо запаянных жестяных банок, которые взяли с собой участники экспедиции. Отравление свинцом приводит к потере аппетита, истощению, слабости, нарушениям в работе центральной нервной системы, выражающимся в странностях поведения и параличе. Кроме того, люди становятся более восприимчивыми к таким заболеваниям, как воспаление легких. |
Что же было достигнуто?
Трагедия Франклина вновь разожгла интерес мореплавателей и исследователей к Арктике, беспрецедентные по масштабу поиски позволили составить карты бескрайних просторов канадского севера. Один из первых отрядов, во главе которого стоял капитан Роберт Мак-Клур, сумел найти путь по северным морям, ради открытия которого отдал жизнь Франклин.
Но победа оказалась призрачной, а жертвы - напрасными. Выяснилось, что использовать Северо-Западный морской путь как коммерческий маршрут невозможно, потому что большую часть года он скован льдами. Норвежцу Руалю Амундсену удалось стать первым, кто проплыл из одного океана в другой, хотя это путешествие и заняло почти три года. Но, как сообщил Амундсен, его маршрут был так извилист и узок, что им мало кто сможет пользоваться, разве что торговцы пушниной и миссионеры. Однако и позднее Арктика звала искателей приключений. Это были в основном бесстрашные герои, которые, часто в одиночку, преодолевали суровые тяготы: голод, тоску, обморожения и гангрену - во имя достижения недостижимой цели.
Имя сэра Джона Франклина сегодня увековечено в названии целого района Северо-Западных территорий Канады, по которому он прошел, а также в названиях озера, залива и пролива. А имя леди Франклин, его верной жены, носит мыс на острове Виктория, что находится в середине Северо-Западного морского пути, который так отважно искал ее муж.

Первое, которое он оставил в своем номере в гостинице «Болонья», было адресовано родным. В нем он обращался к ним со странной просьбой: «У меня только одно желание - чтобы вы не одевались из-за меня в черное. Если захотите соблюсти принятые обычаи, то носите любой другой знак траура, но не дольше трех дней. После этого можете хранить память обо мне в своем сердце и, если вы на это способны, простить меня». Самим тоном письмо зловеще напоминало записки, которые оставляют самоубийцы.
Второе письмо, посланное по почте, казалось, подтверждало, что Майорана решил покончить с собой. Оно было адресовано Антонио Каррелли, директору физического института Неапольского университета, где молодой ученый с января преподавал. «Я принял решение, которое было неизбежно, - писал он Каррелли. - В нем нет ни капли эгоизма; и все же я хорошо понимаю, что мое неожи
данное исчезновение доставит неудобства вам и студентам. Поэтому я прошу вас меня простить - прежде всего за то, что пренебрег вашим доверием, искренней дружбой и добротой».Прежде чем Каррелли успел получить это письмо, из Палермо пришла телеграмма от Майораны. В ней он просил не обращать внимания на письмо, отправленное из Неаполя. За телеграммой последовало второе письмо, датированное 26 марта и также посланное из Палермо. «Дорогой Каррелли, - писал Майорана. - Море не приняло меня. Завтра я возвращаюсь в гостиницу “Болонья”. Однако я намерен оставить преподавание. Если вам интересны подробности, я к вашим услугам».
Ни Каррелли, ни родные молодого ученого никогда его больше не видели и не получали о нем никаких известий.
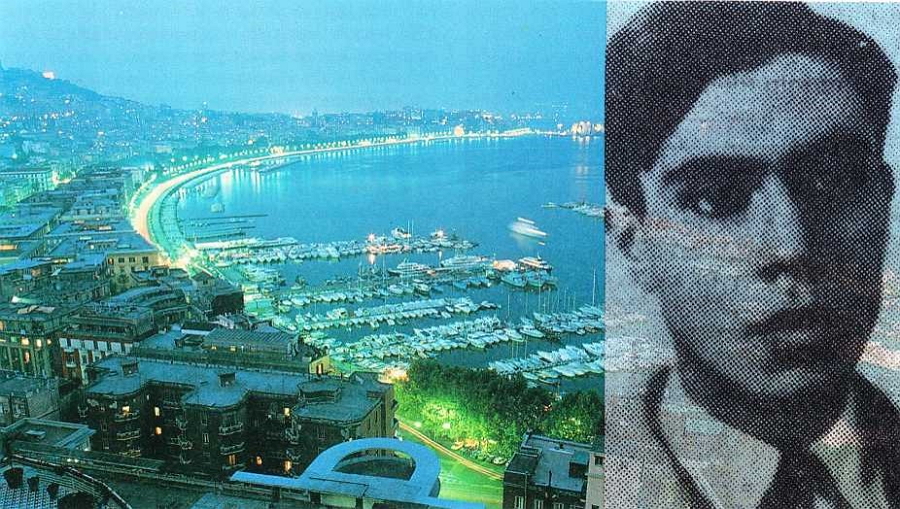 |
| Он сел на пароход в неапольском порту и исчез: Этторе Майорана |
Блестящий ум и стремление к совершенству
По единодушному признанию современников, Этторе Майорана обладал выдающимся умом. Его учитель лауреат Нобелевской премии Энрико Ферми даже ставил его в один ряд с Галилео Галилеем и Исааком Ньютоном. Этторе родился 5 августа 1906 года в Катании на Сицилии и уже в четырехлетием возрасте необыкновенно быстро решал в голове сложные математические задачи. В годы учебы этот талант будет часто удивлять и ставить в тупик окружающих.
Сначала его учили дома, потом отправили в иезуитскую школу в Риме. Но завершил среднее образование он уже в лицее имени Торквато Тассо - ему еще не было и семнадцати лет. Осенью 1923 года он поступил в техническую школу Римского университета, где учился вместе со старшим братом Лучано и Эмилио Сегре. Эмилио и убедил его позднее заняться физикой, и в 1928 году Майорана перевелся в Институт теоретической физики, которым в то время руководил Энрико Ферми. Год спустя он получил докторскую степень с отличием, но еще пять лет продолжал работать с Ферми над решением проблем ядерной физики.
Хотя все научные труды Майораны состоят только из восьми статей, опубликованных с 1928 по 1937 год, они по-прежнему вызывают изумление и восхищение в ученом мире. В его статьях видны доскональное знание экспериментальных данных, способность ясно и просто формулировать проблемы, живой ум и непреклонное стремление к совершенству. Его критические отзывы о работе коллег завоевали ему прозвище «Великий инквизитор». Но и к самому себе он был не менее требователен, чем, возможно, и объясняется неторопливость и сравнительно малое количество научных работ, выпущенных за годы после защиты докторской диссертации.
По настоятельной рекомендации Ферми в начале 1933 года Майорана, получив стипендию Национального научного совета, уехал за границу. В Лейпциге он познакомился с еще одним лауреатом Нобелевской премии Вернером Гейзенбергом. Письма, которые Майорана позднее ему писал, показывают, что их связывала не только наука, но и теплая дружба. Гейзенберг убеждал молодого итальянца побыстрее публиковать свои работы, но тому, видимо, не хотелось торопиться.
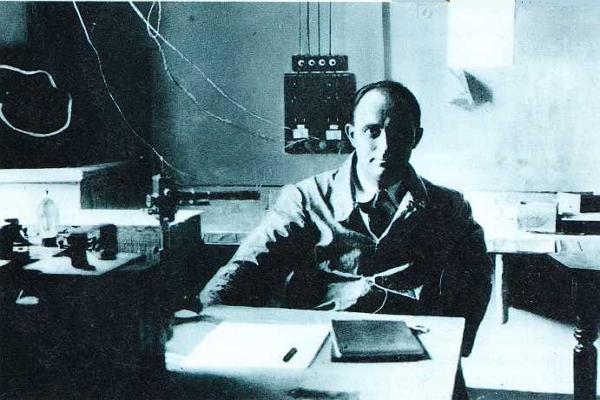 |
Профессор римского Института теоретических исследований (вверху) с 1927 года, Энрико Ферми (слева) после получения в 1938 году Нобелевской премии попросил политического убежища в США. Там он преподавал в Колумбийском университете, а затем участвовал в Манхэттенском проекте, работая над созданием первой атомной бомбы. |
 |
Назревающий кризис
Осенью 1933 года Майорана вернулся в Рим. Он неважно себя чувствовал: в Германии он заболел острым гастритом, а кроме того, явно страдал от нервного истощения. Вынужденный соблюдать строгую диету, он стал затворником, был резок с родными. Матери, к которой раньше относился с теплотой, он написал из Германии, что не сможет, как обычно, поехать с ней летом к морю.
Он реже появлялся в институте, а вскоре почти совсем перестал выходить из дома; многообещающий молодой ученый превратился в отшельника. Почти четыре года он не общался с друзьями и ничего не публиковал. Лишь в 1937 году Майорана вернулся к тому, что можно назвать «нормальной» жизнью. В этом году, прервав долгое молчание, он опубликовал научную статью, которая окажется его последним печатным трудом, и подал заявление на должность профессора физики. В ноябре он стал профессором теоретической физики Неапольского университета.
Лекции Майораны плохо посещались, что задевало его самолюбие. Но большинство студентов было просто не в состоянии понять то, что он пытался им объяснять. 22 января 1938 года он попросил брата перевести в Неаполь все его деньги, хранившиеся в одном из римских банков, а в марте попросил выдать ему сразу всю зарплату, накопившуюся за несколько месяцев работы. Взяв с собой паспорт и деньги, 25 марта Майорана сел на пароход - и навсегда исчез.
В поисках разгадки
Расследование, проведенное сразу после исчезновения физика, открыло несколько казавшихся обещающими ходов. Но, как выяснилось, все они вели в тупик.
26 марта, в день, когда Этторе Майорана отправил телеграмму и второе письмо к Каррелли, он, судя по всему, сел на почтовое судно, возвращавшееся из Палермо в Неаполь. По сведениям пароходной компании, билет на его имя был сдан на контроле при посадке. Позднее, когда представителей компании попросили предъявить доказательство, они заявили, что билет потерялся. Один свидетель сначала утверждал, что Майорана ехал с ним в одной каюте, но позднее сказал, что не уверен, был ли его попутчиком пропавший физик. В то же время медсестра, хорошо знавшая молодого ученого, настаивала на том, что видела его в Неаполе после возвращения парохода 26 марта.
Скрылся 6 монастыре ?
Семья Майораны поместила объявление о его исчезновении с фотографией Этторе. В июле пришел ответ. Настоятель монастыря Джезу Нуово в Неаполе сообщал, что молодой человек, очень похожий на изображенного на фотографии, приходил к нему в конце марта или начале апреля с просьбой принять его в монастыре в качестве гостя. Увидев, что настоятель не решается удовлетворить его просьбу, молодой человек ушел и больше не возвращался. Аббат не помнил точную дату этого визита, так что нельзя было сказать, произошел он до или после поездки в Палермо.
Далее было установлено, что 12 апреля молодой человек, похожий на Майорану, просился в монастырь Сан Паскуале де Портичи. Там ему тоже отказали, и он ушел.
Спустя почти 40 лет эти чрезвычайно любопытные, хотя и не вполне доказательные сообщения стали основой теории, выдвинутой писателем Леонардо Шашей. Он предположил, что, устав от мира и ответственности, которую накладывала на него научная деятельность, а возможно, и разочаровавшись в преподавательской работе, явно ему не удававшейся, Майорана искал убежища в религии. И где-то он нашел такое место, где мог жить под чужим именем, посвящая оставшиеся годы молитве и размышлениям.
| Литературная версия? | |
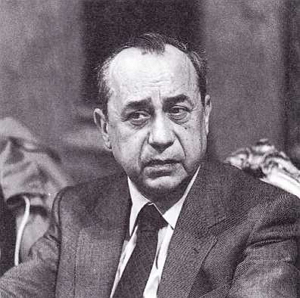 |
В 1975 году вышла книга итальянского писателя Леонардо Шаши «Исчезновение Майораны», произведение, которое сам автор назвал «философским детективом». Предыдущие романы и рассказы писателя почти все без исключения были посвящены социально-экономическим, политическим и моральным проблемам его родной Сицилии. Шаша впервые услышал о таинственной судьбе Этторе Майораны в 1972 году. Именно тогда Национальный научный совет, который оплачивал поездку молодого физика в Германию в 1933 году, поручил Эразмо Ресами, профессору теоретической физики из Университета Катании, привести в порядок научные труды Майораны. Выполняя это задание, сицилийский профессор обнаружил не замеченные прежде свидетельства и поделился своими открытиями с писателем. Шаша задумался над мотивами, которые могли заставить молодого ученого бежать из Италии, и в конце концов у него возникла интригующая теория. Благодаря своему исключительному уму Майорана раньше многих коллег осознал огромную разрушительную мощь атомной энергии и не желал участвовать в разработке атомного оружия для фашистского режима Муссолини. Выводы писателя вызвали в Италии противоречивые отклики. Его главным оппонентом был Эдуардо Амальди, который закончил докторскую диссертацию под руководством Ферми»через год после Майораны. По мнению Амальди, ни один ученый в 30-е годы не мог предвидеть конечных результатов ядерных исследований, проводившихся в довоенные десятилетия. Эразмо Ресами, лучше других знакомый с трудами Майораны, не готов полностью исключить выдвинутую Леонардо Шашей теорию. Но, как ему представляется, это лишь одна из многих возможных версий. |
Сбежал в Аргентину ?
Последний и, возможно, самый интригующий след Этторе Майораны ведет в Южную Америку. В 1950 году чилийский физик Карлос Ривера жил в столице Аргентины Буэнос-Айресе и на время остановился в доме у одной пожилой женщины. Когда она однажды случайно увидела в бумагах Риверы имя Майорана, то сказала своему постояльцу, что ее сын знает человека с такой фамилией. Вскоре Ривера должен был уехать из Буэнос-Айреса, и он не успел больше ничего узнать.
Удивительно, что чилийскому ученому довелось еще раз наткнуться на следы Майораны в Буэнос-Айресе. В 1960 году, обедая в гостиничном ресторане, он рассеянно писал на салфетке математические формулы. К нему подошел официант и сказал: «Я знаю еще одного человека, который, как и вы, рисует на салфетках формулы. Он иногда к нам заходит. Его зовут Этторе Майорана, и до войны он был крупным физиком у себя на родине в Италии». И снова ниточка никуда не привела. Официант не знал адреса Майораны, и Ривера опять был вынужден уехать, не разгадав эту тайну.
Три старые дамы хранят секрет
В конце 70-х годов известия об удивительных открытиях Риверы в Аргентине дошли и до итальянских ученых. Профессор физики Эразмо Ресами и сестра Этторе Мария Майорана решили идти по найденному следу. Во время этих поисков они вышли еще на один след, ведущий в Аргентину.
Приехавшая в Италию вдова гватемальского писателя Мигеля Анхеля Астуриаса узнала о новых попытках раскрыть тайну исчезновения Этторе Майораны. Она рассказала, что в 60-е годы встречалась с итальянским физиком в доме сестер Элеоноры и Лило Манцони. По словам сеньоры Астуриас, Майорана был близким другом Элеоноры, математиком по профессии.
Казалось, тайна будет наконец вот-вот разгадана. Однако в ответ на просьбу подробнее рассказать то, что ей известно, сеньора Астуриас отказалась от своих слов. На самом деле она лично не встречалась с Майораной, а лишь слышала от других о его дружбе с Элеонорой. Но, добавила она, ее сестра и Лило Манцони могут представить доказательства; Элеоноры, к сожалению, уже не было в живых. Однако две пожилые дамы не смогли или не захотели ответить на заданные им вопросы. Не договорились ли они с сеньорой Астуриас ни с кем не делиться секретом Этторе Майораны?
Поскольку два совершенно не связанных между собой следа вели в Аргентину, очень вероятно, что итальянский физик действительно бежал туда в 1938 году - а не ушел в монастырь и не покончил жизнь самоубийством. Но мотивы его неожиданного бегства остаются невыясненными и, возможно, никогда не станут известны.
Может быть, Энрико Ферми был прав, когда сухо прокомментировал неудачные попытки расследовать исчезновение Майораны, сказав, что если бы Этторе Майорана решил бесследно исчезнуть, то с его умом он бы легко это сделал.