
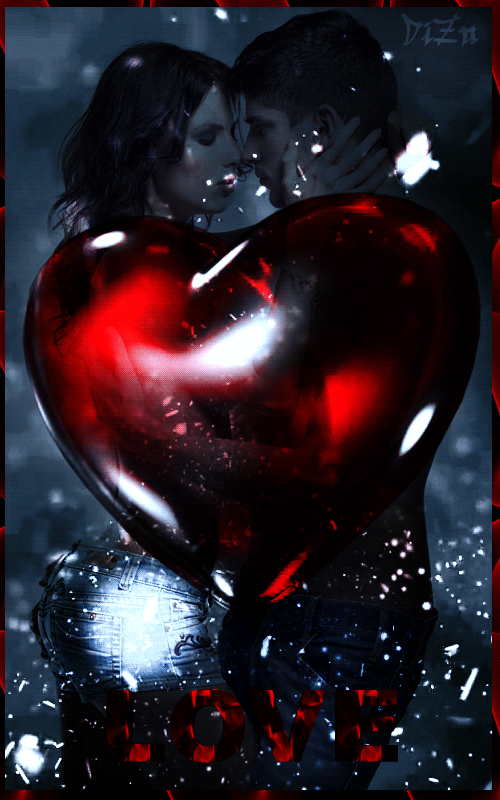
Знаменитые супружеские пары
Мусский И. А.
Мы знакомы со многими популярными именами воинов, правителей, основателей династий - все они указаны в учебниках истории. Однако в них ничего не сказано о любви - о людях, которые любили друг друга, вопреки мнению общества, вопреки войнам и катастрофам, и даже вопреки закону. Мы предлагаем вспомнить о парах, которые прошли огонь и воду и доказали, что любовь важнее всего.
Здесь представлены очерки о великих супружеских парах разных времен и народов. Кого-то любовь и супружеская жизнь вдохновили на создание шедевров литературы, музыки и кино, кого-то на совершение научных открытий, принятие решений, повлиявших на развитие государств. Некоторым супружество в итоге принесло разочарование и несчастья. Но все они оставили след в истории человечества и своими жизнями в который раз доказали, что любовь переворачивает мир и творит чудеса. Перед читателями пройдут жизни Эхнатона и Нефертити, Ивана III и Софьи Палеолог, Сулеймана I и Роксоланы, Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне, Сергея Есенина и Айседоры Дункан, Лоренса Оливье и Вивьен Ли...
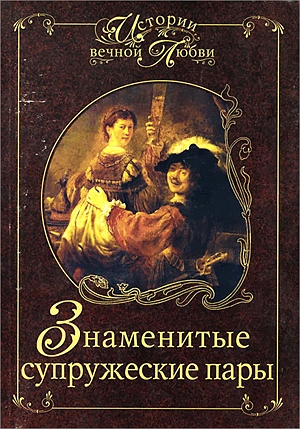
 На
одной из четырнадцати стен, установленных на восточном берегу Нила, где
располагалась древнеегипетская столица Ахетатон, высечена надпись: «Рано утром,
когда первые лучи солнца озарили землю, на сверкающей золотом колеснице к берегу
Нила приехал фараон. Он был подобен самому богу солнца Атону, который наполняет
своим светом всю землю. И повелел царь созвать всех придворных, военачальников и
вельмож и поклялся перед ними: "Как живет мой отец Атон, прекрасный, живой!Я
сотворю здесь столицу Ахетатон для отца моего Атона на этом месте, которое он
сам сотворил, окружив его горами!"»
На
одной из четырнадцати стен, установленных на восточном берегу Нила, где
располагалась древнеегипетская столица Ахетатон, высечена надпись: «Рано утром,
когда первые лучи солнца озарили землю, на сверкающей золотом колеснице к берегу
Нила приехал фараон. Он был подобен самому богу солнца Атону, который наполняет
своим светом всю землю. И повелел царь созвать всех придворных, военачальников и
вельмож и поклялся перед ними: "Как живет мой отец Атон, прекрасный, живой!Я
сотворю здесь столицу Ахетатон для отца моего Атона на этом месте, которое он
сам сотворил, окружив его горами!"»
Да, странные события происходили в Древнем Египте во время правления фараона Аменхотепа IV. Вознесенный на вершину славы одними, почитавшийся умалишенным другими, этот неординарный правитель был сыном царственной четы — фараона-солнце Аменхотепа III и «великой царской супруги» Тейе, известной своей властностью и мудростью. Детство и юность он провел в пышном фиванском дворце в Мальгатте.
Аменхотеп IV взошел на престол в 1364 году до Р.Х. в возрасте пятнадцати лет. К этому времени он уже был женат на Нефертити. По-древнеегипетски имя Нефертити означает «Красавица грядет». Ее родителями были египетские вельможи Эйе и Тии, происходившие из среды провинциального жречества из города Коптоса. Царица Тейе состояла с ними в родстве, что ей отнюдь не льстило. Поэтому Тии в официальных надписях именовалась «кормилицей Нефертити, великой супруги царя», в то время как Мутноджемет, младшая сестра Нефертити, имевшая статус придворной дамы, открыто именовала Тии матерью. Некоторые историки полагают, что Нефертити — дочь Аменхотепа III. Но нет решительно никаких доказательств, подкрепляющих эту гипотезу. Она никогда не носила титула «дочь царя».
Сердце Эхнатона пленили удивительная красота и грация Нефертити. Она была его «любимой», «радующей сердце царя». Даже в официальном титуле проскальзывало свидетельство любви фараона — «жена царева великая, возлюбленная его, владычица обеих земель». Нефертити стала символом красоты египетской женщины. Два ее удивительных портрета — один хранится в Берлине, другой в Каире — излучают очарование.
На пятом году правления молодой фараон меняет имя. Отказавшись от имени Аменхотеп, в состав которого входит имя бога Амона, он называет себя Эхнатоном, то есть «угодный Атону», или «действенный дух Атона». Отныне власть царя хранит лучезарный бог Атон, культ которого был распространен еще во времена Аменхотепа III.
Покинув Фивы, Эхнатон основал новую столицу — Ахетатон (городище Телль-Амарна). За строительством и украшением города он следил сам.
Эхнатон выступал в качестве верховного жреца Атона, слагал многочисленные гимны в честь этого божества и проповедовал свое учение среди народа. Когда Эхнатон и Нефертити на великолепной колеснице проезжали по улицам города, толпа приветствовала их возгласами: «Жизнь, здоровье, сила».
Супругов соединяла глубокая любовь. Царица, как и ее повелитель, поглощена «атонизмом». Она становится верховной жрицей особого святилища, где почитают культ заходящего солнца. Она — «умиротворяющая Атона голосом сладостным, своими руками прекрасными...».
Все поступки царицы свидетельствуют о том, что она хорошо разбиралась в людях, обладала умом, тактом, выдержкой и огромной волей. Неудивительно, что она становится главным советником мужа. Дипломатические подсказки и решения супруги приводили Эхнатона в восхищение, он не уставал прославлять ее мудрость. Иногда преклонение перед царицей переходило все границы. Так, вознося клятвы Атону при основании новой столицы, Эхнатон клялся верховному божеству не только своим богом-отцом, но и своей любовью к жене и детям.
Еще более поразительно другое нововведение египетского царя. Теперь, объезжая свои владения, фараон брал с собой супругу. Кроме того, царица присутствовала при награждении сановников. По приказу Эхнатона в новой столице рядом с его скульптурами появились изваяния Нефертити. Такие же огромные и величественные. Фараон искусственно в противовес традициям насаждал культ царицы, подобно тому как взамен одного бога он распространил культ другого.
Безусловно, не обходилось без сплетен и интриг. Недовольные вельможи пытались опорочить действия царицы, возбуждали негодование в народе против Нефертити. Однако коварные замыслы не имели успеха, напротив — каждый день приносил новые доказательства небывалой любви царя к жене-красавице.
Нефертити родила царю шесть дочерей. Любопытный факт: в именах пятой и шестой дочерей имя Атона заменяется именем Ра. Это сделано, несомненно, по религиозным мотивам. Супругам нравилось демонстрировать свою нежную любовь к детям. На одном из рельефов царица, сидящая на коленях царя, держит на руках дочь-малютку. Статуэтка запечатлела Эхнатона, целующего дочь. Сохранились уникальные изображения царских обедов и ужинов. Эхнатон и Нефертити сидят рядом. Около пирующих стоят украшенные цветами лотосов столики с яствами, сосуды с вином. Пирующих развлекает женский хор и музыканты, снуют туда-сюда слуги. Три старшие дочери — Меритатон, Макетатон и Анхесенатон присутствуют на торжестве.
Словом, до некоторых пор жизнь царственной четы протекала безоблачно. Многие историки считают, что причиной разлада в семье стало отсутствие сына, который мог бы унаследовать престол. Дочери не обеспечивали надежность продолжения династической смены власти.
Вскоре у Нефертити появилась соперница — самая красивая из наложниц фараона — Кийа. Фараон объявил, что признает ее побочной женой.
Нефертити тяжело переживала разрыв с законным супругом, хотя и знала, что он неизбежен, и готовила себя к этому. Царица по-прежнему была приветлива с мужем, радовалась его появлению, его встречам с дочерьми. Она принимала ласки фараона и была готова удовлетворить его любое желание.
Эхнатон все чаще посматривал на Анхесенатон, третью свою дочь от Нефертити. Девочка, подобно утренней розе, была удивительно хороша собой. Старшая дочь, Меритатон, была замужем за Сменхкаром, которого прочили в наследники. Выдали замуж и вторую дочь, сватались к третьей, но фараон не спешил с новой свадьбой, отвергая всех претендентов.
Наконец он объявил, что избрал себе в жены Анхесенатон и просит Нефертити подготовить ее к столь серьезному шагу, обучить искусству любви. Девочке восемь лет, она давно созрела для брачного ложа. Сам бог Атон указал ему новую избранницу.
Эхнатон повелел возвратить Кийа обратно в гарем. Отвергнутая любовница была обречена на вечное забвение, несмотря на то что родила фараону двух сыновей-принцев, которые считались незаконными и могли занять престол, только став мужьями старших дочерей фараона и Нефертити. Эхнатон приказал переделать изображения Кийа и ее имя на лики и имена дочерей от Нефертити.
После пятнадцатого года правления Эхнатона имя Нефертити больше не упоминается. Что же с ней случилось? Некоторые предполагают, что царица попала в опалу и по приказу Эхнатона удалилась в загородный дворец в обществе будущего Тутанхамона, которого она готовила к правлению.
Британский египтолог Николас Ривс считает иначе: исчезновение Нефертити в конце правления Эхнатона можно считать ее продвижением в качестве соправительницы и наследницы фараона под другим именем. Возможно, она и есть тот таинственный фараон Сменхкара, пришедший на смену Эхнатону и бывший предшественником Тутанхамона.
Пожалуй, ближе всего к истине Сирил Олдред: Нефертити скончалась между тринадцатым и четырнадцатым годом правления Эхнатона. В таком случае фараон остался один, лишившись возлюбленной супруги, своей «несравненной царицы». Когда Нефертити умерла, фараон был сломлен.
Конец царствования Эхнатона окутан тайной. Последняя известная дата — семнадцатый год его правления. О смерти фараона ничего неизвестно. Вероятно, он не был погребен в семейной усыпальнице, где была похоронена его вторая дочь.
На смену Эхнатону пришел Сменхкара (по одной из версий — сын Кийа).
Он процарствовал всего лишь год. После его загадочной смерти престол унаследовал
двенадцатилетний Тутанхатон, который под влиянием фиванской знати возродил
культы традиционных богов и покинул столицу своего отца, изменив имя на
«Тутанхамон» — «Живое подобие Амона». Анхесенатон стала супругой юного фараона,
превратившись в Анхесенамон — «Живет она для Амона». Страна понемногу забывала
бога Атона, поклоняясь Амону-Ра. Столицей вновь стали Фивы. Имена Эхнатона и
Нефертити были преданы забвению...
 Аспасия
из Милета — одна из удивительнейших женщин Древней Греции. «Аспасия» в переводе
с греческого означает «любимая». В 432 году до Р.Х., когда она была привлечена к
суду по обвинению в безнравственности и непочитании богов, только благодаря
защите одного из выдающихся вождей Афин — Перикла, ей удалось избежать судебной
расправы.
Аспасия
из Милета — одна из удивительнейших женщин Древней Греции. «Аспасия» в переводе
с греческого означает «любимая». В 432 году до Р.Х., когда она была привлечена к
суду по обвинению в безнравственности и непочитании богов, только благодаря
защите одного из выдающихся вождей Афин — Перикла, ей удалось избежать судебной
расправы.
Жила Аспасия во время, которое называют «золотым веком» и еще «веком Перикла». Греция представляла конгломерат городов-государств (полисов), которые то дружили друг с другом, то враждовали, и крупнейший государственный муж Эллады — Перикл много сделал для процветания своей родины — Афин.
Когда Аспасия перебралась в Афины, а ей не было и 25 лет, она накопила достаточно для безбедной жизни и стала содержательницей публичного дома.
К этому времени Перикл — уже знаменитый стратег и весьма популярный политик. Он происходил из аристократического рода по материнской линии — Алкмеонидов. Перикл имел непропорционально длинную голову (чтобы скрыть это, он разрешал изображать себя лишь в шлеме, сдвинутом на затылок). Женился он скорее по обязанности, чем по любви. Двое сыновей подрастали в его внешне вполне благополучной семье.
Перикл любил собирать вокруг себя ученых, литераторов, художников. Выдающийся скульптор Фидий, философ Анаксагор, драматург Софокл, «отец истории» Геродот — близкие друзья Перикла, ощущавшие его внимание и заботу.
Аспасия прекрасно разбиралась в психологии мужчин. Вся афинская знать побывала в ее доме. Появились завсегдатаи, поклонники, обожатели, меценаты. Одним из первых преданных ее дому мужей стал Сократ, который уговорил посетить дом Аспасии Перикла.
Перикл, которому было уже за сорок, увидел женщину своей мечты, женщину, которая счастливым образом соединяла в себе цветущую молодость и красоту с утонченным умом философа. Сама Аспасия не ожидала, что покорит первого человека Афин.
Перикл стал навещать ее каждый день. Он настолько увлекся милетянкой, что в 449 году развелся с женой и в качестве опекуна, по существующей в Греции традиции, вновь выдает ее замуж. Сам же приглашает к себе Аспасию.
Вместе с ней в дом Перикла вошла новая жизнь. Впрочем, домом они занимались мало. У Перикла был верный раб Евангел, который вел хозяйство. Перикл, человек отнюдь не бедный, терпеть не мог роскоши. Аспасии нравился такой порядок, освобождавший ее от хозяйственных хлопот. Для нее положение жены «достойнейшего из эллинов» было пределом мечтаний.
Омрачало их жизнь лишь одно препятствие: между Афинами и Милетом не была заключена эпигамия — договор, дававший право гражданам двух городов-государств заключать между собой браки. А поскольку Перикл являлся гражданином Афин, а Аспасия гражданкой Милета, то они не могли узаконить свой брачный союз.
Через пять лет Аспасия родила Периклу сына. Друзья радовались их семейному счастью, и теперь у Перикла часто бывало весело. Аспасия первой в Афинах нарушила традицию, запрещавшую женам участвовать в дружеских пирушках. Она являлась душой и центром увеселений, пользуясь уважением гостей. Более того, она позволяла себе принимать посетителей и в отсутствие мужа, развлекала их беседой, угощала вином. Авторитет Аспасии был столь высок, что некоторые друзья Перикла стали приходить к нему с женами. Ее утонченность, остроумие, глубина познания того или иного предмета приводили в восторг собеседников.
Перикл советовался с Аспасией по всем вопросам, даже государственным. Он рассказывал ей о том, что произошло на Совете. Вместе они находили решения самых запутанных проблем афинской жизни. Постепенно Аспасия сгруппировала в доме избранный круг друзей, которые помогали Периклу искать выходы из сложнейших ситуаций. Платон убежден, что знаменитая речь Перикла, произнесенная им над воинами, павшими в первый год Пелопоннесской войны, создавалась не без помощи Аспасии.
В 442 году между Милетом, родным городом Аспасии, и Самосом возник территориальный спор. Войско милетцев было разбито, и тогда они подали жалобу в Афины. Самос тотчас объявил о своей независимости. По совету Аспасии Перикл настоял на военном походе против Самоса. Недоброжелатели тут же заговорили, что Аспасия ввергла Афины в войну, дабы помочь родному Милету. На самом же деле она, как и Перикл, поняла всю опасность выхода целого полиса из-под власти Афин.
Но враги Перикла и Аспасии не дремали. Народное собрание приняло решение о том, что люди, не верящие в богов или распространяющие учения о небесных явлениях, должны привлекаться к суду как государственные преступники. Это был прямой удар по философу Анаксагору. Не надеясь на благоприятный исход судебного процесса против своего престарелого учителя, Перикл помог ему бежать из Афин в Лампсак. Второй жертвой стал Фидий. Аспасия, будучи единомышленницей обвиняемых, тоже была в известной мере скомпрометирована. Она так же, как и Анаксагор, верила, что солнце — огромный раскаленный камень, который больше Пелопоннеса, и что ветры образуются из разреженного солнцем воздуха. Кроме того, Аспасию обвиняли в сводничестве, в том, что она устраивала Периклу свидания со свободными афинянками в его доме.
Перикл был готов сделать все, чтобы спасти жену, и предложил ей бежать из города. Но Аспасию могли приговорить к смерти заочно, в таком случае она никогда не сможет вернуться в Афины и увидеться с любимым. И она отказалась от побега.
По афинскому закону женщина не имела права выступать в суде. На суд отправился Перикл. Он произнес одну из самых лучших речей в своей жизни. Шестидесятилетний стратег, человек редкой выдержки, всегда невозмутимый и бесстрастный, на этот раз плакал. «Он бы не пролил столько слез, — говорит Эсхил, — если бы речь шла о его собственной жизни». Это настолько потрясло всех, что судьи полностью оправдали Аспасию. Это было в 432 году.
Но враги не успокоились и начали открыто обвинять Перикла в хищениях и финансовых злоупотреблениях во время управления Афинским государством. В это время началась Пелопоннесская война, длившаяся с некоторыми перерывами почти тридцать лет. Не последнюю роль в ее развязывании сыграла политика Афин, и недруги Перикла злобно утверждали, что война им затеяна специально, дабы погасли все обвинения против него и Аспасии.
На самом же деле основной причиной Пелопоннесской войны был конфликт между Афинами и Коринфом — давними торговыми конкурентами. Но очень уж врагам Перикла хотелось убрать могущественного и влиятельного стратега.
Перикл потерял свою власть над народом, перед которым выступал теперь с речами Клеон, человек ограниченный, заносчивый и резкий.
На второй год войны вспыхнула страшная эпидемия. Лекари не знали ни источника болезни, ни способов ее лечения. Болезнь не обошла и дом Перикла. Погибли два его сына от первого брака. В живых остался только самый младший, сын Аспасии, носивший имя отца. Но, будучи сыном уроженки Милета, он не имел в Афинах прав гражданства и не считался законным наследником. Тогда Перикл, к тому времени снова завоевавший доверие народа, выступил на собрании с неожиданным предложением: отменить закон, по которому гражданином Афин может быть только тот, у кого и мать и отец родились в этом городе. Предложение не прошло, но из уважения к заслугам Перикла ему позволили внести имя сына Аспасии в списки афинских граждан.
Но недолго радовался этому Перикл — болезнь скосила и его. В 429 году до Р.Х. он умер. В 404 году война закончилась поражением Афин. Их золотой век, а вместе с ними и Греции, катился к закату.
Аспасия овдовела. Прошло, однако, время, и она сошлась с неким торговцем скота Лисиклом, человеком богатым и незаурядным. Аспасия быстро развила в новом муже риторские и логические способности. Лисикл стал заметен, а вскоре и популярен в Афинах. Он был избран афинянами стратегом. Однако в конце того же 428 года пал в бою.
Аспасия стала затворницей. Дом ее опустел, блистательный круг друзей распался навсегда. Многих из них уже не было в живых. Навещал ее только Сократ вместе со своим молодым учеником Ксенофонтом.
В 406 году Перикл-младший в числе других стратегов командовал флотом, разгромившим спартанцев при Аргинусских островах. После победы буря помешала афинянам подобрать раненых и погибших. За это стратегов отдали под суд. Двое из них бежали, шестеро остальных, в том числе и Перикл-младший, предстали перед судом. В тот день, когда решалась судьба юноши, председательствовал Сократ. Видя явную предвзятость суда, он всячески оттягивал его решение, которое было принято лишь на другой день, при другом председателе. Молодой Перикл выпил в тюрьме яд цикуты.
Так Аспасия пережила своего сына. Это горе
подкосило ее окончательно. Наконец она тихо отошла, прожив долгую бурную жизнь,
оставив о себе память и славу как о красивейшей и умнейшей женщине Древней
Греции, жрице любви, подарившей немало лет счастья одному из величайших людей
Эллады — Периклу. Эти два имени навсегда останутся в истории связанными между
собой.
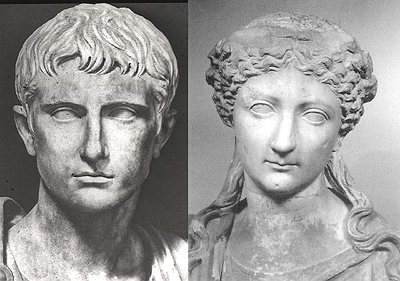 Император
Октавиан Август своими военными успехами, умеренностью и мудростью заставил всех
с уважением относиться к его верховной власти. Значительной долей своей славы
Божественный Август обязан императрице Ливии, с которой он не только советовался
обо всех важных государственных делах, но и, как правило, следовал ее советам.
Как полагают, то великодушие, которое он проявил, помиловав заговорщика Цинну,
больше способствовало его величию и счастью, чем самые важные из всех одержанных
им побед. Общеизвестно, что он принял такое решение после продолжительной беседы
с Ливией.
Император
Октавиан Август своими военными успехами, умеренностью и мудростью заставил всех
с уважением относиться к его верховной власти. Значительной долей своей славы
Божественный Август обязан императрице Ливии, с которой он не только советовался
обо всех важных государственных делах, но и, как правило, следовал ее советам.
Как полагают, то великодушие, которое он проявил, помиловав заговорщика Цинну,
больше способствовало его величию и счастью, чем самые важные из всех одержанных
им побед. Общеизвестно, что он принял такое решение после продолжительной беседы
с Ливией.
Из всех римских императриц только о Ливии можно сказать, что она с великой честью исполнила свое высокое предназначение, ничем не запятнав императорского достоинства.
Ливия Друзилла была дочерью Ливия Друза Калидана, который попал в проскрипции — списки лиц, объявленных вне закона, — после судебных расследований о деятельности триумвирата присоединился к партии Брута и Кассия, но после битвы при Филиппах покончил жизнь самоубийством, чтобы не попасть в руки Марка Антония и Августа. Семья Ливии считалась одной из самых знатных в Риме, ибо ее род был древнее самого Рима.
Ливия находилась в расцвете своей красоты, когда на нее обратил внимание Август. Он выказывал ей свою любезность и нежную привязанность.
Ливия скоро стала оказывать ему особые знаки внимания. Она была очень тщеславной женщиной, а полное безразличие к славе супруга, Тиберия Нерона, никак не могло удовлетворить ее беспокойную натуру.
Цезарь Август, напротив, обладал такими свойствами, перед которыми было трудно устоять любому человеку. Он родился в Риме. Будущий император рано потерял отца, и решающую роль в его жизни сыграло родство с Юлием Цезарем, которому он приходился внучатым племянником. Приехав после гибели Цезаря в Рим, он официально принял усыновление и согласно римским обычаям стал именоваться Гай Юлий Цезарь Октавиан.
К моменту знакомства с Ливией Октавиан Август находился в расцвете сил; у него были белокурые, курчавые от природы волосы, классический римский нос, а глаза так ярко сияли, что, как выразился однажды один его воин, приходилось отводить взгляд от него в сторону, чтобы не ослепнуть. Красоту его разума можно было сравнить с красотой тела. Август имел мягкий, дружелюбный характер, он любил оживленную беседу; был сдержан в речах и постоянен в дружбе.
Ливия всегда ласково внимала Августу, и ее милые чары еще сильнее высвечивали странный и мрачный характер его жены Скрибонии, которая становилась для него все более невыносимой из-за ее надуманных страстей и ревности, а также дурного нрава. Он отстранил Скрибонию от себя в тот день, когда она произвела на свет дочку Юлию, и, прибегнув к власти, заставил Тиберия Нерона уступить ему свою жену.
В 38 году до Р.Х. 19-летняя Ливия стала третьей женой Октавиана. Он заставил Тиберия Нерона не только согласиться с этим, но еще и принудил его лично передать свою бывшую супругу ему, словно он ей родной отец. Свадьбу сыграли с большой помпой, и на ней среди первых приглашенных был, конечно, Тиберий.
После свадебного пира Август увез Ливию к себе во дворец.
Через три месяца она подарила ему сына, которого назвали Клавдием Друзом Нероном. Август сразу же отослал младенца Тиберию Нерону. Но все эти предосторожности не рассеяли подозрений публики, ибо все считали, что новорожденный Друз — сын Августа. К тому же широкое хождение получила обидная для него шутка: «Как же везет счастливым, процветающим людям! Они могут производить на свет детей всего за три месяца!»
Когда Цезарь Август сделался неограниченным властителем Римского государства, в его честь были построены великолепные храмы. Во славу императора устраивались пышные празднества и спортивные состязания.
Не была забыта и его супруга Ливия. В ее честь был построен город, названный Ливиадой. Сенаторы присуждали ей самые звонкие титулы, и среди всех прочих высший — Августа и «Мать отечества».
Август не отставал от других, стремясь доказать всем окружающим, что он глубоко уважает и любит Ливию. Он стремился выполнить любое желание Ливии, только чтобы доставить ей удовольствие. Власть императрицы была никак не менее абсолютной, чем его собственная.
Ливия была энергична, хитра и очень активно вмешивалась в государственные дела, хотя умела сохранять при этом внешность добродетельной матроны, всецело поглощенной заботами о своей семье. Ливия с выгодой для себя пользовалась слабостями императора и в конце концов приобрела над ним неограниченную власть.
Властолюбие было главной чертой характера Ливии, так же как и Октавиана. Равны они были друг другу и в лицемерии, и в хитрости. Такое сходство характеров обеспечило непоколебимую прочность их союза.
Ливия мечтала, чтобы и ее потомки достигли столь же высокого общественного положения. Она добилась самых важных и самых влиятельных постов в империи для своих сыновей от первого брака — Тиберия и Друза. Император поставил их во главе легионов, а потом и всей армии, хотя их деятельность на государственной службе нельзя назвать выдающейся.
Историк Тацит назвал Ливию «матерью, опасной для государства, и злой мачехой для семьи Цезарей».
Молва подозревала, что не без участия Ливии скончались в юном возрасте усыновленные Октавианом племянник Марцелл и внуки Гай Цезарь и Луций Цезарь.
Ливия добилась того, что Август усыновил ее старшего сына Тиберия, который остался единственным наследником верховной власти.
Август скончался в Ноле, в той же спальне, где когда-то умер его отец Октавиан. Спросив у прощавшихся с ним у смертного одра друзей, как, по их мнению, он сыграл эту комедию жизни, с последними словами он обратился к жене: «Ливия, помни о Прожитых вместе годах! Живи дальше и прощай!» После этого император испустил дух у нее на руках.
В Риме Ливия устроила Августу роскошные похороны.
Императрица даже пожелала стать жрицей Августа. По завещанию он оставил Ливии треть всех своих богатств, а также принял ее в лоно семьи Юлиев, в результате чего она взяла себе новое имя — Юлия. Таким образом, Ливия одновременно была вдовой, дочерью и жрицей Августа.
Ливия, сделав Тиберия принцепсом, могла торжествовать победу. Однако ее властолюбивая натура столкнулась с неподатливым характером родного сына.
«Тиберию стала в тягость его мать Ливия: казалось, что она притязает на равную с ним власть, — пишет Тацит. — Он начал избегать частых свиданий с нею и долгих бесед наедине, чтобы не подумали, будто он руководствуется ее советами».
Ливия жила в Риме, сохраняя свое могущество, и Тиберию приходилось с нею считаться. В 27 году он навсегда уехал из Рима и стал жить на острове Капри.
В провинциях Ливия при жизни почиталась как богиня. Ливия умерла в 29 году, благополучно дожив до 86-ти лет. Тацит пишет: «Тиберий, ни в чем не нарушив приятности своего уединения и не прибыв в Рим отдать последний долг матери, в письме к сенату сослался на свою занятость делами и урезал как бы из скромности щедро определенные сенаторами в память Ливии почести, сохранив лишь немногие и добавив, чтобы ее не обожествляли, ибо так хотела она сама.
Вслед за тем наступила пора безграничного и беспощадного самовластия, ибо при жизни Ливии в ее лице все же существовала какая-то защита для преследуемых, так как Тиберий издавна привык оказывать послушание матери».
Ливия была официально обожествлена своим внуком,
императором Клавдием I.
 Имя
великой княгини Ольги упоминается всякий раз, когда речь заходит о выдающихся
женщинах Древней Руси. Ее мужем был князь Игорь. Сменивший Олега на киевском
княжеском престоле Игорь, подобно его предшественнику, изображен в древнерусских
летописях во многом как легендарная личность. Вещий Олег приходился
родственником и опекуном молодому князю.
Имя
великой княгини Ольги упоминается всякий раз, когда речь заходит о выдающихся
женщинах Древней Руси. Ее мужем был князь Игорь. Сменивший Олега на киевском
княжеском престоле Игорь, подобно его предшественнику, изображен в древнерусских
летописях во многом как легендарная личность. Вещий Олег приходился
родственником и опекуном молодому князю.
Легенда XVI века передает сказание о том, как однажды киевский князь Игорь охотился в лесах у Пскова. Здесь он встретил на своем пути реку и увидел стоявший у берега челн. Перевозчиком оказалась девушка Ольга. Игорь попросил перевезти его, он был поражен ее умом. Когда же он, «некие глаголы претворяше к ней», получил отпор на свои «стыдные словеса», девушка отказала Игорю столь искусно, возвав к его княжеской чести, что Игорь не только не обиделся, но, согласно легенде, тут же посватался к ней.
Биография Ольги в большей ее части загадочна. Даже само появление ее на исторической сцене различные летописи датируют по-разному. В «Повести временных лет» под 903 годом читаем: «Игорь вырос и собирал дань после Олега, и слушались его, и привели ему жену из Пскова именем Ольгу». А в Новгородской первой летописи младшего извода в недатированной части, но непосредственно перед статьей 920 года, сказано, что Игорь «привел себе жену из Плескова, по имени Ольгу, была она мудрой и смышленой, от нее родился сын Святослав».
Русская православная церковь причислила Ольгу к лику святых, богословы создали ее Краткое и Пространное житие. Житие считает Ольгу уроженкой псковского села Выбуто, дочерью незнатных родителей. Напротив, известная в пересказе В. Н. Татищева поздняя Иоакимовская летопись выводит Ольгу от новгородского князя, или посадника — легендарного Гостомысла. Вряд ли можно сомневаться в том, что она была из знатной семьи, а не крестьянской девушкой.
Девушка пленила Игоря красотой, благонравием и скромностью. Любовь к юной Ольге ослепила Игоря, который, не раздумывая, пожелал взять ее в жены, предпочтя другим, более родовитым невестам.
О времени, месте рождения и происхождении самого Игоря нам ничего с достоверностью неизвестно. Рождение в Новгороде на Волхове около 879 года вызывает сомнение, поскольку в момент похода Игоря на Константинополь, в 941 году, ему должно было быть от 20 до 25 лет.
Поход Игоря на Константинополь в 941 году отмечен «Повестью временных лет» и упоминается в византийских историографических сочинениях. Но вызывает сомнение сорокалетнее (!) бесплодие Ольги. Весьма сомнительно, что Игорь женился на Ольге в 903 году и в течение 39 лет не имел детей, как и то, что он взял ее в преклонные годы не первым для себя браком. Скорее всего, к моменту рождения Святослава оба они, Ольга и Игорь, были молоды и полны сил.
Кончина Олега побудила древлянские племена к восстанию. Нестор следующим образом описывает вступление Игоря на киевский княжеский престол: «После смерти Олега стал княжить Игорь... И затворились от Игоря древляне по смерти Олега». В следующем году, по свидетельству Нестора, «пошел Игорь на древлян и, победив их, возложил на них дань больше прежней».
Жаждавшие захватить власть в Киеве древляне замыслили убить Игоря и ждали удобного случая, чтобы расправиться с ним.
Но прежде чем столкнуться в смертельной схватке с вождями племенного союза древлян, князь Игорь предпринял накануне 941 года поход на Константинополь.
Ольга обладала даром предвидения — она чувствовала опасность, грозившую мужу, и изо всех сил старалась уберечь его от беды. Пророческий сон приснился ей, когда князь Игорь собирался в поход на Константинополь. Ольге привиделись сожженные ладьи, мертвые воины, черные вороны, кружившие над полем брани... Поражение дружины Игоря представлялось неизбежным.
Встревоженная Ольга пыталась остановить мужа, рассказав о дурных знаках, которые видела во сне, но он не сомневался в скорой победе.
Пророчество княгини сбылось, и войско было разбито. Впоследствии князь Игорь всегда прислушивался к словам Ольги, не раз предсказывавшей ему победу или поражение в ратных делах, следовал ее мудрым советам.
Супруги жили счастливо. Вернувшись из похода на Константинополь, князь Игорь стал отцом: родился сын Святослав.
В 944 году князь организовал новый поход на Византию. На этот раз дело кончилось подписанием мирного договора.
Летопись Нестора под 945 годом повествует: «И пришла осень, и стал он [Игорь] замышлять поход на древлян, желая взять с них еще больше дани. В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки Свенель да изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, да и ты добудешь, и мы". И послушал их Игорь — пошел к древлянам за данью, и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, [то,] поразмыслив, сказал своей дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще". И отпустил дружину свою домой, а сам с малою частью дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что [Игорь] идет снова, держали совет с князем своим Малом: "Если повадится волк к овцам, то выносит все стадо, пока не убьют его. Так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит". И послали к нему, говоря: "Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань". И не послушал их Игорь. И древляне, выйдя Из города Искоростеня против Игоря, убили Игоря и дружину его, так как было ее мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у Искоростеня, в Деревской земле, и до сего времени».
Настоящее погребение зверски убитого Игоря, по прадедовским обычаям языческой веры, не состоялось. Между тем в соответствии с народными поверьями покойник, которого не похоронили согласно обычаю, блуждал среди людей и тревожил их.
Следуя языческим традициям, княгиня Ольга надеялась, что безжалостная месть за смерть мужа исцелит ее душу от страданий. Она поклонялась умершему супругу, который, по древним славянским верованиям, и в загробной жизни продолжал следить за своим родом и оказывать ему покровительство.
В годы замужества Ольга обрела ту самую «мудрость», которая позволила ей выдвинуться после смерти князя Игоря в правительницы Русского государства.
Минуло полгода после смерти Игоря, как вдруг весной следующего, 945 года верхушка древлянского союза племен решила восстановить дружеские отношения с Киевом и направила послов к Ольге с предложением выйти замуж за древлянского князя Мала.
Ольга ответила послам, что они могут привести сватов в ладьях к ее терему (передвижение посуху в ладьях имело у восточных славян двойной смысл: и оказание почести, и обряд похорон). Наутро доверчивые древляне последовали ее совету, а Ольга приказала их сбросить в яму и живыми закопать. Памятуя о мучительной смерти казненного древлянами мужа, княгиня коварно поинтересовалась у обреченных: «Добра ли вам честь?» Послы ей будто бы ответили: «Пуще Игоревы смерти» (греческий историк Лев Дьякон сообщал, что «Игорь привязан был к двум деревам и разорван на две части»).
Второе посольство «мужей нарочитых» было сожжено, а вдова отправилась на землю древлян якобы для того, чтобы «створить трызну мужу своему». Когда войска встретились, юный Святослав, сын Ольги и Игоря, начал битву, метнув копье в неприятеля. Пущенное детской рукой, оно не долетело до вражеских рядов. Однако опытные полководцы ободрили своих воинов примером юного князя. Здесь ее «отроки» напали на «упившихся» после тризны древлян и перебили их множество — «иссекоша их 5000», как утверждает летопись.
Овладев Искоростенем, Ольга «сожгла его, городских же старейшин забрала в плен, а других людей убила, заставила платить дань... И пошла Ольга с сыном своим и с дружиною по Древлянской земле, устанавливая распорядок даней и налогов. И существуют места ее стоянок и охот до сих пор».
Но княгиня на этом не успокоилась. Через год, продолжает свой рассказ Нестор, «отправилась Ольга к Новгороду и установила по Мете погосты и дани и по Луге — оброки и дани. Ловища ее сохранились по всей земле, и свидетельства о ней, и места ее, и погосты...»
Сказание о мести Ольги отчасти, вероятно, легенда. Обман, жестокость, коварство и другие действия княгини, мстящей за убийство мужа, прославляются летописцем как высший, справедливый суд.
Месть за гибель мужа не избавила Ольгу от душевных мук, а скорее добавила новые терзания. Покой и исцеление обрела она в христианстве, смирившись со своей участью и отказавшись от желания уничтожить всех врагов.
Отказалась Ольга и от брачного союза с византийским императором Константином Багрянородным, храня верность памяти мужа.
В 964 году Ольга уступила престол совершеннолетнему сыну. Но «възрастъший и възмужавший» Святослав длительное время находился в походах, и во главе государства по-прежнему оставалась его мать. Так, во время печенежского нашествия на Киев в 968 году Ольга возглавила оборону города. Предание нарекло княгиню хитрой, церковь — святой, а история — мудрой.
Судя по летописи, Святослав испытывал к матери почтительное уважение до самой ее смерти. Когда она стала совсем больной, по ее просьбе он вернулся из похода и был с матерью до ее последнего часа.
Накануне своей кончины — все летописи датируют ее 969 годом — «Ольга завещала не совершать по ней тризны (составной части языческого обряда похорон), так как имела при себе священника втайне».
Многое из того, что задумала, но не смогла осуществить Ольга, было продолжено ее внуком, Владимиром Святославичем.
По-видимому, язычник Святослав запретил публичное
отправление христианского культа (молебны, водосвятия, крестные ходы), выдвинул
на первое место «норовы поганьские», то есть языческие.
 Внезапная
кончина первой жены Ивана III, княгини Марии Борисовны, 22 апреля 1467 года
заставила великого князя Московского задуматься о новой женитьбе. Овдовевший
великий князь остановил свой выбор на жившей в Риме и слывшей католичкой
греческой принцессе Софье Палеолог. Одни историки полагают, что замысел
«римско-византийского» брачного союза родился в Риме, другие отдают предпочтение
Москве, третьи — Вильно или Кракову.
Внезапная
кончина первой жены Ивана III, княгини Марии Борисовны, 22 апреля 1467 года
заставила великого князя Московского задуматься о новой женитьбе. Овдовевший
великий князь остановил свой выбор на жившей в Риме и слывшей католичкой
греческой принцессе Софье Палеолог. Одни историки полагают, что замысел
«римско-византийского» брачного союза родился в Риме, другие отдают предпочтение
Москве, третьи — Вильно или Кракову.
Софья (в Риме ее называли Зоей) Палеолог была дочерью морейского деспота Фомы Палеолога и приходилась племянницей императорам Константину XI и Иоанну VIII. Деспина Зоя провела детство в Морее и на острове Корфу. В Рим она приехала вместе с братьями Андреем и Мануилом после смерти отца в мае 1465 года. Палеологи поступили под покровительство кардинала Виссариона, который сохранил симпатии к грекам. Константинопольский патриарх и кардинал Виссарион пытались возобновить унию с Русью с помощью бракосочетания.
Прибывший в Москву из Италии 11 февраля 1469 года Юрий Грек привез Ивану III некий «лист». В этом послании, автором которого, по-видимому, был сам папа Павел II, а соавтором — кардинал Виссарион, великому князю сообщалось о пребывании в Риме преданной православию знатной невесты — Софьи Палеолог. Папа обещал Ивану свою поддержку в случае, если тот захочет посвататься к ней.
В Москве не любили торопиться в важных делах и над новыми вестями из Рима размышляли месяца четыре. Наконец все размышления, сомнения и приготовления остались позади. 16 января 1472 года московские послы отправились в далекий путь.
В Риме москвичи были с честью приняты новым папой Сикстом IV. В подарок от Ивана III послы преподнесли понтифику шестьдесят отборных соболиных шкурок. Отныне дело быстро пошло к завершению. Через неделю Сикст IV в соборе Святого Петра совершает торжественную церемонию заочного обручения Софьи с московским государем.
В конце июня 1472 года невеста в сопровождении московских послов, папского легата и многочисленной свиты отправилась в Москву. На прощание папа дал ей продолжительную аудиенцию и свое благословение. Он распорядился повсюду устраивать Софье и ее свите пышные многолюдные встречи.
Софья Палеолог прибыла в Москву 12 ноября 1472 года, и тут же состоялось ее венчание с Иваном III. В чем причина спешки? Оказывается, на следующий день праздновалась память святого Иоанна Златоуста — небесного покровителя московского государя. Отныне и семейное счастье князя Ивана отдавалось под покровительство великого святителя.
Софья стала полноправной великой княгиней Московской.
Сам факт, что Софья согласилась поехать искать счастья из Рима в далекую Москву, говорит о том, что она была смелая, энергичная и склонная к авантюрам женщина. В Москве ее ожидали не только почести, оказываемые великой княгине, но также враждебность местного духовенства и наследника престола. На каждом шагу ей приходилось отстаивать свои права.
Иван, при всей своей любви к роскоши, был бережлив до скупости. Он экономил буквально на всем. Выросшая в совершенно другой обстановке, Софья Палеолог, напротив, стремилась блистать и проявлять щедрость. Этого требовало ее честолюбие византийской принцессы, племянницы последнего императора. К тому же щедрость позволяла приобрести друзей среди московской знати.
Но лучшим способом утвердить себя было, конечно, деторождение. Великий князь хотел иметь сыновей. Желала этого и сама Софья. Однако, на радость недоброжелателям, она родила подряд трех дочерей — Елену (1474), Феодосию (1475) и опять Елену (1476). Софья молила Бога и всех святых о даровании сына.
Наконец ее прошение было исполнено. В ночь с 25 на 26 марта 1479 года на свет появился мальчик, нареченный в честь деда Василием. (Для матери он всегда оставался Гавриилом — в честь архангела Гавриила.) Счастливые родители связали рождение сына с прошлогодним богомольем и усердной молитвой у гроба преподобного Сергия Радонежского в Троицком монастыре. Софья рассказывала, что при подходе к монастырю ей явился сам великий старец, держащий на руках мальчика.
Вслед за Василием у нее родились еще два сына (Юрий и Дмитрий), затем две дочери (Елена и Феодосия), потом еще три сына (Семен, Андрей и Борис) и последней, в 1492 году, — дочь Евдокия.
Но теперь неизбежно возникал вопрос о будущей участи Василия и его братьев. Наследником престола оставался сын Ивана III и Марии Борисовны Иван Молодой, у которого 10 октября 1483 года в браке с Еленой Волошанкой родился сын Дмитрий. В случае кончины Державного он не замедлил бы тем или иным способом избавиться от Софьи и ее семейства. Лучшее, на что они могли надеяться, — ссылка или изгнание. При мысли об этом гречанку охватывали ярость и бессильное отчаяние.
Зимой 1490 года в Москву приехал из Рима родной брат Софьи, Андрей Палеолог. Вместе с ним вернулись московские послы, ездившие в Италию. Они привезли в Кремль множество всякого рода умельцев. Один из них, приезжий лекарь Леон, вызвался исцелить князя Ивана Молодого от болезни ног. Но когда он ставил княжичу банки и давал свои микстуры (от которых тот едва ли мог умереть), некий злоумышленник добавил в эти микстуры отраву. 7 марта 1490 года 32-летний Иван Молодой скончался.
Вся эта история породила множество слухов в Москве и по всей Руси. Общеизвестны были неприязненные отношения между Иваном Молодым и Софьей Палеолог. Гречанка не пользовалась любовью москвичей. Вполне понятно, что молва приписала ей и убийство Ивана Молодого. В «Истории о великом князе Московском» князь Курбский прямо обвинял Ивана III в отравлении собственного сына, Ивана Молодого. Да, такой поворот событий открывал путь к престолу детям Софьи. Сам Державный попал в крайне сложное положение. Вероятно, в этой интриге Иван III, приказавший сыну воспользоваться услугами тщеславного лекаря, оказался лишь слепым орудием в руках хитроумной гречанки.
После гибели Ивана Молодого обострился вопрос о наследнике престола. Было два кандидата: сын Ивана Молодого — Дмитрий и старший сын Ивана III и Софьи Палеолог — Василий. Притязания Дмитрия-внука подкреплялись тем, что его отец был официально провозглашенным великим князем — соправителем Ивана III и наследником престола.
Державный оказался перед мучительным выбором: отправить в темницу либо жену и сына, либо сноху и внука... Убийство соперника во все времена было обычной ценой верховной власти.
Осенью 1497 года Иван III склонился на сторону Дмитрия. Он распорядился подготовить для внука торжественное «венчание на царство». Узнав об этом, сторонники Софьи и княжича Василия составили заговор, который предусматривал убийство Дмитрия, а также бегство Василия на Белоозеро (откуда перед ним открывалась дорога в Новгород), захват хранившейся в Вологде и на Белоозере великокняжеской казны. Однако уже в декабре Иван арестовал всех заговорщиков, в том числе и Василия.
В ходе расследования выяснилась причастность к заговору Софьи Палеолог. Не исключено, что именно она была организатором предприятия. Софья добыла яд и ждала подходящего случая, чтобы отравить Дмитрия.
В воскресенье 4 февраля 1498 года 14-летний Дмитрий был торжественно объявлен наследником престола в Успенском соборе Московского кремля. Софья Палеолог и ее сын Василий на этой коронации отсутствовали. Казалось, их дело окончательно проиграно. Придворные бросились угождать Елене Стефановне и ее коронованному сыну. Однако вскоре толпа льстецов отступила в недоумении. Державный так и не дал Дмитрию реальной власти, предоставив ему в управление лишь некоторые северные уезды.
Иван III продолжал мучительно искать выхода из династического тупика. Теперь ему первоначальный замысел не казался удачным. Державному стало жалко своих юных сыновей — Василия, Юрия, Дмитрия Жилку, Семена, Андрея... Да и с княгиней Софьей он прожил вместе четверть века... Иван III понимал, что рано или поздно сыновья Софьи поднимут мятеж. Предотвратить выступление можно было только двумя способами: либо уничтожить вторую семью, либо завещать престол Василию и уничтожить семью Ивана Молодого.
Державный на этот раз избрал второй путь. 21 марта 1499 года он «пожаловал... сына своего князя Василь Ивановичи, нарекл его государем великим князем, дал ему Великыи Новъгород и Пьсков в великое княженье». В итоге на Руси появились сразу три великих князя: отец, сын и внук!
В четверг 13 февраля 1500 года в Москве сыграли пышную свадьбу. Иван III выдал свою 14-летнюю дочь Феодосию замуж за князя Василия Даниловича Холмского — сына знаменитого полководца и предводителя тверского «землячества» в Москве. Этот брак способствовал сближению между детьми Софьи Палеолог и верхушкой московской знати. К сожалению, ровно через год Феодосия умерла.
Развязка семейной драмы наступила лишь через два года. «Тое же весны (1502 г.) князь велики апреля 11 в понедельник положил опалу на внука своего великого князя Дмитрея и на его матерь на великую княгиню Елену, и от того дни не велел их поминати в ектеньях и литиах, ни нарицати великым князем, и посади их за приставы». Через три дня Иван III «пожаловал сына своего Василия, благословил и посадил на великое княженье Володимерьское и Московское и всеа Руси самодеръжцем, по благословению Симона, митрополита всеа Руси».
Ровно через год после этих событий, 7 апреля 1503 года, Софья Палеолог умерла. Тело великой княгини было погребено в соборе кремлевского Вознесенского монастыря. Ее похоронили рядом с могилой первой жены царя — тверской княгини Марии Борисовны.
Вскоре ухудшилось здоровье и самого Ивана III. В четверг 21 сентября 1503 года он вместе с наследником престола Василием и младшими сыновьями отправился на богомолье по северным монастырям. Однако святые угодники уже не склонны были помогать кающемуся государю. По возвращении с богомолья Ивана разбил паралич: «...отняло у него руку и ногу и глаз».
Иван III скончался 27 октября 1505 года. В
«Истории » В. Н. Татищева есть такие строки: «Сий блаженный и достохвальный
великий князь Иоан Великий, Тимофей преже нареченный, многии княжения к великому
князю присовокупи и силу умножи, варварскую же нечестивую власть опроверже и всю
Рускую землю данничества и пленения избави, и многи от Орды данники себе учини,
многа ремесла введе, их же прежде не знахом, со многими дальними государи любовь
и дружбу и братство сведе, всю Рускую землю прослави; во всем же том помогаше
ему благочестивая супруга его великая княгиня София; и да будет им вечная память
во безконечныя веки».
 Во
время правления султана Сулеймана I — с 1520 по 1566 год — Османская империя
достигла наивысшей точки расцвета. На протяжении двух последних десятилетий
Сулейман находился под влиянием своей фаворитки, ставшей широко известной
европейцам как Ла Росса, или Роксолана. Пленница из Галиции, дочь украинского
священника, она получила от турок прозвище Хуррем, или Смеющаяся, за свою
счастливую улыбку и веселый нрав.
Во
время правления султана Сулеймана I — с 1520 по 1566 год — Османская империя
достигла наивысшей точки расцвета. На протяжении двух последних десятилетий
Сулейман находился под влиянием своей фаворитки, ставшей широко известной
европейцам как Ла Росса, или Роксолана. Пленница из Галиции, дочь украинского
священника, она получила от турок прозвище Хуррем, или Смеющаяся, за свою
счастливую улыбку и веселый нрав.
Однако российский историк XVIII века Кондратий Биркин высказывал иное мнение о происхождении фаворитки: «Обманываясь созвучием имен — собственного и нарицательного, некоторые историки видят в Роксолане русскую, так как роксоланами называли в Западной Европе славян, живших по прибрежьям Дона; другие, преимущественно французы, основываясь на комедии Фавара "Три султанши", утверждают, что Роксолана была француженка. То и другое совершенно несправедливо: Роксолана — природная турчанка — была куплена для гарема еще девочкой на невольничьем базаре для прислуги одалыкам, при которых и занимала должность простой рабыни».
И все же большинство историков считает, что Роксолана была славянских корней. Она пленила султана молодостью, красотой и пламенными ласками. Наложница в совершенстве овладела искусством читать мысли Сулеймана. Ей не составило труда избавиться от своей предшественницы Гюльбахар, Весенней розы, которая была вынуждена отправиться в своеобразную ссылку на полгода в Магнесию.
В первые пять лет своего сожительства с Роксоланой Сулейман имел от нее сыновей Магомета, Баязида, Селима, Джехангира и дочь Михримах. Семейство еще более привязало султана к наложнице, и тогда-то Роксолана приступила к осуществлению хитрого замысла — посадить на оттоманский престол сына своего, Баязида, обожаемого ею до безумия, особенно после смерти старшего сына, скончавшегося в юных летах. Интригу свою Роксолана вела с тем умом и тактом, которые свойственны женщине, не сомневающейся в своей власти над мужчиной.
Выдав четырнадцатилетнюю дочь за великого визиря Рустем-пашу, Роксолана тем самым привлекла его на свою сторону и приобрела в нем верного сообщника.
Осенью 1542 года, в отсутствие Сулеймана, находившегося в походе, Роксолана поведала муфтию о том, что мечтает построить огромную мечеть с имаретом ради спасения души своей и в угоду Аллаху. Муфтий, одобряя ее благое намерение, заметил любимице султана, что возведение мечети не может послужить ей во спасение души, так как всякое доброе деяние рабыни вменяется в заслугу ее повелителю, и только свободная женщина властна в своих поступках.
Роксолана знала о существовании этого закона, но сделала вид, что очень огорчена, и в течение нескольких дней была грустна и задумчива. Вернувшийся из похода Сулейман не узнал в ней прежней веселой, страстной красавицы. Когда он попытался выяснить, что произошло, наложница отвечала: «Причина моей тоски — сознание рабства и лишения прав человеческих!»
За улыбку Роксоланы султан готов был обратить в рабство целое царство или, напротив, освободить из-под своего ига тысячи невольников. Он объявил Роксолане, что слагает с нее позорное звание рабыни и дарует ей желанную свободу. Фаворитка улыбнулась и, осыпав поцелуями руку господина, быстро удалилась в свои покои.
Настала ночь. Евнух, посланный султаном за Роксоланой, вернулся один. Когда же она все-таки предстала перед повелителем, возмущенный Сулейман спросил, чем вызвано ее неповиновение?
«А вызвано оно моей покорностью воле Аллаха! — отвечала Роксолана. — Раба исполняет приказания господина, но свободная женщина грешит, разделяя ложе не с законным мужем... Разве ты, высочайший образец для всех правоверных, посмеешь нарушить заповедь пророка?»
Сулейман призадумался и послал за муфтием. Служитель культа одобрил ее действия, сказав, что они вполне согласуются с законом Магомета.
Через два дня Роксолана была объявлена законной супругой своего государя с предоставлением ей всех прав и преимуществ султанши-валиде. За два минувших века подобного не удавалось добиться ни одной наложнице турецких султанов.
Султану в то время было за шестьдесят, Роксолане — около сорока. Ее могущество росло с каждым днем. Она вникала во все тонкости государственных дел, контролировала расходы, интересовалась торговлей сукном и золотом, казнила и миловала. Европейские монархи, отправляя посольства на Восток, посылали гонцов к Хуррем.
Прежде ни одной женщине не дозволялось ночевать в Большом Серале. Роксолана же оставалась там до конца своей жизни, и со временем здесь был построен новый гарем.
Султан при всей своей привязанности к близким готов был жестоко расправиться с любым, кто посягнет на его абсолютную власть. Зная о его подозрительности, Роксолана решила сыграть на этих струнах его натуры. Она была полна решимости обеспечить наследование трона Баязиду.
Но Сулейман видел своим преемником Мустафу, сына Гюльбахар. Он был красивым молодым человеком, «удивительно высокообразованным и рассудительным, и в возрасте, когда можно править». Щедрый духом и мужественный в бою, Мустафа завоевал любовь янычар, которые видели в нем достойного преемника своего отца. Мустафа, занимавший должность правителя Сирии, жил в Диарбекире, обожаемый народом и войсками, неизменно покорный воле своего отца и государя.
В канун третьей персидской кампании Сулейман, вступивший в свое шестидесятилетие, впервые не захотел лично возглавить войско и передал верховное командование Рустем-паше.
Роксолана приближалась к зениту своей власти. По ее приказу Рустем уведомил пашей, чтобы те почаще извещали Сулеймана о добрых делах Мустафы. Эти хвалебные послания Роксолана показывала султану в те минуты, когда в нем особенно проявлялись опасения, а не вздумает ли его сын поднять знамени мятежа? «Как его все любят! — говорила Роксолана. — Его, право, можно назвать не наместником, но государем; паши повинуются ему, как велениям самого султана. Хорошо, что он не употребляет во зло своего влияния, но если бы на его месте был человек лукавый, честолюбивый, тот мог бы...»
Отправив сына своего Джехангира в Диарбекир, где тот сошелся и подружился с Мустафой, Роксолана продолжала восторженно восхвалять своему супругу добродетель его наследника Мустафы тем вкрадчивым голосом и в таких выражениях, которые даже в отцовском сердце возбуждают зависть и ревнивые опасения. Роксолана напомнила Сулейману о том, как Селим сместил собственного отца Баязида. Нет-нет, конечно, кроткий и благородный Мустафа на это не способен, но все-таки...
Вскоре через посланца Рустем-паши стали приходить сообщения, что янычары проявляют беспокойство и требуют, учитывая возраст султана, чтобы их возглавил Мустафа. Мол, Сулейман стал слишком стар, чтобы лично идти походом против врага, и что только великий визирь Рустем-паша противится тому, чтобы Мустафа занял место султана. По словам посланца, Мустафа благосклонно прислушивался к подобным подстрекательским слухам, потому что Рустем-паша умоляет султана ради спасения своего трона немедленно возглавить войско. Это был шанс для Роксоланы. Она продолжала разжигать в сердце супруга ненависть и подозрительность к Мустафе.
Сулейман долго колебался, прежде чем решить судьбу сына. Он попытался получить беспристрастный совет от муфтия, шейх-уль-ислама. Правда, султан говорил ему о некоем рабе, который в отсутствие хозяина начал растаскивать его собственность, замышлять нехорошее против жизни его жены и детей: мало того, задумал убить самого господина. Закончив рассказ, Сулейман спросил: «Какой приговор должен быть вынесен этому рабу?» Муфтий ответил, что «он заслуживает быть замученным до смерти».
В сентябре Сулейман приехал в Эрегли и вызвал Мустафу из Сирии. Друзья умоляли его не подчиняться приказу, но Мустафа не чувствовал за собой вины и с надеждой на отцовскую любовь отправился к Сулейману. Он прибыл без всякой свиты и спокойно вошел в пышный шатер султана. Однако не успел Мустафа и слова сказать, слуги Сулеймана опрокинули его на землю и, набросив шнурок на шею, удушили.
Вслед за Мустафой был умерщвлен его малолетний сын. Вскоре умер и друг Мустафы, Джехангир, сын Роксоланы; от горя — говорят романисты, от яда — гласит история. Кровавые эти события совершились летом 1553 года. Теперь путь Баязиду к престолу был открыт.
Труп Мустафы был выставлен у шатра Сулеймана для прощания с ним войска. Чтобы не вызвать брожения в армии, султан лишил Рустем-пашу поста командующего и других званий и отослал обратно в Стамбул. Но уже через два года после казни его преемника, Ахмед-паши, он вновь был во власти как великий визирь. Разумеется, по настоянию султанши.
Роксолана добилась всего, о чем мечтала. Она обеспечила наследование султаната одним из своих сыновей — Селимом, самым старшим и ее любимцем, и Баязидом, средним, несоизмеримо более достойным преемником. Более того, Баязид был фаворитом янычар, напоминая им своего отца Сулеймана.
Теперь ничто не удерживало ее на этой земле. В 1557 году Роксоланы не стало. Горько оплакивал ее смерть Сулейман. Он не разочаровался в жене ни при ее жизни, ни после ее смерти. Да и кто осмелился бы запятнать память Роксоланы в глазах ее супруга? Она была похоронена в усыпальнице возле мечети Сулеймание.
После смерти Роксоланы султан замкнулся в себе, стал молчаливым. Даже военные триумфы перестали волновать его.
Сулейман ушел в мир иной осенью 1566 года. Он
скончался в своем шатре, возможно, от апоплексического удара, возможно, от
сердечного приступа. На престол взошел Селим.
 Один
из величайших в мировом искусстве художников Рембрандт ван Рейн родился 15 июля
1606 года в Лейдене. Он был восьмым ребенком в семье мельника Харменса Герритса
ван Рейна. Вначале Рембрандт поступил в латинскую школу, а по окончании ее — в
университет. Вскоре он оставляет университет и начинает учиться живописи.
Один
из величайших в мировом искусстве художников Рембрандт ван Рейн родился 15 июля
1606 года в Лейдене. Он был восьмым ребенком в семье мельника Харменса Герритса
ван Рейна. Вначале Рембрандт поступил в латинскую школу, а по окончании ее — в
университет. Вскоре он оставляет университет и начинает учиться живописи.
В 1631 году художник переезжает в Амстердам. Здесь он работает главным образом над портретами. Представители самых разнообразных слоев общества стремились запечатлеть себя.
Саския ван Эйленбург (Эйленбюрх) пришла к нему в дом вместе со своим кузеном Хендриком. Недавно осиротевшая дочь бургомистра приехала посмотреть Амстердам из Фрисландии. Но кузина была отнюдь не похожа на обычную провинциальную красавицу.
Устроившись на высоком стуле, Саския повела себя так непринужденно и весело, что натянутость первых минут вскоре рассеялась. Она была очаровательной, с удовольствием поддерживала любую беседу. И вдруг сама предложила художнику написать ее портрет. Рембрандт согласился.
Рембрандт встречался с Саскией не только на сеансах, но и на вечеринках, увеселительных прогулках с друзьями. Наконец художник решил жениться на ней.
При первой же возможности он отправился в дом пастора Сильвиуса, дядюшки его возлюбленной. В доме Сильвиуса все напоминало ему о том, что девушка, чьей руки он собирался просить, — дочь бургомистра города Лейвардена, а родственники ее занимают видные церковные и университетские кафедры.
Саския не давала о себе знать больше недели. Портрет, единственный предлог, позволявший Рембрандту постоянно видеться с ней, был готов; вечеринки в конце лета тоже прекратились. И вдруг он нашел у себя под дверью записку, в которой госпожа Сильвиус приглашала его посетить их дом в пятницу вечером.
Рембрандт нанес пастору второй визит. Хозяева сидели на парных стульях по обеим сторонам столика. Рембрандт занял место справа от госпожи Сильвиус, а Саския опустилась на скамеечку у ног пастора. Но и на этот раз Рембрандт не решался произнести необходимые слова. Объяснение в любви состоялось в саду, куда его увлекла Саския.
Потом пастор сообщил, что отец оставил Саскии сорок тысяч флоринов. Рембрандт ошеломленно молчал. Даже на четвертую часть этой суммы они с Саскией могли жить в роскоши до конца своих дней.
В день обручения Рембрандт набрасывает портрет невесты. Через год они поженились. Брак ввел Рембрандта в высшие круги амстердамского бюргерства.
В июле, когда они с Саскией находились во Фрисландии, куда после свадьбы уехали погостить у ее замужних сестер, Рембрандт получил известие о смерти своего брата Геррита.
В 1635 году в семье родился первый сын — Рембрантус. Казалось, в первые недели его отец только и знал, что рисовать ребенка. Он был не в силах выразить словами и слишком боялся выразить лаской поразительную силу своей любви к малышу.
Но Рембрантус прожил очень недолго и умер в грудном возрасте. Для Саскии это был страшный удар. Она долго не хотела расставаться с телом сына, гнала от себя всех, не выпуская из рук мертвого ребенка. Несчастная мать ходила с ним по дому, баюкая и называя его всеми нежными именами, которыми она вместе с мужем называла Рембрантуса в первые счастливые дни.
Прошло два года с небольшим — и супругов было не узнать. Здоровые и жизнерадостные, разодетые в шелка и увешанные сверкающими драгоценностями, — вот каковы Рембрандт с женой.
Молодые супруги сняли дорогую квартиру на Ниве Дулен и тратили наследство Саскии на все, что только поражало их воображение, — статую Августа, пейзаж Рейсдала, меха, кружева, жемчуг.
Дела Рембрандта шли успешно, и он покупает большой дом на Бреестрат. Здесь разместилась их огромная коллекция, кстати, довольно необычная: рядом с античными статуями, голландскими и итальянскими картинами, редкими гравюрами в ней соседствовали старые восточные ткани, потертые ковры, латы, шлемы, боевое снаряжение дикарей, чучела животных, неведомые сушеные травы.
Рембрандт сознавал, что, за исключением часов, проводимых у мольберта, жить он может только около Саскии. Только с ней он чувствует себя человеком: любовь — источник жизни, а любит он одну Саскию, и никого больше.
Он неустанно изображал свою жену в картинах, рисунках и офортах. Саския позирует в обычном костюме чинной голландской бюргерши и в фантастических одеждах, преображающих ее в героиню античной или библейской мифологии. Нежной, вечно юной она выглядит на картине «Флора».
В знаменитом «Автопортрете с Саскией на коленях» Рембрандт предстает влюбленным, любимым, радующимся семейному счастью и полностью им довольствующимся.
Памятником любви к Саскии является и один из лучших шедевров Рембрандта — «Даная», которая долгое время представляла собой загадку. Датированная 1636 годом, она вместе с тем в трактовке образа и в живописной манере как бы предвосхищала черты рембрандтовского творчества 1640-х годов. Дело в том, что «Даная » не предназначалась художником для продажи и оставалась в его владении вплоть до распродажи его имущества в 1656 году. Поэтому он смог вновь обратиться к ней через десяток лет после ее написания и в значительной части переделать ее. Рембрандт изменил и черты лица героини, придав ее облику сходство с Гертье Диркс, служанкой, жившей в его доме после смерти Саскии и состоявшей с художником в интимных отношениях. Сейчас лицо Данаи представляет собой сочетание черт обеих близких Рембрандту женщин.
После смерти Рембрантуса Саския еще дважды теряла детей при рождении. Лишь четвертый ребенок, Титус, появившийся на свет в 1641 году, смог пережить трудные годы младенчества. Мальчик был назван этим именем в память покойной Тиции, сестры Саскии.
Счастливый отец приучил себя смотреть на малыша, не рисуя его: карандаш и тушь уже принесли ему однажды несчастье, и он больше не входил с ними в детскую комнату.
Однако постоянные роды оказали пагубное влияние на здоровье Саскии. Появление у художника чисто пейзажных изображений в конце 1630-х годов объясняют иногда тем, что в это время в связи с болезнью жены Рембрандт вместе с ней много бывал за городом. Портретов в 1640-х годах художник пишет сравнительно мало. Преобладают композиции на библейские и евангельские темы. Причем он выбирает те сюжеты, которые дают возможность показать благородные, добрые человеческие чувства — дружбу, материнскую любовь, супружескую привязанность, милосердие.
Саския ван Эйленбург скончалась в 1642 году. Ей было всего тридцать лет. В гробу она выглядела как живая...
В это время Рембрандт работал над знаменитым полотном «Ночной дозор».
В другой картине, датированной этим же трагическим годом, «Прощание Давида с Ионафаном», Рембрандт словно прощается со своей женой. В образе Ионафана без труда узнаются черты лица самого Рембрандта, но постаревшего, ставшего вдруг непривычно серьезным и подавленным. А женственный Давид, с разметавшимися по плечам белокурыми волосами, напоминает о Саскии. Художник хочет забыться в романтической мечте, хочет верить в возможность нового счастья.
Годы приносят Рембрандту все новые жизненные испытания. Неуклонно ухудшается его материальное положение. В 1656 году в результате наступившего разорения продается с аукциона за долги его имущество — дом и великолепные коллекции, собранные с любовью и тонким пониманием, художник был вынужден переехать в один из беднейших кварталов Амстердама.
В 1663 году умирает его вторая супруга — Хендрикье Стоффельс, а в 1668 году Рембрандт теряет и своего единственного сына Титуса. Художник остается с юной дочерью от Хендрикье — Корнелией.
Рембрандт скончался 4 октября 1669 года. Смерть его прошла почти
незаметно, о кончине великого художника можно узнать лишь по краткой записи в
погребальной книге церкви, при которой он был похоронен...
 Многое
в истории Марты Скавронской, взошедшей на российский престол под именем
Екатерины I, остается неясным. Она родилась 5 апреля 1684 года. О ее
происхождении ходили разноречивые слухи. Согласно одному из них, мать Марты была
крестьянкой и рано умерла. Девочку взял на воспитание пастор Глюк. По другой
версии, Марта была дочерью лифляндского дворянина и его крепостной служанки.
Третьи считали ее уроженкой Швеции. Достоверным является лишь факт, что девочка,
рано оставшись без родителей, воспитывалась в семье пастора Глюка, где выполняла
обязанности служанки. Детство и юность провела в лифляндском городишке
Мариенбурге. Образования она не получила, читать и писать не умела.
Многое
в истории Марты Скавронской, взошедшей на российский престол под именем
Екатерины I, остается неясным. Она родилась 5 апреля 1684 года. О ее
происхождении ходили разноречивые слухи. Согласно одному из них, мать Марты была
крестьянкой и рано умерла. Девочку взял на воспитание пастор Глюк. По другой
версии, Марта была дочерью лифляндского дворянина и его крепостной служанки.
Третьи считали ее уроженкой Швеции. Достоверным является лишь факт, что девочка,
рано оставшись без родителей, воспитывалась в семье пастора Глюка, где выполняла
обязанности служанки. Детство и юность провела в лифляндском городишке
Мариенбурге. Образования она не получила, читать и писать не умела.
В семнадцать лет Марта обручилась со шведским драгуном, которого во время брачного пира срочно вызвали в Ригу. При взятии русскими Мариенбурга она попала в плен к фельдмаршалу Шереметеву, у того красавицу выпросил Меншиков, у последнего ее заметил Петр. Случилось это в 1703 году.
Личная жизнь Петра не складывалась. Распался его брак с Евдокией Лопухиной. Драматично завершился и многолетний роман царя с Анной Монс. Тут-то и появилась Марта, которая приворожила царя.
Она приняла православие и стала Екатериной. Через два года у нее уже было двое незаконнорожденных сыновей Петра. Царь очень привязался к этой жизнерадостной и страстной женщине и, не желая больше делить ее с Меншиковым, сделал Екатерину «своим сердечным другом». Она создала в доме уют, тихую и желанную пристань для отдохновения от трудов и печалей.
Письма царя к ней достаточно красноречиво отражают взлет его привязанности и уважения. «Для Бога, приезжайте скорей, а ежели за чем невозможно скоро быть, отпишите, понеже не без печали мне в том, что ни слышу, ни вижу вас», — пишет он из Петербурга.
5 января 1709 года в преддверии генерального сражения Петр составляет на всякий случай записку: в случае его смерти выдать Катерине с дочерью три тысячи рублей. Сумма для того времени — немалая, особенно учитывая бережливость царя. Переезжая из одного места в другое, Петр не забывает послать своей Катерине, правда, не очень часто, какую-нибудь безделушку, гостинец, вроде часов «новой моды» (со стеклами от пыли) или бутылку вина венгерского, чтобы не грустила...
Перед Прутским походом 6 марта 1711 года совершилось тайное венчание царя — у него появилась законная супруга Екатерина Алексеевна.
Она нередко ездила с Петром во время походов. Так случилось, например, в пору Прутского похода. К землям Молдавии царь отправился два года спустя после Полтавской победы. На этот раз стойкость и мужество солдат, изворотливость дипломатов чудом спасли и армию, и самого Петра. Сыграла свою роль и Катерина, находившаяся с ним в окруженном лагере: ее драгоценности, как передавали из уст в уста, преподнесли знатным туркам, и это тоже способствовало заключению мира.
19 февраля 1712 года Петр решил устроить публичные торжества, посвященные своему бракосочетанию с Катериной. При подъезде к дому новобрачных встречали салютом с Петропавловской и Адмиралтейской крепостей. С 6 до 11 вечера были танцы, а затем «пущали ракеты и бросали бомбы и план был зажжен, на котором были выкладены фитилями литеры латинские «Виват...».
Екатерина обзавелась своим двором, стала принимать иностранных послов, давать приемы и встречаться с европейскими монархами на равных.
С 1704 по 1723 год Екатерина родила Петру одиннадцать детей, большинство которых умерло еще в младенчестве: Павел (1704 - 1707), Петр (1705 - 1707), Екатерина (1706 - 1708), Наталья (1713 - 1715), Маргарита (1714 -1715), Павел (1717 -1 717). Горше всего была потеря наследника престола четырехлетнего «шишечки», умершего 25 апреля 1719 года. За ним последовали еще двое — Петр (1723) и Наталья (1725). Из одиннадцати детей в живых осталось только двое, к тому же старшая из дочерей, Анна, ненадолго пережила родителей — скончалась в 1728 году.
Частые беременности не мешали Екатерине сопровождать государя во всех его путешествиях. Она была настоящей офицерской женой, способной совершать долгие походы, — целый день скакать на лошади, спать на жесткой постели и подолгу жить в палатке. Царица была высокого роста, почти под стать самому Петру, и имела крепкое здоровье. Да и силой природа ее тоже не обидела.
Суровый деспот, человек с железным характером, Петр в своих отношениях с Катериной был неузнаваем: посылал к ней письмо за письмом, одно другого нежнее, и каждое — полное любви и предупредительной заботливости, замечает историк Семевский. Сохранилось более сотни писем Екатерины и Петра. Державный супруг в письмах обращается к ней: «Катеринушка, друг мой, здравствуй!», «Катеринушка, друг мой сердешнинькой, здравствуй!»
Когда царь находился в состоянии ярости, никто не решался подойти к нему. Кажется, она одна владела тайной успокаивать царя, могла без страха смотреть в его искаженные гневом глаза. С ролью супруги царя она справлялась легко и непринужденно. «Царь, — писал современный наблюдатель, — не мог надивиться ее способности и умению превращаться, как он выражался, в императрицу, не забывая, что она не родилась ею. Они часто путешествовали вместе, но всегда в отдельных поездах, отличавшихся — один величественностью своей простоты, другой — своей роскошью. Он любил видеть ее всюду. Не было военного смотра, спуска корабля, церемонии или праздника, при которых бы она не являлась».
Екатерина всегда заступалась за тех, на кого грозный и скорый на расправу царь обрушивал свой гнев, и вскоре научилась извлекать из этих своих услуг немалую выгоду. Для того чтобы придворному избежать ссылки или смерти, надо было явиться в покои к Екатерине с мешком денег в руках.
Как и раньше, она была полна заботы по отношению к супругу, посылает ему, все чаще болевшему, лекарства. А он сетует на недомогания, томится вдали от нее («только без вас скучно»). Екатерина часто упоминает в своих письмах мужу о маленьком Петре, называя его «санкт-петербургским хозяином».
26 июня 1718 года скончался Алексей — сын Петра от первого брака. Смерть его не разрешила волновавшего царя вопроса о своем преемнике. Дело в том, что вслед за Алексеем в 1719 году умер и сын царя от брака с Екатериной — четырехлетний Петр Петрович, объявленный наследником. Утрата эта, несомненно, отразилась на самочувствии царя, ибо, как записал современник, «по мнению многих, царица вследствие полноты вряд ли в состоянии будет родить другого царевича».
Переезды, без труда переносимые лет десять — пятнадцать назад, теперь утомляли царя, да и его супругу тянуло к домашнему уюту. Взаимное стремление быть вместе достаточно четко высвечивает переписка.
После Ништадтского мира 1721 года Россия закрепила за собой Восточную Прибалтику. Сенат преподнес Петру титул императора всероссийского, 11етра Великого, Отца Отечества. В следующем году Екатерина сопровождала его в Каспийском походе.
В письмах той поры он называет ее уже государыней императрицей. Петр, очевидно, все чаще думает о «Катеринушке» как о своей преемнице. В Манифесте 1723 года он обосновывал права супруги на титул императрицы как его помощницы, участвовавшей во всех его делах, терпевшей лишения походной жизни.
В феврале 1724 года Петр вместе с Екатериной отправился принимать курс лечения марциальными водами, а в марте весь двор, сенаторы, генералитет, президенты коллегий, иностранные дипломаты по последнему санному пути отправились в Москву, чтобы участвовать в церемонии коронации Екатерины. Для нее была изготовлена мантия из парчи с вышитым на ней двуглавым орлом, подбитая горностаем, из Парижа привезли роскошную карету.
Церемония коронации была проведена 7 мая 1724 года в Успенском соборе. Петр был одет в парадный костюм: голубого цвета кафтан, шитый серебром, красные шелковые чулки и шляпу с белым пером. Артиллерийские залпы возвестили, что царь самолично возложил корону на голову стоявшей на коленях Екатерины, а придворные дамы прикрепили мантию. В Грановитой палате состоялся торжественный обед, на котором слово в честь императрицы произнес Феофан Прокопович.
На следующий день императрица принимала поздравления. «В числе поздравителей находился и сам император». Он, как писал Берхгольц, в соответствии со своим чином полковника Преображенского полка и общевойскового генерал-лейтенанта «по порядку старшинства принес свое поздравление императрице, поцеловал ее руку и в губы».
8 ноября 1724 года по приказу царя был арестован 30-летний щеголь Монс, брат Анны Монс, бывшей фаворитки царя. Вилим Монс занимал должность камергера Екатерины и одновременно заведовал ее вотчинной канцелярией.
В месяцы, предшествовавшие аресту Монса, между Петром и Екатериной сохранялись отношения взаимной нежности. Петр обращался к ней в письмах, как и прежде: «Катеринушка, друг мой сердешненькой, здравствуй!» В тон ему Екатерина отвечала: «Друг мой сердешненькой, господин адмирал, здравствуй на множество лет».
Вилим Монс, человек веселый, обходительный и услужливый, был с 1716 года ближайшим другом императрицы. Его успех у Екатерины не был секретом в Петербурге, и вскоре покровительства камергера императрицы стали искать самые высокопоставленные лица: министры, генералы, посланники зарубежных государств. Монс никогда никому не отказывал, за что и получил репутацию доброжелательного человека.
Петр долгое время не подозревал об этом увлечении императрицы. Но в конце концов узнал о нем из письма анонимного автора, который писал, что Монс задумал отравить царя, дабы самому вместе с императрицей править государством.
После ареста Монс, едва увидев орудия пыток, тут же во всем признался. Петр был настолько взбешен этими признаниями, что едва не убил собственных дочерей. В гневе Петр уничтожает подписанное на имя Екатерины завещание, он мрачен и беспощаден.
Для соблюдения приличий Петр выдвинул против Монса обвинение лишь во мздоимстве. Скорый суд нашел его виновным в злоупотреблении доверием императрицы — за взятки он добивался от нее милостей просителям. 16 ноября палач отсек одним ударом голову Монсу и тут же насадил на шест.
Петр строго запретил всем коллегиям принимать от государыни какие-либо приказания и рекомендации, а на личные средства императрицы был наложен арест.
После открывшегося романа с Монсом отношения между Петром и Екатериной стали настолько натянутыми, что они совершенно не общались друг с другом. Только в начале января 1725 года их дочери Елизавете (будущей императрице) удалось помирить отца с матерью.
Вскоре Петр неожиданно слег в постель. Лекари ничего не могли поделать. Во время болезни Петра императрица не отходила от постели умирающего, ухаживала за ним, подавала еду и лекарство. 28 января 1725 года в пять утра Петр I умер.
Екатерина I не умела ни читать, ни писать. Однако в течение трех месяцев обучения грамоте она научилась подписывать государственные бумаги. Этим, собственно говоря, и ограничилась ее государственная деятельность.
Императрица, в сущности, делами не занималась: праздники, пиры, прогулки занимали все ее время. Решение всех важных государственных дел было поручено Меншикову и созданному им Верховному тайному совету.
Царствование Екатерины I было коротким. Она умерла 6 мая 1727 года.
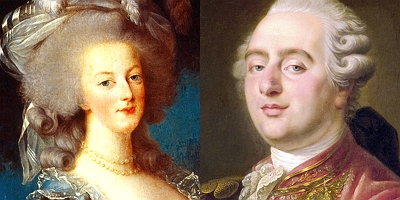 19
апреля 1770 года 16-летний дофин Людовик Август женился на 14-летней Марии
Антуанетте, своенравной и умной дочери Марии Терезии и Франца I Австрийских.
Супруга будущего короля Франции была похожа на обиженного ребенка, несмотря на
величественную осанку и изысканно уложенные вокруг диадемы светлые волосы.
19
апреля 1770 года 16-летний дофин Людовик Август женился на 14-летней Марии
Антуанетте, своенравной и умной дочери Марии Терезии и Франца I Австрийских.
Супруга будущего короля Франции была похожа на обиженного ребенка, несмотря на
величественную осанку и изысканно уложенные вокруг диадемы светлые волосы.
Папский нунций Висконти служил мессу в стенах готического храма под звуки величественных гимнов.
Свадебные торжества омрачились двумя жуткими происшествиями, которые и во Франции, и за ее пределами породили суеверное предчувствие, что новобрачных ждет беда. Во время венчания в Версале придворные, хлынув к алтарю, сбили с ног и насмерть задавили многих (по некоторым сведениям, сотню) швейцарских гвардейцев. А фейерверк на площади Людовика XV, ставшей через 23 года местом казни супругов, завершился страшной давкой — обезумевшие парижане опрокидывали экипажи, топтали друг друга. По одним данным, на этом народном «гулянии» погибли 333 человека, а по другим — более тысячи.
Мария Антуанетта чувствовала себя в общем счастливой в первые годы супружества. О политике она еще не думала. Это был веселый, живой ребенок. В ее распоряжении находилось только несколько книг, учение шло медленно. Она сама не выражала большого желания чему-нибудь серьезно учиться и немало времени проводила вместе с подругами и друзьями, участвуя в постановке пьес во дворце. Единственным слушателем этих пьес являлся ее муж Людовик. Постановка «Ифигении» (в апреле 1774 года) доставила ей неслыханное удовольствие. Успех вскружил голову, и она устроила целый ряд празднеств. Супруга дофина была счастлива.
Неожиданная болезнь Людовика XV приводит к его кончине 10 мая 1774 года. Народ возлагал большие надежды на юного короля. «Мы начали править слишком молодыми», — замечает Людовик XVI своей венценосной супруге.
Мария Антуанетта чувствует, что вот-вот совершится нечто серьезное, возможно роковое. Она пишет матери: «Да хранит нас Бог! Что с нами будет? Дофин и я, мы очень боимся, что нам в таком юном возрасте надо будет управлять страной. О, матушка, не скупитесь на советы вашим несчастным детям».
Большинство французов наивно и трогательно обожали своего монарха, связывая с ним и его наследниками самые светлые надежды.
Людовик XVI был трагической фигурой: исполненный доброй воли, он руководствовался законами христианства. Он хотел избежать любого применения силы и кровопролития, но из-за своей уступчивости и слабости не смог справиться с исключительными трудностями управления страной.
А вот его супругу, юную австриячку, французы невзлюбили, полагая, что будущий король попадет под ее каблучок, а это неблагоприятно скажется на делах государства. Выяснилось, что Мария Антуанетта капризна и упряма, что она недопустимо много тратит на наряды и драгоценности, на бесчисленные увеселения и пиршества, что она покровительствует консерваторам и самым ярым защитникам сословных привилегий. К тому же у нее так долго не было детей. Только в 1778 году, через восемь лет после свадьбы, она родила дочь, в 1781-м — первого, а в 1785-м — второго сына.
Считалось, что Мария Антуанетта обладает невероятной властью, да и она сама производила впечатление влиятельной королевы, тогда как истинное ее влияние оставалось до сих пор весьма слабым. Королева и не мечтала о том, чтобы править, как это представляли даже самые серьезные наблюдатели, она проявляла лишь одно желание — жить в свое удовольствие.
Над Францией уже клубились революционные тучи. Борьба между правительством и парламентом начала принимать острый характер. Народ был недоволен, и, чтобы заглушить его грозный голос, правительство решилось на государственный переворот, дабы одним ударом сломить оппозицию.
Положение короля оказалось затруднительным с самого начала. На его высочайшее имя посылались многочисленные петиции, подписанные политическими деятелями. В них требовались реформы и говорилось, что, если последние не будут проведены, королевская власть погибнет. Нервы Людовика на пределе.
В это тяжелое для Марии Антуанетты время ее постигает новое несчастье: умирает старший сын, а потом и отец. Это подействовало на королеву угнетающе. Ей всего 34 года, но волосы уже начинают седеть. Кто мог знать в апреле 1770 года, когда она, веселая, жизнерадостная и счастливая, впервые въезжала в Париж, что ее ожидает? Но нужно было принимать быстрые, решительные меры. И ей приходит в голову смелый план — войти в соглашение с руководителями оппозиции. Она же первая намечает Мирабо, этого народного кумира, и Мирабо вполне отдается королеве, восхищенный ее умом, энергией, предприимчивостью.
«Среди приближенных короля есть только один мужчина, и этот мужчина — его жена!» — сказал про нее Мирабо. Королева составляла документы, которые исправлял Мирабо, она пыталась всеми силами удержать на расстоянии грозный призрак революции. К несчастью для нее, болезнь унесла Мирабо в могилу. Рухнула последняя надежда.
С этой минуты началась агония Марии Антуанетты, а вместе с этим и агония королевской власти во Франции. Император Леопольд несколько раз советовал королеве бежать, но она каждый раз отвергала его предложения.
Единственное, чего она хочет, — это покинуть Париж с семьей и найти безопасное место где-нибудь во Франции. Наконец она решается на бегство. Не она составила план. Она только уступила. И тем не менее, когда план не удался, когда венценосную чету арестовали и доставили обратно в Париж, все стали указывать на Марию Антуанетту как на виновницу бегства. Она была жертвой, искупавшей чужие грехи.
В 1791 году королева писала сестре Марии Христине: «Я страдаю днем и ночью, с каждой минутой меняюсь в лице. Мои прекрасные дни прошли, если бы у меня не было детей, мне бы хотелось мирно почить в гробе. Они убьют меня; после моей смерти защищай меня всеми силами... Я всегда заслуживала твоего уважения и уважения всех справедливых людей всех стран...»
В Париже король был в тревоге за себя и своих близких. Правда, еще 14 июля 1790 года во время праздника Федерации он произнес клятву на верность народу и закону, вызвав шумное одобрение всех присутствующих и доказав, что его популярность еще достаточно велика. Король мечтал восстановить во Франции — пусть даже с помощью войск, в том числе иностранных, — многие прежние порядки, укрепить свою власть.
В ночь на 21 июня 1791 года, подстрекаемый королевой, он вместе с семьей во второй раз бежит из Парижа в Мец, где находилась армия генерала Буалле, верная Бурбонам. Но и здесь его ждала неудача — в местечке Варенн переодетого короля узнал почтовый чиновник. Под конвоем Национальной гвардии, сквозь враждебные толпы возвращались беглецы в столицу. Законодательное собрание, ставшее преемником Учредительного, отстранило короля от власти, но вскоре восстановило на троне, сохранив за ним лишь титул и право отлагательного вето.
...В ночь на 10 августа 1792 года Париж не спал. Надрывно звонили колокола, сухо трещали выстрелы, грозно ухали пушки. Толпы вооруженных революционеров штурмовали Лувр. Восстание удалось. Дворцовые чертоги заполнили ликующие победители. Королевская семья была взята под стражу, король был лишен трона и вместе с семьей заключен сначала в Люксембургский дворец, а затем в одну из башен Тампля.
Необычному арестанту отвели помещение на третьем этаже с прихожей, столовой, спальней и комнатой для слуги. Его близких разместили на четвертом этаже.
Отставной государь давал семилетнему сыну уроки географии и латинского языка, играл с желающими в шахматы, гулял по монастырскому двору. При его встречах с Марией Антуанеттой всегда присутствовали два офицера стражи. Обедали всем семейством в столовой на третьем этаже.
21 сентября Людовика XVI ожидал еще один удар. Вновь избранное Законодательное собрание — Конвент — приняло декрет о ликвидации во Франции монархии.
20 ноября в Лувре был обнаружен секретный сейф, в котором хранились документы, свидетельствовавшие о тайных связях короля с недругами Франции, в частности с государями враждебных ей стран. Понятно, что в республике, решавшей судьбу бывшего монарха и его семьи, эти связи были объявлены преступными.
Процесс начался уже 11 декабря в Конвенте. Король держался с большим достоинством. Не соглашался ни с одним из предъявленных ему обвинений. При поименном голосовании недавний суверен был признан виновным и приговорен к смерти.
Людовику позволили попрощаться с семьей. За день до казни он долго молился; ночь провел довольно спокойно и даже спал. Наутро его духовник аббат де Фирмон отслужил в спальне узника мессу. Затем последний, недолгий, но такой страшный путь от Тампля до Площади революции в простом экипаже с двумя стражниками и духовником. На эшафот Людовик XVI взошел мужественно и твердо, к гильотине приблизился, не дрогнув. Он пытался сказать, что невиновен, что прощает своих врагов, но голос его заглушил барабанный бой, а через несколько мгновений его жизнь навеки оборвал нож гильотины. Так окончил жизнь Людовик XVI — единственный во французской истории казненный король, за 15 лет правления которого не был убит ни один политический заключенный.
Мария Антуанетта уже больше не королева. Она «госпожа Капет», как язвительно называют ее в народе. Вскоре ее разлучают с Людовиком, а 21 января она получает его венчальное кольцо — безмолвный знак последнего прощания. 4 июля у нее был взят любимый сын, а вскоре отнята и дочь Мария Тереза, впоследствии герцогиня Ангулемская. Затем ее доставляют в жалкую тюрьму Консьержери и начинается процесс. Королева спокойно и гордо держится на суде.
Мария Антуанетта с презрением отвечает на обвинение Гебера в
безнравственных поступках, гордо и равнодушно выслушивает смертный приговор. И
когда 6 октября 1793 года она предприняла свое последнее путешествие — к
гильотине, лицо ее говорило о полном душевном спокойствии и примирении с
судьбой. С уст ее сорвались трогательные последние слова: «Боже, просвети и
тронь сердца моих палачей! Прощайте навсегда, дети, иду к вашему отцу...»
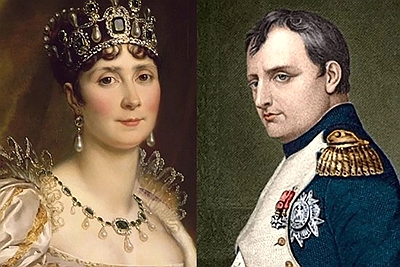 Французский
государственный деятель и полководец, император Наполеон Бонапарт родился в 1769
году в Аяччо (Корсика) в семье адвоката. Он избрал для себя карьеру военного и
весьма в этом преуспел. В 24 года Бонапарт получает чин бригадного генерала, и,
когда потребовалось подавить роялистский мятеж, Директория прибегает к его
услугам. С этой задачей Бонапарт успешно справляется.
Французский
государственный деятель и полководец, император Наполеон Бонапарт родился в 1769
году в Аяччо (Корсика) в семье адвоката. Он избрал для себя карьеру военного и
весьма в этом преуспел. В 24 года Бонапарт получает чин бригадного генерала, и,
когда потребовалось подавить роялистский мятеж, Директория прибегает к его
услугам. С этой задачей Бонапарт успешно справляется.
Молодой генерал быстро осознал: чтобы заручиться поддержкой одного из «королей Республики» — Барраса, необходимо добиться расположения его знаменитой любовницы мадам Тальен, а для этого следует появиться в свете. И вот сентябрьским вечером 1795 года он отправляется в салон той, кого называли «Термидорской Богоматерью». Именно здесь он впервые увидел другую королеву парижских салонов — нежную и страстную Жозефину Богарне и сразу же без памяти влюбился в нее.
Жозефина — так ее назовет Бонапарт, а крещена она как Мари Жозефа Роза — уже многое повидала в жизни. Ей тридцать два года, у нее двое детей — сын Евгений и дочь Гортензия. Креолка с Мартиники, выданная замуж в шестнадцать лет за виконта Богарне, приехала в Париж в 1779 году. Муж очень скоро покинул ее, и Жозефина широко пользовалась предоставленной ей свободой. Она путешествовала, жила на Мартинике, а потом, уже в дни Революции, произошло примирение с мужем. Однако во время Террора Богарне попал под гильотину, а Жозефина была арестована.
Падение режима Робеспьера спасает ей жизнь. В тюрьме, в ожидании казни, она знакомится с другой аристократкой, Терезой де Фонтене, будущей женой Тальена, одного из руководителей Директории.
Оказавшись на свободе, Тереза и Жозефина погружаются в пучину развлечений. Тереза вводит подругу в дом другого руководителя Директории, Барраса, с которым их вскоре связывают более чем нежные отношения.
Наполеон стремится показать себя во всем блеске. Жозефина Богарне присматривается к нему. Разговор его так остроумен, что она невольно забывает о том, как жалко он одет.
28 октября Бонапарт получает письмо от «вдовы Богарне». «Вы совсем не навещаете любящего вас друга, — упрекает его Жозефина. — Совершенно забыли его, и напрасно, потому что друг этот вам искренне и нежно предан. Приходите завтра ко мне обедать».
Наполеон отвечает на приглашение возлюбленной. Бурное свидание. Наконец-то она принадлежит ему.
Едва расставшись с Жозефиной, он сейчас же пишет ей письмо: «Мое пробуждение полно тобой. Твой облик и пьянящий вечер, проведенный с тобой вчера, не оставляют в покое мои чувства. Нежная, несравненная Жозефина! Что за странные вещи творите Вы с моим сердцем! Стоит мне представить, что Вы сердитесь, или грустите, или встревожены, как душа разрывается от боли, и Ваш друг не знает более покоя. Не находит она облегчения и тогда, когда, отдавшись во власть покорившего меня глубокого чувства, я приникаю к Вашим губам и к Вашему сердцу, но черпаю в них лишь пожирающее меня пламя...»
7 февраля 1796 года они сообщают о предстоящем бракосочетании, а уже 2 марта состоялось официальное назначение молодого генерала на пост главнокомандующего армией, которой предстояло действовать в Италии. «Приданое Барраса», — усмехались завистники.
9 марта назначен день свадьбы.
В сопровождении одного из адъютантов, Ле Маруа, Наполеон торопливо отправляется в путь. Он уже преподнес Жозефине маленькое кольцо с сапфирами в качестве свадебного подарка. Внутри кольца выгравировано: «Это судьба».
Когда он входит в здание мэрии, уже 10 часов. Его давно ждут. По брачному контракту жениху оказалось двадцать восемь лет, а невесте — двадцать девять (на самом деле Бонапарту двадцать шесть лет, Жозефине — тридцать два). Этот брак был для «маленького генерала» хорошей сделкой. Женившись на вдове Богарне, он вошел в высшее общество, которое привлекало его блеском и элегантностью.
Спустя два дня он покидает ее и уезжает в армию. Итальянская весна — счастливейшее время в жизни Бонапарта. Он удачлив на войне, он верит, что удачлив и в любви. В Париже его ждет жена, которой он каждый день отправляет по несколько страстных писем.
Разлука с Жозефиной наполняет его невыразимой мукой. После каждой победы его охватывает желание броситься в Париж и потребовать, чтобы она следовала за ним.
Но вдруг через какое-то время тон писем меняется.
«Настанет день, когда ты меня разлюбишь; скажи мне об этом. Тогда я хотя бы смогу с достоинством встретить свое горе. Правдивость, искренность без границ... Жозефина, Жозефина! Вспомни, о чем я не раз говорил тебе. Природа наделила меня душою сильной и решительной, тебя же она соткала из газа и кружев. Или ты меня разлюбила?.. Прощай же, прощай, я ложусь спать без тебя и без тебя проведу эту ночь. Прошу тебя, не лишай меня сна. Вот уже которую ночь мне кажется, что я сжимаю тебя в объятиях. Сладкий сон, но, увы, всего лишь сон...»
Только Жозефина могла заполнить одинокие ночи, проведенные им в Милане. На ее портрете треснуло стекло. Дурной знак. Она либо больна, либо изменяет ему.
«Если бы ты меня любила, то писала бы мне дважды в день. Впрочем, тебе легче с 10 часов утра и до часу ночи болтать с теми ничтожествами, что заявляются к тебе с визитом, выслушивать их глупый вздор. В краях, где существует такая вещь, как нравственность, в 10 часов вечера все порядочные люди уже ложатся спать или пишут своим мужьям, думают о том, что живут ради них. Прощай, Жозефина. Ты — чудовище, понимать которое я отказываюсь».
Ревность буквально пожирает его. Ему доносят, что Жозефина, которую отныне величают «Богоматерью побед», обедает у Барраса. Что Мюрат и Жюно — его собственные адъютанты, отправленные им в Париж, чтобы поторопить Жозефину с отъездом, — стали ее любовниками. Что она повсюду таскает за собой лейтенанта Ипполита Шарля...
Никакие отговорки больше не помогали, и Жозефина поехала к нему. Она ждала его в Милане, он примчался на два дня — два дня сердечных излияний, любви, страстных ласк. Потом они снова оказались в разлуке, его армия была на грани полного разгрома, а он среди приказов каждый день писал длинное любовное письмо.
Отправляясь весной 1798 года в Египет, Бонапарт условился с Жозефиной, что, как только завоюет эту страну, жена приедет к нему. Но уже в пути беспокойство охватило его. Он начал ее подозревать, расспрашивал о жене друзей, которым доверял. Как только у Бонапарта открывались глаза, как только иллюзии рассеивались, он начинал подумывать о разводе и решил не отказывать себе в развлечениях. При армии были женщины-европейки. Одна из них стала его любовницей.
Вернувшись во Францию, Наполеон, встреченный народом с восторгом, хотел развестись с Жозефиной. Но эта женщина поняла: разрыв с Бонапартом лишит ее всего.
Жозефина плакала, колотила в его дверь. Через час добрая служанка Агата, которая тоже рыдала на лестнице, с другой стороны двери, решила позвать Гортензию и Евгения, чтобы они попробовали смягчить Бонапарта, и они, заливаясь слезами, стали умолять его: «Не покидайте нашу мать! Она умрет, и мы, которых эшафот в детстве лишил отца, сразу лишимся и матери, и второго отца, посланного нам Провидением!»
Тогда Бонапарт открыл дверь. Бледный, с горящими глазами, он раскрыл объятия Жозефине, которая устремилась к нему.
Бонапарт простил жену окончательно и великодушно. Он оплатил все ее долги — более двух миллионов, и мадам Бонапарт понимала, что такая щедрость и положение в обществе, дарованные ей мужем, стоят того, чтобы вести себя безукоризненно.
По мере того как усиливалось могущество Бонапарта, количество просительниц и честолюбивых интриганок становилось все больше, всех их не перечесть. Наполеон был в расцвете своей славы, умственных и физических сил, мужской привлекательности и темперамента. Он не искал любовных приключений, но и не избегал их. Теперь уже Жозефина ревнует супруга.
Она понимает, что ей уже не удастся родить Наполеону ребенка, и боится, что тот из-за этого разведется с ней. Вот почему она так активно берется за устройство брака своей дочери от первого брака Гортензии с братом Наполеона Луи. Франция еще республика, Наполеон только консул, но Жозефина предчувствует, что восхождение к власти еще не завершено. Она вспоминает предсказание собственной судьбы, сделанное ей еще на Мартинике: «Ты выйдешь замуж за сверхчеловека и взойдешь на трон». Но трону потребуется наследник.
В 1804 году Бонапарт коронован императором французов. Как следует из решения сената, «управление республикой доверяется императору Наполеону». Решение сената также одобрено плебисцитом.
Одновременно императрицей коронуется Жозефина. В канун церемонии она раскрывает папе римскому страшную тайну — ее брак с Наполеоном не освящен Церковью. Однако Бонапарт так и не сделает этого шага. Да, он по-прежнему ей предан. Но Жозефина никогда не подарит ему наследника...
Во время пребывания в Польше начался один из самых пылких и нежных романов Наполеона с Марией Валевской. Жена богатого старика, молодая красивая полька родила Бонапарту сына, которому было пожаловано звание графа империи.
О том, что Бонапарт решил развестись с ней, Жозефина узнала в октябре 1807 года от министра полиции Фуше.
Но пройдет еще два года, прежде чем император объявит той, которую некогда так любил, что должен покинуть ее. Жозефина упала на ковер в нервном припадке.
Когда она успокоилась, начался торг. Жозефина требовала у Бонапарта три замка — Елисейский дворец в Париже, Мальмезон в предместье столицы и замок в провинции Наварра, а также оплату всех своих долгов — приблизительно четыре миллиона франков. Небольшой спор возник при обсуждении ежегодной ренты. Вначале Наполеон предложил миллион, но, увидев лицо Жозефины, удвоил сумму, после чего она гордо ответила: «Три миллиона, сударь». От себя великодушный Бонапарт преподнес ей самый бесценный подарок того времени — Жозефина сохранила за собой титул императрицы.
После развода (15 декабря 1807 года) Бонапарт постоянно интересовался ею, но встречался с ней только на людях, словно боялся, что эта самая непоколебимая, самая властная и слепая любовь снова вспыхнет в нем с прежней силой.
Император из династических соображений отказался от намерений связать судьбу с преданной ему Валевской. В 1809 году он заключил брак с дочерью австрийского императора Марией Луизой.
Долгие годы Наполеон продолжал посылать Жозефине письма, в которых без конца интересовался всем, чем жила его отвергнутая возлюбленная и жена.
Ее последней победой станет император Александр I, который, вступив в Париж в 1814 году, посещает Жозефину в ее дворце Мальмезон. Александр настолько пленяется пятидесятилетней императрицей, что обещает ей свое покровительство и сохранение всех ее привилегий. Но свидание с Александром становится роковым — во время прогулки с ним по парку Жозефина простужается. В разгар торжеств по случаю вступления союзников в Париж Жозефина умирает от воспаления легких.
Наполеон Бонапарт был сослан на остров Святой Елены, где он
прожил свои последние дни. Перед смертью он прошептал имя единственной женщины,
которую любил: «Жозефина...»
 Волконский
согласился на условия Раевских, о чем позднее сожалел. Свидание состоялось 22
апреля в доме коменданта крепости и в его присутствии.
Волконский
согласился на условия Раевских, о чем позднее сожалел. Свидание состоялось 22
апреля в доме коменданта крепости и в его присутствии.
23 апреля она сообщает мужу: «Я уезжаю завтра — раз ты этого желаешь» и возвращается к сыну в Александрию, имение Браницких близ Белой Церкви.
Волконский был осужден к 15 годам каторги и дальнейшему поселению. Узнав об этом от брата, Мария Николаевна сразу объявила, что последует за мужем. Она сознавала, что ей придется разлучиться с сыном, правда, как тогда думала, лишь на время, на один год, после чего вернется за ним.
В октябре Сергей Волконский был доставлен в Благодатский рудник Нерчинских горных заводов. Декабристам приходилось работать в кандалах в тесных шахтах. Волконский не скрывал в письмах тех трудностей, которые возникнут перед ней, если она решится отправиться в Сибирь.
Однако Марию Николаевну ничто не могло остановить. Она заложила свои бриллианты, заплатила некоторые долги князя и отправила государю письмо, прося разрешения следовать за мужем. Такое разрешение было получено 21 декабря 1826 года.
Волконская долго не решалась сказать отцу, что назначает его опекуном Николиньки. При расставании генерал Раевский благословил дочь и отвернулся, не в силах вымолвить ни слова. Она смотрела на него и думала: «Все кончено, больше я его не увижу, я умерла для семьи».
29 декабря Волконская покинула Москву. Путь был нелегок — 6 тысяч верст. Дважды по приказанию императора Николая I пытались вернуть ее с дороги: первый раз в Казани, второй — в Иркутске, где гражданский губернатор Цейдлер делал все возможное, чтобы отговорить княгиню от дальнейшего следования. Однако старания его оказались тщетными. Губернатор взял с нее подписку, в которой среди прочего сообщалось: «Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, сделается естественно причастной его судьбе и потеряет прежнее звание, то есть будет уже признаваема не иначе, как женою ссыльно-каторжного».
Долгожданная встреча произошла 12 февраля. «В первую минуту я ничего не разглядела, так как там было темно, — пишет Мария Волконская, — открыли маленькую дверь налево, и я поднялась в отделение мужа. Сергей бросился ко мне; бряцание его цепей поразило меня: я не знала, что он был в кандалах. Суровость этого заточения дала мне понятие о степени его страданий. Вид его кандалов так воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом — его самого».
Почти одновременно с Волконской в Благодатский рудник прибыли Екатерина Трубецкая и Александра Муравьева. Приезд жен сказался благотворно на душевном настрое декабристов, хотя они могли видеться только два раза в неделю в присутствии офицера и унтер-офицера... Появилась возможность наладить связь с родными. Женщины взяли на себя не только переписку со своими близкими, они регулярно писали письма и родственникам других осужденных. Им удавалось переправлять в тюрьму продукты, табак, книги.
Пребывание в Благодатском руднике продолжалось 11 месяцев. Весть о переезде в Читу вселила надежду на лучшие перемены. Климат там был значительно здоровее сырого климата рудников. Да и работа была полегче: декабристам предстояло засыпать рвы, ремонтировать дороги, чистить улицы.
В августе 1828 года пришло разрешение снять кандалы. Это было несказанным облегчением, хотя, как пишет Мария Волконская, первое время странным казалось их отсутствие.
В Чите Волконских настигло и первое горе: в январе 1828 года умер их сын Николинька.
Через полтора года новое потрясение — Мария Николаевна узнала о смерти отца.
Осенью 1830 года декабристов разместили в специально выстроенном каземате при железоделательном Петровском заводе, неподалеку от Верхнеудинска. В новом остроге почти каждый заключенный получил небольшое помещение. Супругам разрешили жить вместе. «...В нашем номере я обтянула стены шелковой материей (мои бывшие занавеси, присланные из Петербурга). У меня было пианино, шкаф с книгами, два диванчика, словом, было почти все нарядно», — вспоминает Волконская. С этого времени «начался в Петровске длинный ряд годов без всякой перемены в нашей участи».
Но «перемены» были. В 1832 году у Волконских родился сын Михаил, через два года — дочь Елена. Всю свою энергию Мария Николаевна отдает воспитанию детей: «Я жила только для вас, я почти не ходила к своим подругам. Моя любовь к вам обоим была безумная, ежеминутная».
23 декабря 1834 года умирает мать Сергея Григорьевича. При вскрытии ее духовного завещания было обнаружено письмо к императору с просьбой «облегчить участь сына, принадлежащего к числу государственных преступников по происшествию 14 декабря 1825 г., и вывезти его из Сибири, где он доныне находится в каторжной работе, дозволив ему жить под надзором в имении». Царь из уважения к ее памяти повелел «государственного преступника Сергея Волконского освободить ныне же от каторжной работы, обратив в Сибири на поселение».
Свобода на поселении ограничивалась для мужчин правом гулять и охотиться в окрестностях, а дамы могли ездить в город для покупок. Родные присылали им сахар, чай, кофе и другие продукты, а также одежду. В Урике у Сергея Григорьевича появились более широкие возможности для занятий земледелием.
На первых порах в домашнем обучении Миши Волконского роль педагогов с успехом исполняли товарищи по изгнанию. Но домашнее образование было недостаточным. Ссылаясь на свое болезненное состояние, требующее постоянного лечения, Мария Николаевна добивается разрешения переехать с сыном в Иркутск. Через несколько месяцев к ним присоединился и глава семейства.
Дом Волконского усилиями его жены превратился в своеобразный центр духовной жизни Иркутска. Здесь всегда было много народу, устраивались балы, маскарады, домашние спектакли.
Мишу удалось устроить в Иркутскую гимназию, которую он окончил с золотой медалью. Дальнейшая судьба сына декабриста складывалась вполне благополучно. Он был принят в канцелярию генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева — человека «больших достоинств и прогрессивных взглядов», как характеризовал его М. Фонвизин.
А вот судьбу дочери Мария Николаевна устраивает вопреки воле отца, выдав замуж за чиновника канцелярии иркутского генерал-губернатора Дмитрия Молчанова, человека весьма сомнительной репутации. Через два года ей пришлось об этом пожалеть. Молчанов был обвинен во взяточничестве, отдан под суд, вскоре заболел и, сойдя с ума, умер.
Летом 1855 года Волконский остается в Иркутске в одиночестве. Здоровье Марии Николаевны ухудшилось, и ей разрешили выехать для лечения в Москву. 6 августа 1855 года она покинула Иркутск. Но декабрист не жалуется. «Я в своем одиночестве живу ладненько, — пишет он И. Пущину, — счастлив тем, что это одиночество обеспечит спокойствие, утешение моим». Однако надежда на встречу с близкими не покидает его.
26 августа 1856 года по случаю коронации Александра II выходит манифест, который дарует декабристам «все права потомственного дворянства, только без почетного титула, прежде им носимого, и без прав на прежние имущества, с дозволением возвратиться с семейством из Сибири и жить, где пожелает, в пределах империи, за исключением С.-Петербурга и Москвы, но под надзором». 30 августа детям декабристов Волконского и Трубецкого был возвращен княжеский титул.
В сентябре Сергей Григорьевич выезжает из Иркутска в Москву. Официально он поселяется в деревне Зыково Московского уезда, но большую часть времени, пользуясь покровительством московского генерал-губернатора Закревского, проводит в Москве, в доме дочери.
В 1857 году за границу для лечения уезжает Мария Николаевна с овдовевшей дочерью. В сентябре следующего года Сергей Григорьевич получает высочайшее разрешение присоединиться к ним на три месяца. Путешествие это, однако, затянулось, так как обострилась болезнь самого Волконского. За время пребывания за границей он посетил многие города Европы — Дрезден, Франкфурт, Париж, Рим...
Лето 1863 года Волконский проводит в семье сына в Фалле. Здесь он, прикованный к постели жесточайшим приступом подагры, получает горестное известие о смерти Марии Николаевны, случившейся 10 августа.
Смерть жены так повлияла на Волконского, что вернувшийся после похорон сын был потрясен переменой, произошедшей с отцом: болезнь усугубилась, ноги почти перестали служить, пришлось прибегнуть к креслу на колесах. Только летом следующего года Волконский смог съездить на могилу жены.
Резко ухудшившееся здоровье заставляет Михаила Волконского
перевезти отца в Петербург, где Сергей Григорьевич проводит свою последнюю зиму.
К лету он перебирается в Воронки, к дочери. Однако здесь декабрист прожил
недолго. 28 ноябре 1865 года Елена сообщила брату: «Отец скончался в час
пополудни без страданий, после причастия тихо заснул. Вчера сидел в галерее и
писал».
 20
июня 1837 года скончался король Великобритании Вильгельм IV. Так как у него не
было прямых наследников, на трон взошла Виктория — дочь его брата Эдуарда
Кентского и принцессы Виктории Лейнингенской из баварского герцогского рода
Саксен-Кобургов.
20
июня 1837 года скончался король Великобритании Вильгельм IV. Так как у него не
было прямых наследников, на трон взошла Виктория — дочь его брата Эдуарда
Кентского и принцессы Виктории Лейнингенской из баварского герцогского рода
Саксен-Кобургов.
Принцесса Виктория родилась в Кенсингтонском дворце 24 мая 1819 года. Ее родители проделали долгое путешествие из Баварии только для того, чтобы ребенок родился именно в Лондоне. Принцесса обучалась языкам, арифметике, географии, музыке, конной выездке, рисованию. Она находилась под постоянным надзором и наказывалась за малейшую провинность.
Отец Виктории, герцог Кентский, никогда не отличавшийся примерным образом жизни, умер, когда Виктории было восемь месяцев. В какой-то мере отца ей заменил дядя Леопольд, король Бельгии, также принадлежавший к Саксен-Кобургской династии. Рассчитывая играть важную роль при дворе, он мысленно сосватал Викторию своему племяннику Альберту. По просьбе Леопольда 17-летняя наследница престола даже принимала двоюродных братьев, Альберта и Эрнста, а Лондоне.
На английском троне больше ста лет не было женщины. Виктория стала королевой в возрасте 18 лет. Она оказалась далеко не такой покладистой, как хотелось бы ее окружению. Дяде Леопольду королева сразу дала понять, что в его советах не очень-то и нуждается.
Тем не менее в октябре 1839 года дядюшка вновь направил в Лондон Альберта. Тот согласился на эту поездку, так как решил положить конец прожектам Леопольда.
Однако встреча молодых людей имела неожиданные последствия. Альберт возмужал и превратился из подростка в красивого мужчину. К тому же он обладал разнообразными талантами: увлекался техникой, любил живопись, архитектуру, музыку, слыл прекрасным фехтовальщиком. Виктория записала в свой интимный дневник: «Встреча с Альбертом всколыхнула мои чувства. Как он красив! Его губы завораживают, у него такие симпатичные усики и бакенбарды».
Через три дня королева, следуя придворному этикету, сама сделала Альберту предложение. «Я недостоен вас, — промолвил Альберт. Затем, выдержав паузу, добавил: — Я буду счастлив провести рядом с вами всю свою жизнь».
Виктория вздохнула с облегчением. «Я люблю его больше, чем думала, — отметила она в дневнике, — и я сделаю все, что в моей власти, чтобы облегчить его жертву». О какой жертве идет речь? Дело в том, что Альберт мог стать наследником престола только по решению парламента.
Окружение, свита, дом — все это выбиралось Викторией.
Бракосочетание состоялось 10 февраля 1840 года. Свадебная церемония прошла с соблюдением многовековых традиций. Медовый месяц молодые супруги провели в Виндзорском замке. Королева писала дяде Леопольду: «Спешу Вам сообщить, что я самая счастливая женщина в мире. [...] Мой муж — ангел, и я его обожаю».
Однако Виктория никогда не забывала о своих обязанностях и уже через две недели после свадьбы приступила к работе. Для начала ей пришлось отвадить родственников. Мать Виктории захотела переехать в Букингемский дворец. Получив отказ, она заявила, что родная дочь гонит ее из дому. Свекор, герцог Кобургский, намекнул, чтобы Виктория погасила его долги за счет государственной казны. Но и он остался ни с чем.
В кабинете королевы был поставлен письменный стол для Альберта. В первое время принц вникал в дела государства. «Я читаю и подписываю бумаги, а Альберт их промокает...» — отмечала Виктория. Но постепенно принц входил во вкус.
Альберт и Виктория считались идеальной парой. Ни измен, ни скандалов, ни даже малейших порочащих супружескую добродетель слухов. Это было тем более удивительно, что семейная жизнь их родителей не сложилась.
За семнадцать лет супружества Виктория родила четырех сыновей и пятерых дочерей. Королева искренне считала, что предназначение женщины состоит именно в рождении и воспитании детей. Однако каждый ребенок давался ей с немалыми муками: беременность и роды протекали тяжело, и всякий раз она боялась умереть. Альберт с трогательной нежностью ухаживал за женой.
Быть может, именно личный опыт позволил королеве поддержать врачей, начавших применять во время родов обезболивающие средства. Церковь выступила против этих нововведений, будучи убежденной, что женщина обязана в муках нести наказание за первородный грех. Но мнение Ее Величества имело решающее значение.
В ноябре 1840 года королева родила девочку, названную Викторией Аделаидой Марией Луизой, по-домашнему — Вики. Тогда же была сшита знаменитая кружевная рубашка, которая будет служить до наших дней крестильной рубашкой всех принцев и принцесс Англии.
Через три месяца после рождения Вики королева снова забеременела. В положенный срок на свет появился мальчик Альберт Эдуард — будущий король Эдуард VII и основатель Саксен-Кобургской династии, которая во время Первой мировой войны, дабы не раздражать соотечественников немецким звучанием, была переименована в династию Виндзоров. Берти (так его звали дома) женился на Александре Датской. В этом браке родилось шестеро детей.
За Альбертом Эдуардом последовали: Алиса, Альфред, Хелена, Луиза, Артур, Леопольд; девятым и последним ребенком в семье была принцесса Беатрис, родившаяся в 1857 году.
Все дети воспитывались в чрезвычайной строгости; учебные занятия продолжались с 8 утра до 7 вечера шесть дней в неделю.
Родители заранее подбирали им партию. Старшая дочь Вики была представлена кронпринцу Фридриху Вильгельму Прусскому (будущему императору Фридриху III) в возрасте десяти лет, а уже в семнадцать помолвлена с ним. У них было семеро детей, причем старший сын стал императором Вильгельмом II, а дочь Софи — греческой королевой.
Рано вышли замуж и три другие дочери Альберта и Виктории.
Принцесса Алиса Мод Мария подарила семерых детей Людвигу Гессенскому. Их дочь Алике была женой Российского императора Николая II.
Счастье принцессе Хелене Августе Виктории принес Кристиан Шлезвиг-Голыятейнский. Супруги произвели на свет пятерых детей.
Принцесса Луиза Каролина Альберта была замужем за герцогом Эргильским.
Лишь младшая Беатрис Мария Виктория засиделась в девицах до 28 лет — мать никак не хотела расстаться с ней и держала ее при себе в качестве компаньонки. Беатрис вышла замуж за Генриха Баттенбергского, но продолжала жить с королевой.
К сожалению, один из сыновей Виктории, Леопольд Георг Дункан, страдал тяжким недугом — гемофилией. Клирики толковали болезнь как кару за нарушение библейского завета: при родах впервые была использована анестезия хлороформом. Несчастный Леопольд обладал поразительными умственными способностями. Окончив Оксфорд, он был незаменимым советником матери. Леопольд женился на Хелене Фредерике Вальдекской, имел двоих детей и умер в возрасте 30 лет от кровоизлияния в мозг.
Принц Альфред Эрнест Альберт составил пару великой княжне Марии, дочери Российского императора Александра II. В этом браке родилось пятеро детей. Принцесса Мария вышла замуж за румынского короля Фердинанда I.
Наконец, принц Артур Уильям Патрик был женат на Луизе Маргарите Прусской. У них было трое детей.
«Чем тяжелее и крепче цепи супружества, тем лучше, — писал Альберт своему брату. — Супруги должны быть прикованы друг к другу, неразделимы и жить только друг для друга».
Альберт стремился сделать жизнь с Викторией более разнообразной. «Для того чтобы оживить пейзаж в серых тонах», как он называл придворную жизнь, приглашались знаменитости. При дворе начали играть в вист и другие карточные и настольные игры. Альберт пробовал музицировать: особым успехом пользовались фортепианные пьесы в четыре руки. Он играл на органе произведения Баха, пел песни на музыку Мендельсона.
Альберт стал незаменимым помощником в делах королевы. Она называла его «мой драгоценный, мой несравненный Альберт». С раннего утра принц писал письма, составлял ответы на запросы министров. Королеве оставалось только завизировать документы.
По инициативе Альберта в Лондоне состоялась Первая Всемирная выставка, к открытию которой был построен знаменитый Хрустальный дворец.
В 1856 году королева обратилась к премьер-министру с просьбой признать и закрепить права принца Альберта. Но только через год решением парламента он получил специальный «королевский патент», именовавший его принцем-консортом, то есть принцем-супругом.
Альберт стал почти что королем. Как заметил писатель Андре Моруа, «некоторые политики находили, что у него слишком много власти. А его идеи относительно королевской власти многие считают несовместимыми с английской конституцией... Он вел Англию к абсолютной монархии».
Хотя при дворе немало людей недолюбливало принца-консорта, считая его занудой, скрягой, мелочным педантом, и вообще человеком с тяжелым характером, никто не ставил под сомнение безупречность королевского супружеского союза.
В начале декабря 1861 года «милый ангел», как называла мужа королева, сильно простудился. Она вначале не придала значения его недомоганию. Лишь 14 декабря, к пяти часам вечера выяснилось, что заболевание опасно для жизни. Уже теряя сознание, Альберт прошептал: «Моя дорогая жена...»
Виктория осталась вдовой в 42 года. Она погрузилась в глубокий траур. В течение пяти лет королева отказывалась произносить тронную речь в парламенте. «Моя жизнь как жизнь счастливого человека окончилась. Мир померк для меня», — писала она Леопольду.
Положение королевы сильно пошатнулось, однако недруги рано радовались. «Я твердо решила, — сообщает она дяде, — бесповоротно решила, что все его пожелания, планы, мысли будут для меня руководством к действию...»
Виктория продолжала жить, как если бы Альберт находился рядом. Поговаривали, что королева «связывается» с ним во время спиритических сеансов. По ее распоряжению было сооружено несколько зданий в память о покойном муже, в том числе Альберт-мемориал и знаменитый концертный зал — Альберт-холл около Музея Виктории и Альберта.
Заметно увеличив состояние королевской семьи, Виктория не расставалась с властью вплоть до самой своей смерти. В эти годы Англия добилась величайших успехов в индустриальном развитии, торговле, финансах, и расширении империи, стала символом устойчивости, порядочности и процветания. И современники, и потомки связывали эти успехи с именем королевы.
Через сорок лет после смерти мужа Виктория
воссоединилась со своим «милым ангелом». Это случилось 22 января 1901 года. Она
завещала похоронить себя в белом платье. Не снимавшая в течение сорока лет
траурных одежд вдова решила отправиться на встречу с Альбертом именно в белом.
Великую королеву похоронили рядом с самым близким ее другом и советником. Так
завершилась долгая Викторианская эпоха...
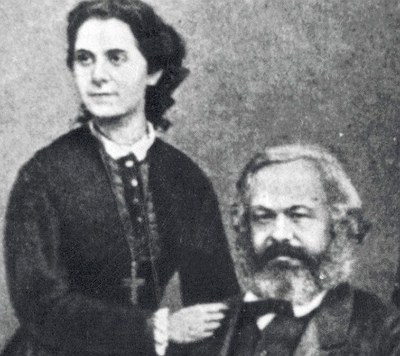 ...Элеонора
Маркс однажды заметила, что без Женни фон Вестфален ее отец никогда бы не мог
стать тем, кем он был. С этим трудно не согласиться: жена Карла Маркса была не
только первой читательницей и переписчицей его работ, но и первой советчицей.
...Элеонора
Маркс однажды заметила, что без Женни фон Вестфален ее отец никогда бы не мог
стать тем, кем он был. С этим трудно не согласиться: жена Карла Маркса была не
только первой читательницей и переписчицей его работ, но и первой советчицей.
Женни Маркс, урожденная баронесса фон Вестфален, принадлежала к одной из обедневших аристократических семей города Трира. Ее отец, тайный советник Людвиг фон Вестфален, был большим знатоком и ценителем литературы.
Семья Вестфаленов подружилась с семьей адвоката Генриха Маркса. Для того чтобы иметь возможность заниматься адвокатской деятельностью и дать детям образование, Маркс в 1816 году принял протестантство. Это был человек, воспитанный на французской культуре, на просветительных идеях XVIII века.
На фоне семейной дружбы Марксов и Вестфаленов, обмена визитами, длинных бесед родителей и игр детей зарождается и затем прорывается горячим пламенем любовь ослепительной красавицы, «сошедшей точно с картины Рубенса», Женни и молодого Карла.
Женни фон Вестфален получила хорошее образование. По понятиям среды, она имела все, чтобы обеспечить себе блестящую будущность: красоту, обаяние, а также аристократическое происхождение. Карл же был гордостью родителей с детских лет, его иначе и не называли как «сын счастья». На него возлагали все надежды.
Женни обладала сильной волей, что проявилось в те годы, когда ей пришлось сделать жизненный выбор. Она пренебрегла богатыми претендентами на ее руку ради Карла с его неопределенным будущим, полным опасностей. Достаточно вспомнить, что уже в гимназии Маркс считал самым счастливым «того, кто принес счастье наибольшему количеству людей».
Они обручились тайно, не спросясь родителей, когда Карлу минуло 18 лет (его избраннице было 25). Это произошло во время летних студенческих каникул после первого года, проведенного им в Боннском университете. Маркс должен был готовиться к профессии юриста, но его больше интересовали философия и история. После первого года веселой студенческой жизни в Бонне ему предстоял переезд в Берлин (в связи с переводом в Берлинский университет) и новая долгая разлука с любимой Женни.
Отец Маркса писал сыну, томившемуся и тосковавшему по своей любимой, что Женни тоже «имеет в себе нечто гениальное... Ты можешь быть уверенным, что ни один князь в мире не в состоянии ее отнять у тебя».
Карл был «опьянен любовью и беден надеждой». И позднее, в письме от 10 ноября 1837 года, он признавался родителям, что для него «открылся новый мир, мир любви, к тому же вначале страстной, безнадежной любви». Вдохновленный большой любовью и лишенный возможности переписываться с любимой, он выразил свои чувства в трех тетрадях стихов под названием «Книга песен» и «Книга любви», которым предпослал посвящение: «Моей дорогой, вечно любимой Женни фон Вестфален».
Женни получила эти тетради стихов и читала их «со слезами любви и боли». По свидетельству Лафарга, она бережно хранила эти стихи и никому их не показывала.
В сентябре 1836 года Карл рассказал отцу о помолвке с Женни. В семье Маркса обручение было вскоре одобрено, хотя отцу не понравилось, что все произошло без ведома родителей невесты. Тем более что Вестфалены возражали против этого союза. Чтобы не оскорбить чувства семьи Марксов, в качестве причины называлась молодость Карла. Естественно, они хотели видеть в качестве жениха для Женни обеспеченного молодого человека из своей среды, а не студента без определенных видов на будущее.
Свадьбу пришлось отложить. Целых семь лет ждал Карл свою прекрасную Женни!
Лето 1841 года застает его в Трире. Карл думает о своем будущем. Женни, которая за это время тоже «прошла сквозь строй гегелевских и фейербаховских категорий», понимает своего бунтаря.
В июне 1843 года состоялась долгожданная свадьба Женни и Карла.
Молодожены совершили свадебное путешествие по Рейну. «Мы уехали из Крейцнаха через Эбернбург в Пфальц и возвратились через Баден-Баден обратно в Крейцнах, где и оставались до конца сентября», — вспоминает Женни.
В октябре 1843 года Женни и Маркс отчаливают от «родных берегов», покидают Германию, где для них не нашлось уголка, и уезжают в добровольное изгнание в Париж. Вскоре изгнание превратилось в вынужденное и почти пожизненное, если не считать того короткого периода, когда революция 1848 года открыла им врата Германии.
В начале мая 1844 года у Марксов родилась дочь Дженни.
Вскоре Маркс получает приказ о высылке и переезжает в Брюссель. Вслед за ним тронулась в путь и Женни с крошечной дочуркой. Для этого ей пришлось продать мебель и даже часть белья. В Брюсселе они проживут около трех лет.
Через некоторое время к Марксам приехала Елена Демут. Девятилетней девочкой она попала в дом баронессы фон Вестфален — матери Женни, которая затем передала ее дочери «как самое лучшее из всего, что могла ей дать». Елена ведала хозяйством, готовила, шила, стирала.
В Брюсселе у Марксов родилось двое детей: 26 сентября 1845 года — вторая дочь, Лаура, а в феврале 1847 года — сын Эдгар. Невзирая на свой багаж с тремя «червячками» — так шутливо говорила Женни о своих малышах, — эта удивительная женщина ухитряется помогать Карлу в его работе.
В 1849 году Марксы надолго обосновались в Лондоне. Для Женни это было действительным изгнанием, со всеми его ужасами. После пребывания в меблированных комнатах они оказались в двух крошечных комнатушках в Челси. 5 ноября 1849 года родился мальчик Генрих Гвидо, или Фоксик, как его прозвали в честь заговорщика Гая Фокса.
По поводу многочисленности своей семьи Маркс писал с присущей ему иронией Фридриху Энгельсу: «Обратно пропорциональное отношение плодородия почвы к человеческой плодовитости должно было глубоко смущать такого многодетного отца семейства, как я. Тем более что мой брак более продуктивен, чем мое ремесло».
С 1850 по 1856 год Марксы живут в квартире на Динстрит, в плохом и бедном районе. Здесь 19 ноября 1850 года умирает Гвидо. Спустя много лет Женни писала: «Моя скорбь была так велика! Это был первый ребенок, которого я потеряла. Увы, я тогда не подозревала, что мне предстоят еще такие страдания...»
28 марта 1851 года у Женни родилась дочь Франциска, которая прожила чуть более года.
Марксам приходилось экономить буквально на всем.
Помощь Энгельса, литературные заработки несколько облегчили по сравнению с первыми страшными годами материальное положение Марксов. Но денег требовалось все больше и больше, что объяснялось прежде всего увеличением семьи и необходимостью дать образование подросшим детям, отчасти ростом дороговизны в Лондоне. Однако нередко бывало, что дети пропускали школу из-за отсутствия зимней одежды и возможности внести плату за учебу. Иногда Маркс не мог пойти в Британский музей, потому что последний сюртук был в ломбарде.
В 1855 году Марксы потеряли сына Эдгара, и эта смерть особенно сильно потрясла Женни. Эдгар, как самый младший, естественно, был любимцем и баловнем всей семьи.
Брак Женни и Карла был одним из тех редких союзов, которые выдерживают все испытания. Это был союз двух людей, удачно дополнявших друг друга. Маркс в течение всей жизни питал к своей жене не только любовь, но и влюбленность. Вот отрывок из письма, которое Маркс писал жене в Германию в 1856 году: «Моя любимая! Снова пишу тебе, потому что нахожусь в одиночестве и потому, что мне тяжело мысленно постоянно беседовать с тобой, в то время как ты ничего не знаешь об этом, не слышишь и не можешь мне ответить. Как ни плох твой портрет, он прекрасно служит мне. [...] Бесспорно, на свете много женщин, и некоторые из них прекрасны. Но где мне найти еще лицо, каждая черта, даже каждая морщинка которого пробуждали бы во мне самые сильные и прекрасные воспоминания моей жизни?»
Письма Женни к мужу также говорят о том, что и она до самой старости сохранила к нему не меньшую любовь и свежесть чувства.
После смерти матери в 1856 году, а также родственницы, жившей в Шотландии, Женни получила небольшое наследство, позволившее Марксам переехать из нездоровой части города и снять коттедж в более возвышенной части Лондона.
Самой большой радостью в жизни Женни и Маркса были дети. Им удалось создать дружную и веселую семью. Дочери — Дженни, Лаура и Элеонора — были не только большой гордостью родителей, но друзьями и любимицами всех эмигрантов, гостивших в доме Марксов. Наряду со школой девочек обучали дома языкам, рисованию, пению, музыке. Для Карла общество детей, по словам Либкнехта, было потребностью, с детьми он отдыхал и освежался.
6 июля 1857 года у Женни родился седьмой ребенок, девочка Марианна, но лишь для того, чтобы один раз вздохнуть. Она умерла тотчас же после появления на свет. Затем последовал Фогтовский процесс и страшное заболевание Женни оспой, болезнь самого Маркса и домашних...
Снова наступили трудные дни. «...Постоянные денежные затруднения, мелочные заботы и подсчеты. Несмотря на все ограничения, нам никак не удавалось свести концы с концами, и поэтому с каждым днем и каждым годом бремя долгов все возрастало...», — вспоминала Женни.
В 1861 году Маркс поехал на континент, с одной стороны, по семейным делам в Голландию, с другой — по политическим делам в Германию. Это была первая более или менее длительная его отлучка. Все домашние с нетерпением ждали возвращения Маркса.
Наступили 1870-е — последний период жизни Маркса и Женни. Их друг Энгельс смог наконец обеспечить Карлу безбедное существование для завершения теоретических работ. Маркс получил возможность ездить на курорты, лечиться, наконец, и семья его могла немного отдохнуть и зажить по-человечески.
Но уже в 1876 году Карл Маркс писал Энгельсу, что его жена тяжело больна. Позже было установлено, что у Женни рак и ей предстоит медленная мучительная смерть.
В конце июня 1881 года Маркс вывез больную Женни к морю, на курорт Истборн, где они прожили месяц. Затем, следуя горячему желанию Женни повидать внуков, супруги едут во Францию.
Заметно уставшая Женни вернулась в Лондон 19 августа. Вскоре серьезно заболел Карл. Дочь Элеонора так описывала этот период в письме к Либкнехту: «Осенью 1881 года, когда наша дорогая мамочка была уже настолько больна, что лишь изредка вставала с постели, Мавр [так звали Маркса домашние] схватил тяжелое воспаление легких... Это было ужасное время. В первой большой комнате лежала наша мамочка, в маленькой комнате, рядом, помещался Мавр. Два эти человека, так привыкшие друг к другу, так тесно сросшиеся один с другим, не могли быть вместе в одной комнате...
Мавр еще раз одолел болезнь. Никогда не забуду я то утро, когда он почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы пройти в комнату мамочки. Вместе они снова помолодели, — это были любящая девушка и влюбленный юноша...»
2 декабря Женни не стало. Маркс ненамного пережил свою подругу. После ее смерти он очень тяжело заболел. Врачи послали его в Алжир. Маркс писал Энгельсу: «...ты знаешь, что мне более чем кому-либо чужд демонстративный пафос; однако было бы ложью не признаться, что мои мысли большей частью поглощены воспоминаниями о моей жене, которая неотделима от всего того, что было самого светлого в моей жизни». Энгельс был прав, сказав после смерти Женни: «Мавр тоже умер».
Со времени смерти жены Карл всегда носил с собой ее фотографию, сделанную на стекле. «Мы нашли ее, — говорит Элеонора, — в кармане его пиджака после его смерти».
Карл Маркс скончался 14 марта 1883 года.
Трагично сложилась судьба его дочерей. Мужем старшей, Дженни, стал Шарль Лонге, бывший член совета Коммуны и редактор ее официальной газеты. 38-летняя Дженни умерла в январе 1883 года, оставив пятерых детей.
Лаура вышла замуж за Поля Лафарга. 26 ноября 1911 года они покончили с собой, потому что пришла старость и ушли силы, необходимые для политической борьбы. Лафарг впрыснул цианистый калий сначала Лауре (по уговору), а затем себе.
Младшая дочь Марксов, Элеонора, посвятила свою
жизнь революционной борьбе. Она покончила с собой в возрасте 42 лет в расцвете
сил и творческих способностей...
 Отто
Эдуард Леопольд фон Шенхаузен Бисмарк родился 1 апреля 1815 года в замке
Шенхаузен в маркграфстве Бранденбургском. Он был четвертым ребенком помещика
Фердинанда фон Бисмарка, ротмистра в отставке, и его жены Вильгельмины, дочери
публициста, профессора Менкена.
Отто
Эдуард Леопольд фон Шенхаузен Бисмарк родился 1 апреля 1815 года в замке
Шенхаузен в маркграфстве Бранденбургском. Он был четвертым ребенком помещика
Фердинанда фон Бисмарка, ротмистра в отставке, и его жены Вильгельмины, дочери
публициста, профессора Менкена.
Детство мальчик провел в родовом поместье Книпхоф под Наугардом, в Померании. В шесть лет его отдали в частную школу Пламана. Мать Бисмарка сразу определила ему карьеру дипломата, поэтому особое внимание уделялось изучению иностранных языков.
В 1832 году Бисмарк приступил к изучению права в Геттингенском университете. Двадцать семь дуэлей, шрам на щеке, умение пить, не теряя памяти, — таковы его приобретения за время обучения в университете.
Переход в Берлинский университет ничего не изменил в его жизни. Он все-таки выдержал первый государственный экзамен на звание юриста и стал референтом окружного управления в Ахене. Но рутинная работа оказалась ему не по нраву. Бисмарк часто нарушал служебную дисциплину. Ахенские власти рекомендовали ему продолжить службу в Потсдаме.
Но и там он долго не задержался. За Потсдамом был Грайфсвальд. Бисмарк слушал лекции в сельскохозяйственном институте в Эльдене. Сменив несколько мест, весной 1839 года он занялся обустройством поместья Книпхоф. Смерть отца, последовавшая в 1845 году, заставила его задуматься о своей судьбе. Отто переехал в Шенхаузен, где устроился инспектором плотины, а также стал депутатом ландтага провинции Саксония.
В доме своих друзей Бланкенбургов он познакомился с чудесной девушкой Иоганной фон Путкаммер. Хозяин дал ей такую рекомендацию: «Она чрезвычайно умна, очень музыкальна, мила, и у нее глубокое, благочестивое сердце... Если тебе она не нужна, я возьму ее себе — второй женой».
Во время путешествия по Гарцу Отто и Иоганна быстро сближаются, и «один как будто бы бесконечно удивляется, открывая для себя другого». По возвращении он начинает читать Библию, с почтением говорит о Боге и в одном из писем Бланкенбургам сообщает относительно Иоганны, что она ему нравится, но он еще не вполне решился.
Через несколько недель он вновь встречается с Иоганной в доме Бланкенбургов. На этот раз Отто объясняется с девушкой.
В декабре 1846 года он обращается к ее отцу Генриху фон Путкаммеру с «письмом-предложением».
В письме брату Бисмарк представляет невесту как «женщину редкой души и редкого благородства убеждений». Брак с Иоганной станет для Бисмарка основой существования в самом широком смысле слова, незыблемой опорой в любой критический момент до самой смерти жены.
Благочестивый отец слышал о Бисмарке «много дурного и мало хорошего » и медлит с ответом. Нетерпеливый жених неожиданно приезжает в Рейнфельд. «Бог знает, какое направление приняли бы переговоры, если бы я, едва завидев свою невесту, не заключил ее в объятия и тем не перевел переговоры, к изумлению родителей, в другую стадию. В течение пяти минут все было решено».
Бисмарк — сама любезность. Он покоряет обитателей дома. Отто пьет с хозяином шампанское, танцует вальс с невестой, и даже ее властная мать вынуждена признать «этого бородатого еретика » (Бисмарк тогда носил бороду).
Во время разлуки Отто пишет Иоганне ободряющие письма. Он часто цитирует Библию. Отношение к браку у него лютеранское, Бисмарк убежден: муж и жена — одна душа и одна плоть, они должны вместе страдать и ничего не скрывать друг от друга.
С февраля 1847 года Бисмарк представлял остэльбское рыцарство в Объединенном ландтаге, причем назначение исходило непосредственно от короля Фридриха Вильгельма IV. В мае Бисмарк получает место в Объединенном ландтаге в Берлине.
Письма к невесте, по-прежнему сердечные, все больше приобретают характер донесений, и когда она заболевает, он хоть и молится за нее, но остается «на своем посту», обещает тоскующей Иоганне, что приедет на Троицу.
Но и на Троицу не приезжает, а только пишет: «Я не хочу, да мне и не нужно объяснять, почему я должен так поступить, когда здесь решаются судьбы нашей страны и дело подчас зависит от одного голоса... Вы, женщины, удивительны, и всегда такими останетесь, с вами лучше общаться устно, а не письменно».
Но откладывать свадьбу нельзя, замечает Бисмарк. Иоганна может преспокойно хворать, уже став замужней, иначе он будет чувствовать себя в Рейнфельде бездельником. Он уже заявляет, что политика лишает его сна и аппетита, что у него «разливается желчь от лживой, клеветнической нечестности оппозиции», но в то же время он скучает по лесу и по Иоганне.
Свадьба состоялась 28 июля 1847 года. Подруга подарила невесте платочек и вышила на нем белую розу. Молодой супруг прожег эту вышитую розу сигарой. Этим жестом он хотел заявить, что пришел конец Жан Полю и мистике девических лет.
Молодожены совершают длительное свадебное путешествие. Бисмарк пишет брату: «Так что все путешествие обошлось нам обоим приблизительно в 750 талеров, значит, за 57 дней приблизительно 13 талеров в день... Хуже то, что в мое отсутствие я потерял из-за сибирской язвы шесть коров и одного быка, и все лучшие экземпляры».
Получив место в парламенте, Бисмарк с головой уходит в политику. Любимая жена, имение отодвигаются на второй план. Он честолюбив и жаждет действовать.
В Берлине Бисмарк с большим неудовольствием ведет жизнь холостяка. Если он подыскивает квартиру на несколько зимних месяцев, то высылает жене точные чертежи всех комнат, пишет, где должен стоять его диван, где детская кроватка, где обозначенный пунктиром тенник, и что это обойдется в треть его парламентского содержания.
Их брак отмечен сердечностью и спокойствием. Когда Иоганна родила дочь, он был «рад, что первенец — девочка, но будь это даже кошка, я бы все равно на коленях благодарил Бога за то, что Иоганна разрешилась от бремени».
На третий год его семейной жизни на свет появляется Герберт, старший сын, и все семейство собирается путешествовать. Бисмарк изливает свое неудовольствие в юмористическом послании к сестре.
Теперь он постоянно экономит, не позволяя себе никаких увлечений, кроме вина. Приезжая домой, он кажется себе школьником на каникулах. «Я веду бесконечно ленивую жизнь. Курю, читаю, гуляю, играю в отца семейства, о политике узнаю только из газет... Это идиллическое одиночество мне весьма полезно; я лежу на траве, читаю стихи, слушаю музыку и жду, пока созреют вишни».
Когда жена и дети больны или под угрозой болезни, он сразу теряет самообладание, всю свою веру вкладывает в молитву о том, чтобы все у него были здоровы и никто бы не умер.
Но даже если близкие бодры и веселы, страхи за них доводят его до истерического состояния, и если в течение нескольких дней нет письма, он тревожится так, «что ни на что не способен, как только сидеть перед камином, глядеть на угасающее пламя и воображать себе тысячи вариантов болезни, смерти, почтовых безобразий...»
В 36 лет Бисмарк становится посланником короля. Новое назначение отнимает у него много нервов и сил. Он недоволен всем, что происходит в Пруссии, но не может ничего изменить.
Иоганна любит покой в той же мере, как он — борьбу, ей недостает всего, чего у него в избытке: честолюбия, кругозора, здоровья; она часто хворает, у нее ухудшается зрение, ей прописывают ванны.
Все, к чему он стремится и чего достигает, Иоганне не по душе.
Отто Бисмарк любит делать Иоганне подарки. Причем, как истинный знаток женщин, заботится о деталях — о том, что кашемировая шаль, которую он просит своего парижского коллегу приобрести, должна быть ослепительно белого цвета; чтобы позолоченный веер посильнее щелкал, хотя сам он этого звука терпеть не может.
Но жизнь с политиком тяжела. В период конституционного конфликта страх перед покушениями лишает Иоганну покоя, Бисмарк часто описывает ее во власти бессонницы, с сердцебиением из-за расстроенных нервов, павшей духом; он отправляет ее на курорты, опасаясь при этом за нее и за себя; в сорок лет она уже подписывает свои письма к детям «ваша старая мама».
Когда дети подрастают и болеют не так часто, она целиком посвящает себя мужу. Иоганна отказывается от всего — от желаний, увлечений, даже от собственного мнения. Однажды во время увеселительной поездки в обществе Кайзерлинга Отто спросил ее, хочет ли она ехать дальше или предпочитает вернуться? Она ответила: «Поступай, как тебе угодно, иной воли, чем твоя, у меня нет».
С 1871 года Бисмарк — рейхсканцлер Германской империи. Его жесткая политика многим не нравится. В «железного канцлера» стреляют. Бисмарк чудом остается жив. Покушение долго занимало его мысли, пожалуй, то был единственный момент во всей его карьере, когда он всерьез взвешивал мысль об отставке: «Пусть эти ребята стреляют теперь в другого канцлера! Первого апреля мне исполнится шестьдесят, и тогда я вернусь к жизни сельского дворянина!»
Иоганна готова защищать мужа. С годами она становится все более нетерпимой к его врагам.
Бисмарку приходится слегка поучать жену. Перед отъездом на благотворительный базар он говорит ей в присутствии постороннего: «Вы не должны там оставаться дольше короля. Вам не подобает долго находиться в этой сутолоке». Зато за столом, при почетных иностранных гостях, она завязывает ему галстук.
Известен следующий анекдот из семейной жизни Бисмарка. Однажды «железного канцлера» посетил какой-то посол. Проговорив долгое время, посол заметил, что Бисмарка, наверное, тревожат многие и подолгу, и тут же полюбопытствовал, как он освобождается от назойливых или неприятных визитеров.
— Очень просто, — ответил Бисмарк. — Как только жене покажется, что тот или другой гость меня задерживает слишком долго, она посылает за мной человека, и наша беседа кончается.
Не успел Бисмарк окончить свое объяснение, как в комнату вошел лакей и доложил, что княгиня просит к себе Бисмарка на несколько минут. Посол покраснел и тотчас удалился.
Муж по-прежнему нежен с ней, и если проводит долгие летние недели без Иоганны, то пишет ей (после сорока лет брака!): «Любимая...», «Шлю тебе этот любовный привет» или сообщает друзьям: «Без лошадей и без жены я здесь долго не выдержу. Завтра мы возвращаемся».
В Берлине ей теперь нравится больше, чем раньше, и ее подруга свидетельствует, что перед длительным пребыванием в Варцине «княгиня испытывала ужас, так как абсолютное одиночество действовало ей на нервы».
Дети проявляют вполне бисмарковский эгоизм. Дочь, которую один из друзей дома назвал «скорее странной, чем приятной», с годами становится все более нескладной.
Что касается сыновей, то оба помогали Бисмарку. Младший, Билл, был одарен, но ленив. Он заключил брак с кузиной. Старшему, Герберту, не позволяли жениться по любви. Оба — изрядные кутилы и умерли рано, когда им было немногим за пятьдесят.
В марте 1890 года Отто Бисмарк уволен в отставку.
В первые месяцы отставник пытался, после сорока лет государственной службы, вернуться к роли сельского дворянина. Однако заниматься делами своих больших имений ему почему-то расхотелось.
Он обеспокоен состоянием здоровья жены. У Иоганны часто бывают приступы удушья. Лечиться на курортах она больше не хочет, не решаясь расстаться с мужем. Бисмарка охватывает желание умереть с нею вместе. Она была тихим ангелом, усмирившим и успокоившим бури, которые клокотали в душе железного человека в годы расцвета молодости и сил.
Он перевозит Иоганну в Варцин и пишет сестре: «.. .сегодня мы получили от бедняги Билла огорчительное известие о новом приступе подагры... Раньше я всегда бывал радостно возбужден, когда мог поехать в Варцин, нынче без Иоганны я бы навряд ли на это решился...»
17 ноября 1894 года жена его угасает в возрасте 70 лет. Бисмарк, склонившись над ней, плачет как ребенок. В тот же вечер он сравнивает конец своей власти с концом супружества: «Это более значительный итог по сравнению с 1890 годом, и он глубже вторгается в ход моей жизни... Будь я сейчас еще на службе, я бы с головой ушел в работу. Теперь мне отказано в утешении».
«Все, что у меня оставалось, была Иоганна, —- пишет Бисмарк сестре, — общение с ней, ежедневная забота о ее самочувствии, стремление делом выразить мою благодарность, с какой я оглядываюсь на минувшие сорок восемь лет. А сегодня все пусто и одиноко...»
Великий канцлер умер 30 июля 1898 года. Его
смерть была, по выражению его сына Герберта, «тихой и мирной». Император
Вильгельм II назвал покойного «мастером искусства управлять государством» и
торжественно пообещал «то, что Он, великий канцлер, создал при императоре
Вильгельме Великом, хранить и приумножать, а если понадобится, защищать любой
ценой».
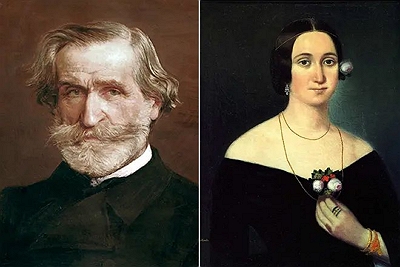 1839
год. Джузеппе Верди необходим дебют, он просто обязан заявить о себе во весь
голос. Ему двадцать шесть лет, маэстро женат, но у него нет денег на собственный
дом.
1839
год. Джузеппе Верди необходим дебют, он просто обязан заявить о себе во весь
голос. Ему двадцать шесть лет, маэстро женат, но у него нет денег на собственный
дом.
Джузеппе пытается заручиться рекомендациями. Он знакомится с певицей из Ла Скала. Ее зовут Джузеппина Стреппони, говорят, что она любовница Мерелли, знаменитого импресарио. Верди проигрывает ей на фортепиано свою оперу «Оберто», и певица находит, что она весьма интересна.
В июне 1840 года умирает жена маэстро Маргарита Барецци, а в сентябре проваливается его опера «Король на час» в Ла Скала. Верди переживает тяжелый кризис, пытается найти утешение в работе.
В канун Рождества он показывает Стреппони оперу «Набукко» и проигрывает партию Абигайль, которую написал, думая о ней и ее голосе. Сопрано в восторге, она обещает самую горячую поддержку, обещает уговорить импресарио Мерелли, который пока полон сомнений...
Верди избегал сложных любовных отношений. И все же он не может не чувствовать, что все больше нуждается в обществе Джузеппины. Если певица находится в гастрольной поездке в Бергамо, Верди не упускает возможности съездить к ней. Если же она в Милане, он напоминает о себе записочкой или букетом цветов.
Джузеппина обладает не только привлекательной внешностью. Она умная и мягкая женщина, с чувством юмора, прекрасно образованная, великолепно говорит по-французски, много читает. Жизнь не баловала ее. У Стреппони двое детей, которых не признал отец, известный тенор. Несмотря на молодость, ее карьера певицы из-за болезни легких идет к закату. Она, видимо, влюблена в Верди. Одержимость этого человека покоряет Джузеппину. И его гений тоже.
Когда 21 марта 1844 года Джузеппе возвращается в Милан, Стреппони в письмах к общим миланским друзьям справляется о маэстро, интересуется его планами и приемом его опер.
Зима 1848 года. Стреппони уже два года живет в Париже, дает уроки пения и изредка выступает с концертами, в которых исполняет романсы, в основном из опер Верди. Ей недавно исполнилось тридцать, голоса у нее почти нет. Именно в Париже маэстро наконец решает, что должен связать свою жизнь с Джузеппиной.
Они снимают небольшую виллу в Пасси, парижском пригороде. Стреппони видит в своем возлюбленном яркую личность — художника и человека, — сложную, неуживчивую, полную противоречий, упрямую. Она знает также, каких низостей и глупостей можно ожидать от него. Знает, насколько он эгоистичен, упрям. Но ей важно, что он с нею, что жизнь ее проходит вместе с ним.
Возлюбленная создает домашний очаг, в котором Верди чувствует себя деспотичным хозяином. С Джузеппиной маэстро мог быть самим собой, она стала для него совершенно необходимой. Но о браке речи не идет. После потери жены слово «семья» внушает Верди страх.
Они живут очень уединенно. Маэстро не любит бывать в светских салонах. Из Парижа Верди поддерживает тесные связи с итальянскими импресарио, либреттистами и издателями, а также руководит работами по благоустройству поместья Сант-Агаты в окрестностях итальянского города Буссето. Он пишет множество писем, неустанно ищет новые темы, новые характеры, новые сюжеты для своих произведений.
Дом в Пасси красив, обставлен со вкусом, в прекрасном саду множество цветущих роз и азалий. Джузеппина поддерживает идеальный порядок, давая точные указания садовнику. Другая ее забота — усовершенствовать французский язык Верди, которого она называет то Волшебником, то Медведем.
В конце июля 1849 года Верди и Стреппони прощаются с Парижем, домом в Пасси и направляются в Италию. Верди едет прямо в Буссето и располагается в собственном палаццо Дордони. Это его родные места.
Джузеппина прекрасно понимает, что ждет ее в Буссето. Враждебность крестьян Верди в глубине души беспокоит ее. Но она не делает из этого трагедии. С приездом Джузеппины дверь особняка Дордони будет открываться крайне редко. Верди всеми силами стремится избежать пересудов, сплетен. Вместе с Джузеппиной он ведет крайне замкнутую жизнь. Маэстро работает над «Луизой Миллер », которую начал писать еще в Париже.
Написав немало страниц, он зовет Джузеппину, садится за фортепиано и играет ей музыку, которую сочинил. Он прислушивается к ее советам, потому что знает, что у его подруги тонкий слух и врожденное чутье. Они не тратят на обсуждение лишних слов, говорят только по существу. В «Луизе Миллер» появляется какая-то особая, тонкая выразительность, неожиданная для композитора, который до сих пор писал броско, довольствуясь блестящей мишурой...
Когда Стреппони по воскресеньям появляется в церкви, дамы Буссето сторонятся ее, демонстративно опуская глаза, чтобы не смотреть в лицо содержанке. И в тех редких случаях, когда Джузеппина одна проходит по площади Буссето, никто не здоровается с ней.
Верди раздражен всей этой провинциальной возней. В начале 1850 года он вместе с Джузеппиной уединяется в поместье Сант-Агата, где возводит между собой и остальным миром высокую каменную ограду, защищенную к тому же деревьями.
Кипучая композиторская деятельность вынуждала Верди разъезжать по Европе, но Сант-Агата будет его любимой резиденцией до конца жизни. Лишь зимние месяцы супруги предпочитали проводить либо в Милане, либо в Генуе.
Верди и Стреппони часто бывали в Париже. Однажды они попали на спектакль по пьесе Дюма «Дама с камелиями». Увиденное потрясло обоих. И маэстро решает написать «Травиату». Эта опера будет совершенной песней любви — огромной, побеждающей унижения, измену и саму смерть.
В 1859 году Верди решает наконец заключить с ней брак. Он опасается, что в случае смерти его собственность перейдет к родственникам, а не к верной подруге. Джузеппина же хотела, чтобы брак узаконил их чувства. Важное событие должно было произойти в местечке Коллонжсу-Салев, в Верхней Савойе, в конце апреля. Но 23 апреля Австрия предъявляет ультиматум Пьемонту и через несколько дней объявляет войну. Свадьбу приходится отложить. Стреппони пишет Чезарино де Санктису: «...Мы здоровы, страха не испытываем, но обеспокоены серьезными событиями, которые происходят тут...»
В августе 1859 года муниципалитет Буссето выбирает Верди своим представителем на ассамблею пармских провинций, которая должна провести плебисцит по вопросу присоединения Пармского герцогства к Пьемонту. В конце месяца Стреппони и Верди тайно отправляются в Коллонжсу-Салев, и 29 августа проходит их бракосочетание, причем в качестве свидетелей присутствуют звонарь и кучер. Никакого празднества, никакого свадебного путешествия.
Через несколько счастливых лет Джузеппе Верди вдруг почувствовал, что навсегда уходит какая-то часть жизни, и он недоволен тем, что его ждет впереди. Маэстро страдает от возникшего ощущения, что больше не влюблен в свою жену.
В последние месяцы 1867 года Джузеппе обретает некоторое душевное спокойствие. Вместе с Пеппиной, знаменитым дирижером Мариани и его подругой, богемской певицей Терезой Штольц, он снова в Париже. Друзья проводят две очень памятные для них недели — бывают всюду, где только можно послушать хорошую музыку, ходят в театры, музеи, церкви, много гуляют по городу. Всем сразу же становится ясно, что именно Штольц, певица из Богемии с «белоснежной грудью », покорила Верди. Тереза намного моложе его. Он очарован ее сильной личностью, ее характером — она, похоже, нисколько не боится ни вспышек гнева Медведя, ни перепадов его настроения.
Джузеппина страдает безгранично. Оплакивает в душе то счастливое время, когда Верди не любил других женщин и принадлежал только ей. Теперь он совсем отдалился от нее, держится еще более властно и совершенно отчужденно.
Супруги переживают тяжелый кризис. Джузеппина занимает позицию отвергнутой, забытой женщины, но продолжает окружать Верди вниманием, заботой и любовью.
Джузеппина страдает от ревности и говорит, что не хочет, чтобы с нею обращались как с надоевшей мебелью. А Верди? В глубине души он признает справедливость доводов жены. Но весьма далек от мысли расстаться со Штольц. Эта женщина, исполненная жизненной энергии, необходима ему. Верди возвращается в Геную, где живет Пеппина. О чем они говорят — неизвестно. Однако Джузеппе, видимо, не очень удручен, поскольку находит время написать подробнейшее письмо Рикорди по поводу постановки «Силы судьбы».
В новой редакции опера «Сила судьбы» идет на сцене Ла Скала 27 февраля 1869 года. Субботний вечер, дождь. Театр переполнен. Спектакль имеет успех. Исполнителей вызывают бесконечно — Штольц, Тиберини, Венса, дирижера маэстро Туриани. Вместе с Верди на премьере присутствует Джузеппина. Она молча сидит весь вечер в глубине ложи, стараясь, чтобы ее не узнали.
Стреппони еще не знала, что так будет продолжаться несколько долгих лет... Это Терезе маэстро подарит партию Лиды, пригласит на первое исполнение «Реквиема», будет трепетно ждать ее из гастрольных поездок, не особенно заботясь о чувствах жены. Настанут даже такие дни, когда Штольц будет чувствовать себя в их доме хозяйкой больше, чем Джузеппина.
Наконец горькие годы позади. Штольц — в Милане, а Верди — рядом с верной Пеппиной. Прекрасные аккорды сообщают о благополучном рождении мелодий новой оперы — о ревнивом и доверчивом мавре. Они вновь остались вдвоем. Теперь маэстро замечает, как была полезна ему Пеппина, какого драгоценного и незаменимого спутника нашел он в ней...
Начало 1897 года проходит спокойно. Все нормально, без каких-либо изменений. То нездоровится ему, то болеет Пеппина. У него очень плохое настроение, он чувствует себя совсем слабым и усталым: «Зрение ослабело, не вижу, как прежде. И слышу плохо. И ноги перестали держать. Поэтому не читаю, не играю, не пишу и скучаю. Увы! Так и должно быть!»
Здоровье жены беспокоит его все больше. Осенью ей становится совсем плохо. Верди подбадривает ее, ухаживает за ней. Пеппина растрогана, видя, что ее Медведь так ласков с нею.
14 ноября 1897 года наступает кризис. Пеппина при смерти, жить ей осталось считанные часы. Она дышит все тяжелее, то и дело обращает взгляд к Верди и видит, как он убит, измучен, растерян и беспомощен. В четыре часа дня Джузеппина Стреппони вздыхает последний раз, голова ее падает на подушку, и она тихо умирает. Верди окаменел от горя, а потом заплакал, громко, навзрыд, содрогаясь.
Теперь за ним ухаживает Мария Верди-Каррара, приемная дочь, которую маэстро и Джузеппина взяли на воспитание тридцать лет назад.
Великий композитор умер 27 января 1901 года.
 «Все
счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему» — так начинает свой знаменитый роман «Анна Каренина» Лев Николаевич
Толстой.
«Все
счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему» — так начинает свой знаменитый роман «Анна Каренина» Лев Николаевич
Толстой.
Писатель родился в 1828 году в Ясной Поляне Тульской губернии. Богатый и знатный род Толстых, к которому он принадлежал, уже во времена Петра Великого занимал видное положение. Леве не было и трех лет, когда умерла его мать. А в июне 1837 года скоропостижно скончался и отец — отставной подполковник Николай Ильич Толстой. Лева воспитывался сестрой отца П. И. Юшковой. В дальнейшем были — учеба в Казанском университете, воинские подвиги в Севастопольской кампании, попытки стать светским львом, кутежи, цыгане, карты и мучительные размышления о своем предназначении, которые доверялись пока только личному дневнику.
В 1856 году Лев Толстой вышел в отставку. Молодой писатель скоро становится литературной знаменитостью. Не меньших успехов он добивается на любовном фронте, завоевывая сердца светских красавиц, милых мещаночек, пышнотелых крестьянок...
Наконец 34-летний граф Толстой решает жениться. Его избранница — Софья Берс, дочь московского доктора.
23 августа 1862 года писатель отмечает в своем дневнике: «Ночевал у Берсов. Ребенок! Похоже! А путаница большая. О, коли бы выбраться на ясное и честное кресло!.. Я боюсь себя; что, ежели и это желание любви, а не любовь? я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны, и все-таки оно. Ребенок! Похоже!»
Софья Берс родилась 22 августа 1844 года. Ее мать, Любовь Александровна Иславина, была внебрачной дочерью княгини Козловской и помещика Александра Ислентьева. Она носила по незаконнорожденности вымышленную фамилию и была приписана к купеческому сословию. Любовь Александровна с детства дружила с Толстыми — Марией Николаевной и ее братом Львом Николаевичем. Еще до поездки на Кавказ Толстой часто бывал в гостях у славного семейства Берсов. Он любил возиться с Любочкиными дочками — Лизой, Соней и Танечкой. Сонечка помнила, как они все пели хором под аккомпанемент Льва Николаевича, как ставили вместе оперу. Но потом граф уехал на Кавказ.
Софья Берс получила хорошее воспитание и в семнадцать лет с успехом выдержала экзамен на звание домашней учительницы в Московском университете. Она знала историю русской литературы, писала прозу и стихи, интересовалась философией, увлекалась музыкой. «Я должен сказать, что при всем сходстве ее с сотнями женщин, в особенности с женщинами аристократических кругов с их хорошими и дурными качествами, она во многих отношениях была крупным, выдающимся человеком...»
Однажды она позволила Толстому прочесть написанную ею повесть о любви, в которой фигурировали два героя — молодой «обольстительный Смирнов» и средних лет, непривлекательной наружности Дублицкий. Мнительный Толстой решил, что Дублицкий списан с него, и невыносимо страдал. Чувства все разгорались: «Я влюблен, как не верил, чтобы можно любить... Она прелестна во всех отношениях, а я — отвратительный Дублицкий... Теперь уже я не могу остановиться. Дублицкий — пускай, но я прекрасен любовью...»
Соня любила рукодельничать, охотно помогала по хозяйству.
Толстой 16 сентября делает предложение Софье: «Я бы помер со смеху, если б месяц тому назад мне сказали, что можно мучиться, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь это время. Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать: да, а то лучше скажите: нет, ежели в вас есть тень сомнения в себе. Ради Бога, спросите себя хорошо». Софья Берс согласна.
Лев Николаевич считал, что секретов от невесты у него быть не должно, поэтому еще до свадьбы показал Соне свои дневники. В них было все: карточные долги, пьяные гулянки, цыганка, с которой намеревался жить вместе, девки, к которым ездил с друзьями, яснополянская крестьянка Аксинья, с которой проводил летние ночи, и, наконец, барышня Валерия Арсеньева, на которой три года назад чуть было не женился.
Сразу после свадьбы молодые уехали в Ясную Поляну. Конечно, юной Софье Толстой не мог не льстить графский титул. Она еще долго будет обращаться к мужу на «вы». Не следует забывать, что граф был всего на два года моложе собственной тещи, они вместе играли в детстве.
Первая брачная ночь заставила Соню забеспокоиться: «У него играет большую роль физическая сторона любви. Это ужасно — у меня никакой, напротив». Толстой, конечно, тоже почувствовал что-то неладное: «Ночь, тяжелый сон. Не она». Так что первые ссоры произошли уже во время медового месяца. Примирение было быстрым и страстным.
«Люблю его ужасно — и это чувство только мной и владеет, всю меня обхватило... — радуется Софья Андреевна. — Все больше его узнаю, и все он мне милее. С каждым днем думаю, что так я еще его никогда не любила. И все больше. Ничего, кроме его и его интересов, для меня не существует».
В свою очередь Толстой записывает в дневнике: «Неимоверное счастье. Не может быть, чтобы это кончилось жизнью... Я люблю ее еще больше. Она прелесть».
Боясь спугнуть свое счастье, они, стоя рядом на коленях, молили Бога продлить их блаженство.
Приятель графа И. П. Борисов в 1862 году пророчески замечает: «Она — прелесть, хороша собою вся. Здраво умна, проста и нехитроумна — в ней должно быть и много характера, т. е. воля ее у нее в команде. Он в нее влюблен до Сириусов».
В Ясной Поляне Софья сразу взялась за хозяйство. Граф же начал «Войну и мир», и его жене приходилось каждый вечер переписывать начисто то, что он сочинил утром. Как пишет один из современников, «по семи раз она переписывала без конца им переделываемые, дополняемые и исправляемые произведения...».
С появлением детей в семье началась другая жизнь. Первый ребенок рождался в муках. Толстой находился рядом — вытирал жене лоб, целовал руки. Недоношенного, слабенького мальчика назвали Сергеем. «Сергулевич», — шутил Лев Николаевич. Вслед за Сергеем родилась Татьяна, потом появились на свет Илья, Лев, Мария, Андрей, Михаил, Александра, Иван. Еще четверо умерли в младенчестве.
Софья Андреевна ведет хозяйство безупречно: всех обшивает, сама издает сочинения мужа, принимает подписку, судится с мужиками, которые рубят барский лес. Бунин с нескрываемой симпатией пишет о жене писателя: «Софья Андреевна нравилась мне своей высокой, видной фигурой, черными, гладко зачесанными блестящими волосами, подвижным привлекательным лицом, выразительным крупным ртом, улыбкой и даже манерой присматриваться, щурить большие черные глаза. Настоящая женщина-мать, хлопотливая, задорная, постоянно защищающая свои семейные интересы, наседка!»
Толстой же не был создан для тихого семейного счастья. Как-то на вопрос жены, зачем он женился, граф с горячностью ответил: «Глуп был, думал тогда иначе... В браке люди сходятся только затем, чтобы друг другу мешать. Сходятся два чужих человека и на весь свой век остаются друг другу чужими. Говорят: муж и жена — параллельные линии. Вздор, это пересекающиеся линии; как только пересеклись, так и пошли в разные стороны».
К моменту переезда в Москву в 1881 году в семье Толстых было семеро детей. Лев Николаевич стал самым знаменитым писателем России.
Толстой все дальше уходит от мелочной суеты быта; он мечтает о ревизии основ христианских догм, о создании новой религии, «соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей блаженства на небе, но дающей блаженство на земле». Настроение Льва Николаевича улучшалось, когда он уходил на Девичье поле и работал вместе с мужиками: «...Бессмысленно связывать свое счастье с матерьяльными условиями — жена, дети, здоровье, богатство».
Софья Андреевна не разделяла новых идей мужа, его стремлений отказаться от собственности, жить своим, преимущественно физическим, трудом.
В мае 1884 года великий писатель говорил о своем одиночестве в семье: «Страдаю я ужасно... Они не видят и не знают моих страданий». 17 июня после тяжелого разговора с беременной женой он ушел по направлению к Туле, но, к счастью, возвратился с половины дороги. На следующий день у Толстых родилась младшая дочь Александра...
«До сих пор вижу, как он удаляется по березовой аллее, — вспоминала дочь Татьяна. — И вижу мать, сидящую под деревьями у дома. Ее лицо искажено страданием. Широко раскрытыми глазами, мрачным, безжизненным взглядом смотрит она перед собою. Она должна была родить и уже чувствовала первые схватки. Было за полночь. Мой брат Илья пришел и бережно отвел ее до постели в ее комнату. К утру родилась сестра Александра».
Это был первый уход Толстого. Тогда он вернулся, но не вернулись прежние отношения. Даже в переписке рукописей — то, чем Софья Андреевна самозабвенно занималась всю жизнь, — ей отказывают. «Теперь он дает все дочерям и от меня тщательно скрывает. Он убивает меня систематично и выживает из своей личной жизни, и это невыносимо больно. Бывает так, что в этой безучастной жизни на меня находит бешеное отчаяние. Мне хочется убить себя, бежать куда-нибудь, полюбить кого-нибудь».
В женщине Лев Николаевич в первую очередь хотел видеть мать и только потом жену. Он считал, что брак без детей — абсолютный грех, и в 1888 году, когда графу было уже шестьдесят, а Софье Андреевне сорок четыре, во время пребывания в Москве у них родился последний сын Иван. Роды были очень трудные. «Два часа эти я неистово кричала почти бессознательно», — писала Толстая сестре.
Лев Николаевич был рад рождению сына, но с женой оставался недолго. Через две с половиной недели он отправился в Ясную Поляну. «Он опять закусил удила: не ест мяса, не курит два месяца, не пьет вина, все дремлет и очень постарел». В поместье Толстой пашет землю, тачает сапоги, изрекает вечные истины в кругу своих приверженцев, приезжавших в поместье со всей России.
Софья Андреевна ненавидела окружение мужа: «Такие умственные силы пропадают в пиленье дров, в ставлении самоваров и в шитье сапог!»
23 февраля 1895 года умирает всеобщий любимец — шестилетний Ванечка. Родители безутешны. Лев Николаевич плакал. Софья Андреевна говорить не могла, только еще крепче сжимала руку мужа.
Графиню в то время буквально спасла музыка — и особенно музыка Сергея Ивановича Танеева. Отношения Толстой и Танеева были чисто платоническими, но духовная измена жены доставляла Льву Николаевичу огромные страдания. Он говорил и писал ей об этом неоднократно, но она только обижалась: «Я —честная женщина!» И продолжала принимать Танеева или ездила к нему сама.
Толстой часто и подолгу хворал. В его окружении всегда находились домашние врачи, а когда он заболевал, то покорно соглашался на консилиумы именитых медицинских светил.
В начале сентября 1901 года семья Толстых поселилась в Крыму на даче графини Паниной, так как доктора рекомендовали 73-летнему графу поменять климат из-за серьезного заболевания, перенесенного летом. На этот раз все обошлось. Лев Николаевич пошел на поправку.
Когда после десятимесячного пребывания в Крыму Толстые возвратились в Ясную Поляну, Софья Андреевна с облегчением записала в своем дневнике: «Благодарю Бога, что привелось привезти Льва Николаевича еще раз домой! Дай Бог больше никуда не уезжать!»
С ранней молодости Толстого преследовал безумный страх смерти, хотя он пытался убедить себя: «Смерть есть перенесение себя из жизни мирской (то есть временной) в жизнь вечную...» К смерти других людей Толстой относился значительно спокойнее. Когда опасно заболевшей Софье Андреевне врачи предложили операцию, он высказал особое мнение: «Я смотрю пессимистически на здоровье жены: она страдает серьезной болезнью. Приблизилась великая и торжественная минута смерти, которая на меня действует умилительно. И надо подчиниться воле Божией. Я против вмешательства, которое нарушает величие и торжественность акта. Все мы должны умереть не сегодня завтра, через пять лет. И я устраняюсь: я ни «за», ни «против».
Операция прошла успешно.
23 сентября 1910 года, на годовщину свадьбы Льва Николаевича и Софьи Андреевны, в Ясной Поляне собралась вся семья. В последний раз.
В начале октября у Толстого участились обмороки, сопровождавшиеся сильнейшими конвульсиями. Припадки повторялись по несколько раз за вечер. В конце месяца, собравшись с последними силами, граф тайно уехал из Ясной Поляны: «Не думай, что я уехал потому, что не люблю тебя. Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю... И дело не в исполнении каких-нибудь моих желаний и требований, а только в твоей уравновешенности, спокойном, разумном отношении к жизни. А пока этого нет, для меня жизнь с тобой немыслима... Прощай, милая Соня, помогай тебе Бог».
В ночь на 28 октября (10 ноября) он ушел. В дороге Льву Николаевичу стало хуже. На станции Астапово его положили в домике начальника станции.
В Ясной Поляне все в растерянности, и лишь «моя мать, — писала дочь Татьяна, — с лихорадочной поспешностью обо всем подумала, обо всем позаботилась. Она везла с собою все, что могло понадобиться отцу, она ничего не забыла».
Вместе с Софьей Андреевной на станцию приехали дочь Таня и сыновья Андрей и Михаил. Графиню до последних минут не пускали к мужу. В последнюю ночь, когда началась агония, ей разрешили войти в комнату, где он умирал. Софья Андреевна постояла, издали глядя на мужа, потом тихо подошла, поцеловала в лоб. Опустилась на колени и едва слышно произнесла: «Прости меня».
Он умер в 6 часов утра 7 ноября 1910 года на восемьдесят третьем году жизни. Софья Андреевна была глубоко несчастна: «Невыносимая тоска, угрызения совести, слабость, жалость до страданий к покойному мужу... Жить не могу».
Она осталась жить в Ясной Поляне. «И пусть люди снисходительно отнесутся к той, которой, может быть, непосильно было с юных лет нести на слабых плечах высокое назначение быть женой гения и великого человека», — напишет она в 1913 году в предисловии книги «Письма графа Л. Н. Толстого к жене».
Софья Андреевна тихо умерла, так же
как и муж, от пневмонии 4 ноября 1919 года. Ее желание было: «Похороните меня
по-христиански».
 Знаменитый
покоритель Гренландии Фритьоф Нансен был известен в Норвегии не только как
вдумчивый ученый, но и как великолепный лыжник. После Гренландской экспедиции
началось повальное увлечение этим видом спорта.
Знаменитый
покоритель Гренландии Фритьоф Нансен был известен в Норвегии не только как
вдумчивый ученый, но и как великолепный лыжник. После Гренландской экспедиции
началось повальное увлечение этим видом спорта.
...Однажды во время прогулки в лесу Фритьоф увидел в снежном сугробе две барахтающиеся ноги с лыжами. Он поспешил на помощь. Перед ним стояла девушка ослепительной красоты! Нансен влюбился в нее с первого взгляда... Прекрасная незнакомка холодно поблагодарила спасателя и посоветовала ему идти своей дорогой.
Эта встреча произошла еще до Гренландской экспедиции. Потом Нансен встречал девушку на улице. Ему удалось выяснить, что ее зовут Ева, что она дочь Михаэля Сарса, выдающегося зоолога, океанографа, профессора университета в Кристиании. Мать девушки, Марен, — известная собирательница народных песен и великолепная рассказчица старинных саг.
Сама Ева Саре обладала хорошим голосом, училась музыке в Берлине, славилась как отличная спортсменка. Говорили, что она окружена поклонниками и не отличается кротостью нрава.
Незадолго до начала Гренландской экспедиции один из знакомых привел Нансена в дом Марен Саре, где собирались поэты, художники, музыканты. На огонек часто заглядывал знаменитый поэт Бьернстьерне Бьернсон. Фритьоф провел приятный вечер, слушая рассказы Марен и пение Евы.
После возвращения из экспедиции, летом 1889 года, Фритьоф сделал Еве предложение, признавшись при этом, что собирается отправиться в новое далекое путешествие. «Куда?» — спросила она. «На Северный полюс!» — ответил он, не желая скрывать от близкого человека заветной мечты.
Перед свадьбой матери Евы пришлось поволноваться: Фритьоф сначала отказывался венчаться в церкви. Марен Саре долго уговаривала его, напоминала о религиозности отца, говорила о сплетнях, которые поднимутся вокруг брака, не освященного Церковью. И он сдался.
В церкви была давка. Еще бы! Молодой и уже знаменитый путешественник женится на молодой и уже известной певице!
Вместо веселого свадебного путешествия супруги поехали на географический съезд в Лондон. Рассказ о путешествии в Гренландию и планах новой экспедиции к полюсу повсюду производил глубочайшее впечатление и всякий раз заканчивался восторженным чествованием.
Вернувшись на родину, Нансены сначала поселились в усадьбе Сторе-Френ у Марты Ларсен, служившей когда-то экономкой у родителей Фритьофа. Но им хотелось иметь свой дом. Нансен решил поселиться не так далеко от города на берегу фьорда — скалы, сосны, море. Еве это место — Люсакер — тоже понравилось.
Поначалу здесь был выстроен совсем легкий дом, с полом, настланным прямо на земле, отчего в единственной комнате царил такой холод, что зимой по ночам замерзала вода в умывальнике. «В ту зиму он отучил меня мерзнуть!» — говорила Ева Нансен. В этом холодном, похожем на сарай помещении рождалась книга о Гренландии. Друзья шутили: «Автору легко было писать — он воображал себя вновь на материковом льду».
По предложению поэта Бьернстьерне Бьернсона новому дому в память прославленного эскимосского селения дали название «Готхоб» — «Добрая Надежда». Вся его обстановка была выдержана в национальном древне-норвежском стиле. Музыканты, артисты, художники часто собирались под крышей гостеприимного дома.
Счастливо текла жизнь в «Готхобе». В ночь под Новый год Нансены решили взобраться на гору Норе. Но несмотря на все трудности, они были счастливы и потом не раз вспоминали это приключение.
План похода к Северному полюсу Фритьоф вынашивал особенно долго, тщательно разрабатывая его во всех деталях. В этом ему неизменно помогала жена. Семья уже состояла из троих: родилась дочь Лив, что означает «Жизнь».
Теперь все гадали, как Нансен назовет свой корабль: «Ева», «Лив», «Норвегия» или, может быть, «Северный полюс»?
Поздней осенью 1892 года Ева Нансен твердым шагом приблизилась к носу нового корабля. Капитан Колин Арчер подал ей бутылку шампанского. Ева разбила бутылку о форштевень. «Фрам» — имя ему!» — громко произнесла она. «Фрам» по-норвежски означает «Вперед!».
На другой день в доме Нансена собрались друзья. Ева, снова беременная, пела старинные норвежские песни о героях, которых ждут жены...
Несколько недель после ухода «Фрама» она провела дома и никого не принимала. Первые заметки о гибели экспедиции на «Фраме» Ева Нансен прочитала в английских газетах. Потом норвежская «Утренняя почта» сообщила, что гибель «Фрама» не помешала Нансену дойти на лыжах до Северного полюса и открыть неизвестную землю. В других газетах писали, что адмирал Макаров строит ледокол, на котором русские пойдут искать Нансена к Земле Франца-Иосифа.
Назло всем сочувствующим и соболезнующим Ева появилась на улицах Кристиании веселая, улыбающаяся, жизнерадостная. Молва тотчас осудила ее за легкомыслие.
Ева Нансен взяла учеников и усердно занималась с ними музыкой. Ей предложили вспомнить былое и дать несколько концертов. Ева наотрез отказалась, но потом передумала.
Первый же концерт собрал массу публики, пришли послушать певицу Еву Саре и посмотреть, как выглядит жена Нансена. Газеты напечатали восторженные отзывы о концерте. Вдохновленная успехом, Ева пела в Кристиании, потом в Бергене, Стокгольме, Гетеборге...
Последние письма от Фритьофа она получила глубокой осенью 1893 года. Из конверта выпало несколько засохших цветов тундры — бледных, хрупких. Фритьоф послал их из Хабаровска. Он писал, что Ева везде с ним, во льдах и туманах, в работе и в мыслях. Он повторял, что верит в победу, но не согнется и при поражении.
Дрейф «Фрама» продолжался три года. Экспедиция завершилась триумфом Нансена и его друзей, о маленькой Норвегии заговорили на всех континентах. В 1897 году вышла в свет книга Нансена «Фрам» в полярном море » с посвящением: «Ей, которая дала имя кораблю и имела мужество ждать».
Фритьоф пообещал жене, что станет отшельником и будет писать научный отчет об экспедиции «Фрама». С раннего утра он уединялся в своем кабинете. Домашние старались как можно реже открывать обитую шкурами дверь. Пианино перенесли в самую дальнюю комнату. По вечерам Ева пела там вполголоса, готовясь к своему прощальному концерту. Она бросала сцену, чтобы заняться воспитанием дочери Лив и сына Коре.
«Готхоб» стал казаться тесным, неудобным для разросшейся семьи. Рядом со старым домом был построен новый, двухэтажный, получивший название «Нульхегда». Над ним поднималась башня. Там Нансен устроил рабочий кабинет. Мебель в новом доме была куда богаче, чем в «Готхобе», но ее не хватило на все комнаты. Нансен и Вереншельд расписали стены. Новоселье отметили карнавалом.
Фритьоф купил еще один дом далеко в горах. Бревенчатый, без всяких украшений, с крестьянскими столами и скамьями, с некрашеным полом; он стоял над озером.
Ева вела хозяйство, взяв на себя заботу о денежных делах, в которых Фритьоф был удивительно беспечным.
Фритьоф Нансен все больше уходил в политику. Выполняя поручения норвежского правительства, он переезжает из города в город. Копенгаген, Лондон, Берлин. Снова Копенгаген, Карльстад, Лондон, Кристиания, опять Копенгаген... Открытые совещания и тайные переговоры, газетные статьи и шифрованные донесения...
В качестве дипломата Нансен попадает в Лондон. Из окон гостиницы «Рояль-Палас», где временно разместилось норвежское посольство, виден Гайд-парк. Великосветские сплетники и сплетницы уже злословили, связывая его имя с другой...
Ева чувствовала перемену в том, кого любила, кому верила, и постоянная тревога сделала ее раздражительной, замкнутой. Письма от Фритьофа приходили часто, но была в них какая-то сухость, отчужденность, недосказанность.
До Норвегии докатились слухи о какой-то даме из самого высшего лондонского общества. Намекали, что Нансен пользуется симпатиями женщины из королевской семьи. В одном из писем Фритьоф признался Еве, что давно мучился «всем этим», не имея мужества сознаться. Он запутался, или, может быть, его запутали. Но «теперь там все кончено». Он любил и любит только Еву, одну Еву...
Потянулись мучительные дни. Каждый день из Лондона приходили письма, полные раскаяния. Наконец Ева телеграфировала: «Понимаю все, буду тебе помогать».
Она приехала к мужу в Лондон и тут же получила приглашение во дворец. Придворные дамы мило улыбались ей, а за спиной она слышала насмешливый шепот.
Приемы следовали за обедами, обеды — за банкетами. Через неделю Ева почувствовала себя разбитой, усталой. Ей хотелось домой, к детям, и она уехала в Норвегию. Нансен же остался в Лондоне — встречался с дипломатами, ездил с влиятельными лицами охотиться на лисиц, посещал балы, сопровождал королевскую чету в поездке на север... Опять ненадолго приезжала Ева, и снова говорили они о том, что уж теперь-то подписания договора осталось ждать совсем недолго...
Пришло лето, и, потеряв терпение, Фритьоф взял короткий отпуск. Ненадолго задержавшись в Кристиании, он поспешил в Серке. Горный дом ждал его. Дети собрали морошку, наловили форелей. Отец пришел со станции пешком, с рюкзаком за плечами.
Давняя мечта об экспедиции в Антарктику по-прежнему не отпускала Фритьофа. Это настоящее большое дело. И когда другой полярный исследователь, Амундсен, просит одолжить ему «Фрам», Нансен спрашивает совета у жены. Ева говорит, что она привыкла ждать и готова терпеть и дальше. Пусть он не думает о ней и детях. Нансен все же передает «Фрам» Амундсену.
«Я не могу забыть, какой чуткой и доброй ты была, когда мы говорили о "Фраме"... — писал он Еве. — Скоро я закончу здесь все работы, и мы опять будем вместе».
«Тот, кто любит, счастлив, если чем-либо помогает любимому в его труде, — отвечала Ева. — Помни об этом на будущее. Уедешь ты или останешься около меня — я все равно благодарю Бога, что мы встретились когда-то. Лучше с тобой и с грустью, чем без грусти с банальным человеком, который ничего не ищет и никуда не стремится».
Потом из Лондона пришло долгожданное письмо: «Родная, договор будет подписан в ближайшие дни. Моя долгая и тяжелая миссия заканчивается».
6 декабря — день рождения Евы. Поздравительная телеграмма из Лондона лежала под подушкой. Ева несколько раз перечитывала ее. Фритьоф писал, что скоро вернется домой и у них будет впереди много счастливых лет.
Когда дочь пришла вечером пожелать спокойной ночи, Ева сказала: «Лив, если со мной что случится, помогай отцу, помогай Коре и маленьким».
Через несколько дней врач телеграфировал в Лондон: «Положение Евы серьезное, выезжайте немедленно». Но Нансен, которого встревожили первые же известия о болезни жены, был уже в дороге.
Ева прошептала: «Бедный, он опоздал...» Это были ее последние слова.
...Долгие недели никто не видел Нансена. Он закрылся в своей башне. Потом Фритьоф неожиданно уехал в горный дом.
Говорили, что в снежную бурю он пошел на лыжах к заросшему темными елями ущелью, куда раньше ходил с Евой. В руках у него видели что-то похожее на погребальную урну; и тут вспомнили, что перед смертью Ева просила отдать ее пепел горным ветрам. Как все было — никто не знает точно. Фритьоф Нансен никогда никому и ничего не говорил об этом. Но в Норвегии нет могилы Евы Нансен...
Фритьоф долго болел. Врачи говорили о подавленном состоянии духа, о последствиях тяжелого душевного потрясения.
Но постепенно жизнь возьмет свое, и
в 1919 году Нансен женится на Зигрун Мунте, с которой проживет одиннадцать лет,
до самой своей смерти, настигшей великого норвежца 13 мая 1930 года.
 Будущий
император Николай II родился в 1868 году в семье Александра III и Марии
Федоровны. Императрица была дочерью короля Дании Кристиана и в девичестве
звалась Дагмарой.
Будущий
император Николай II родился в 1868 году в семье Александра III и Марии
Федоровны. Императрица была дочерью короля Дании Кристиана и в девичестве
звалась Дагмарой.
Николай вырос в атмосфере роскошного императорского двора, но в строгой и, можно сказать, почти спартанской обстановке. Получив начальное образование, он перешел к изучению дисциплин, предусмотренных программами Академии Генерального штаба и двух факультетов университета — юридического и экономического.
Николая произвели в штабс-капитаны и определили в лейб-гвардии Преображенский полк. Для приобщения к кавалерийской службе отец перевел его в лейб-гвардии Гусарский полк, где он командовал эскадроном.
В 1890 году обучение наследника завершилось. В мае месяце Николай записал в своем дневнике: «Сегодня окончательно и навсегда прекратил свои занятия».
Любопытно, что первую любовь Николай испытал к принцессе Алисе Гессенской, которая через несколько лет станет его женой. Впервые они встретились в 1884 году в Петербурге на свадьбе Эллы Гессенской (старшей сестры Алисы) с великим князем Сергеем Александровичем. Ей было 12 лет, ему — 16. В 1889 году Алике провела в Петербурге шесть недель. Позже Николай писал: «Я мечтаю когда-нибудь жениться на Алике Г. Я люблю ее давно, но особенно глубоко и сильно с 1889 года... Все это долгое время я не верил своему чувству, не верил, что моя заветная мечта может сбыться».
Императрица Мария Федоровна принципиально противилась браку с германской принцессой (всю свою жизнь она была убежденной германофобкой).
Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса (таково было ее полное имя) родилась в Дармштадте в 1872 году и была четвертой дочерью герцога Гессенского Людвига и его жены, герцогини Алисы Английской, — младшей дочери королевы Виктории.
Когда Алике было шесть лет, вместе с сестрами и матерью она заболела дифтерией; сама поправилась, но мать и самая младшая сестренка Мэри двух лет от роду умерли. Алике не только осиротела, но и осталась самым младшим ребенком в семье великого герцога Гессенского Людвига IV. Внучку взяла к себе на воспитание королева Виктория. Никто не знал, что Алиса Английская была носителем гена гемофилии.
С детства Алике была чрезвычайно замкнутым и серьезным ребенком, своими интересами поражавшая окружающих. С ранних пор тянулась к литературе, постоянно читала и конспектировала книги по философии и теологии. Позднее она была удостоена степени доктора философии Кембриджского университета.
Тем временем цесаревич Николай увлекся балериной Кшесинской. Но даже в этот период он не забывал об Алике. Кшесинская писала позже: «Он от меня не скрыл, что из всех тех, кого ему пророчили в невесты, он ее считал наиболее подходящей, что к ней его влекло все больше и больше, что она будет его избранницей, если на то последует родительское разрешение...»
Весной 1894 года Александр III и Мария Федоровна уступили желаниям сына. Но оставалось еще одно препятствие к браку — невеста должна была перейти в православие. Зная, сколь серьезно Алике относится к религии, Николай понимал, что этого будет нелегко добиться.
В апреле цесаревич со своими дядьями, великими князьями Сергеем и Владимиром, а также их женами, выехал из Петербурга в Кобург на свадьбу герцога Гессенского, старшего брата Алике.
Во время этого визита Николай сделал Алике предложение. «Что сегодня за день! — писал он в дневнике. — После кофе в 10 часов я пошел с тетей Эллой к Алике. Она замечательно похорошела, но выглядела чрезвычайно грустно. Нас оставили вдвоем, и тогда между нами начался тот разговор, которого я давно и сильно желал и, вместе, очень боялся. Говорили до 12 - 14 часов, но безуспешно, она все противится перемене религии. Она, бедная, много плакала. Расстались более спокойно».
Но уже на следующий день Алике капитулировала. Николай ликующе записал в дневнике: «Чудный, незабвенный день в моей жизни, день моей помолвки с дорогой и ненаглядной моей Алике...»
В июне Николай еще раз посетил Англию, где встречался с Алике. Возвратившись в Гатчину, цесаревич застал семью в большой тревоге за здоровье отца. Но несмотря на недомогание, император поехал на охоту в Спалу. Здесь Александру стало еще хуже. По настоянию врачей он переехал в Ливадию, в Крым. Николай сопровождал его.
В октябре в Крым приехала Алике. Какое счастье доставила бы эта встреча при других обстоятельствах! Но для Николая наступает время тревог и бесконечных забот.
20 октября Александр III умер.
На другой день, когда дворец задрапировали в черное, Алике приняла православие и с этого дня стала именоваться великой княгиней Александрой Федоровной.
7 ноября произошло торжественное погребение покойного императора в Петропавловском соборе в Петербурге, а через неделю состоялось бракосочетание Николая и Александры. Эта свадьба, сыгранная среди поминальных панихид, произвела на всех современников тягостное впечатление.
Сразу после свадебной церемонии императорская чета переехала в Аничков дворец. Здесь, в апартаментах, состоящих из шести комнат, они провели первую зиму. Николай занимался государственными делами в небольшом кабинете, а в соседней комнате его жена изучала русский язык; они могли видеться, когда хотели, и были безмерно счастливы этим. Вскоре после свадьбы Александра записала в дневнике своего мужа: «Никогда не предполагала, что могу быть такой абсолютно счастливой в целом мире, так чувствовать единство двух смертных».
Весной 1895 года Николай перевез жену в Царское Село. Они поселились в Александровском дворце, который оставался главным домом императорской четы в течение 22 лет. Все здесь было устроено согласно их вкусам и желаниям, и поэтому Царское всегда оставалось их любимым местом.
Став императрицей, Александра Федоровна оказалась в атмосфере изысканного и богатого российского двора, настроенного к ней довольно прохладно. Свое влияние здесь долго сохраняла вдовствующая императрица, не проявлявшая особых симпатий к невестке. В окружении Марии Федоровны принцесса Алиса получила оскорбительное прозвище Гессенская муха. Врожденная застенчивость молодой царицы, принимавшаяся часто за холодную надменность, не способствовала росту ее популярности.
Царица пыталась укрыться от окружающего мира в семье. Через год после свадьбы у нее родилась дочь Ольга. В 1897 году родилась Татьяна, в 1899-м — Мария, в 1901-м — Анастасия. Заботы о детях или воспитание и образование занимали ее постоянно. Однако полного счастья все-таки не было. Отец и мать страстно хотели иметь сына. Нужен был наследник, но годы шли, а сына все не было.
12 августа 1904 года в императорской семье родился пятый ребенок. К великой радости родителей, это оказался мальчик. Николай записал в своем дневнике: «Великий, незабвенный для нас день, в который так явно посетила нас милость Божья. В 1 час дня Алике родила сына, которого при молитве нарекли Алексеем».
Однако безмерная радость довольно скоро была омрачена трагическим открытием: цесаревич страдал гемофилией (несворачиваемостью крови), которая была наследственной болезнью в гессенском роду. От этого страшного недуга умерли брат, дядя и два племянника Александры Федоровны. Страх за жизнь наследника, подвергавшегося серьезной опасности при любом ушибе или царапине, навсегда поселился в душе императрицы.
Следующие годы прошли в тяжелой борьбе за жизнь и здоровье наследника. Особенно переживала за Алексея императрица, которая сделалась мнительной и крайне религиозной. Потеряв веру в врачей, она все свои надежды возложила на милость Божию. Всякого рода странники и Божьи люди стали желанными гостями в императорской семье. Постепенно среди них выделился и набрал огромную силу сибирский крестьянин Григорий Распутин.
Впервые Распутин появился в Петербурге в 1905 году, когда ему было 30 лет. Этот человек обладал феноменальным даром внушения. Он пророчествовал — и многие из его предсказаний сбывались, он брался лечить людей — и действительно, после общения с ним многие испытывали облегчение.
Григорий Распутин оказался единственным человеком, способным облегчить страдания наследника. О том, что Алексей тяжко болен, и о силе распутинских чар за пределами узкого семейного круга никто не знал.
Общение Распутина с Николаем и Александрой точно соответствовало его роли. Он был почтителен, но никогда не раболепствовал; он мог громко смеяться и свободно высказывать критические замечания. Григорий обращался к царствующим особам, называя их не «Ваше Величество», а «батюшка» и «матушка». В 1912 году в Спале цесаревич Алексей после сильнейшего кровоизлияния едва не умер. Доктора признали свое бессилие, и только таинственное вмешательство Распутина в очередной раз спасло наследника. С этого времени авторитет Распутина в глазах императорской четы стал безграничным.
Николай очень любил свою семью. Каждый день он совершал с детьми прогулки. Зимой император вместе с детьми увлеченно строил ледяные горки. Вечером часто сидел в семейной гостиной, читая вслух, в то время как жена и дочери рукодельничали. По его выбору это мог быть Толстой, Тургенев или его самый любимый писатель — Гоголь. Но мог быть и какой-нибудь модный роман.
Между тем Россия переживала один из самых бурных этапов своей истории. Вслед за японской войной началась первая революция, подавленная с огромным трудом. Императору пришлось согласиться на учреждение Государственной думы. Следующие семь лет были прожиты в покое и даже при относительном процветании.
В утешении и поддержке царя Александра Федоровна видела одну из главных целей своей жизни. Постоянно присутствовал и все время усиливался страх за жизнь Николая, и это чувство, после убийства в 1905 году революционерами мужа сестры Эллы, приняло маниакальный характер. «Кругом вражда и заговор!» — восклицала императрица неоднократно. Спокойствие и душевное равновесие она обретала в молитве и в беседах на духовные темы, которые охотно и часто вела и в кругу семьи, и вне ее со священниками и различными «Божьими людьми» — странниками, предсказателями, ясновидящими.
Одно время казалось, что России удастся избежать новых социальных потрясений, но вспыхнувшая в 1914 году Первая мировая война сделала революцию неизбежной.
Стараясь творить добро, Александра Федоровна занялась деятельностью, просто немыслимой для человека ее звания и положения. Она не только патронировала санитарные отряды, учреждала и опекала лазареты, в том числе и в царскосельских дворцах, но вместе со своими старшими дочерьми окончила фельдшерские курсы и стала работать медсестрой.
Сокрушительные поражения русской армии весной и летом 1915 года вынудили Николая лично возглавить армию. С тех пор он много времени проводил в Могилеве и не мог глубоко вникать в государственные дела. Александра с большим рвением взялась помогать мужу. По всем вопросам императрица советовалась с Распутиным. Влияние последнего на все стороны государственной жизни как раз в это время страшно возросло. Дело дошло до того, что по его капризу назначали и меняли министров. Все, кто заботился о престиже династии, — министры, великие князья, генералы и депутаты Думы — сходились на том, что Распутина нужно устранить. В декабре 1916 года «великий старец» был умерщвлен. На смерть «своего друга» императрица написала поэму.
В ходе Февральской революции Николай II подписал отречение от престола в пользу брата Михаила, однако тот отказался принять власть.
Положение императорской семьи между тем постепенно ухудшалось. Под давлением Петроградского совета Временное правительство арестовало царскую семью и заключило ее под стражу в Царскосельском дворце.
Николай и Александра возобновили занятия с детьми. Сам Николай взял на себя преподавание истории и географии. По газетам и журналам он с острым интересом следил за политическими и военными событиями. Много и подолгу возился с детьми, сам чистил снег на дорожках и много читал.
Ситуация в стране снова начала обостряться. Глава Временного правительства Керенский решил, что в целях безопасности царскую семью надо отправить подальше от столицы. После долгих колебаний он приказал перевезти Романовых в Тобольск.
Дом тобольского губернатора, назначенный для жизни низложенного государя и его семьи, оказался полуразрушенным. В течение восьми дней, пока шел ремонт, Романовы жили на пароходе. 13 августа состоялся переезд. В этом доме царская семья прожила восемь месяцев.
Будущее стало внушать Николаю все большую тревогу. Октябрьский переворот произвел на него тягостное впечатление.
22 апреля в Тобольск приехал комиссар Яковлев с бойцами. У него был приказ перевезти Романовых в Москву. Под Омском поезд был остановлен, и Яковлев получил приказ передать царскую семью в руки Уральского совета в Екатеринбурге. С вокзала Романовых доставили на автомобиле в дом купца Ипатьева.
В ночь на 17 июля Николай II, Александра, их дети и четверо приближенных были расстреляны в подвале по постановлению Уральского совета.
Спустя восемьдесят лет останки царской семьи были
захоронены в Екатерининском приделе бывшей зимней церкви Петропавловского собора
в Санкт-Петербурге.
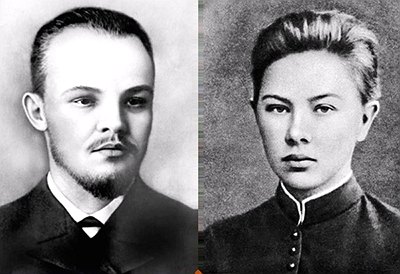 В
январе 1894 года в Петербург приезжает молодой революционер Владимир Ульянов. За
спиной скромного двадцатичетырехлетнего провинциала было, однако, немало
переживаний: внезапная смерть отца, казнь старшего брата Александра, смерть от
тяжелой болезни любимой сестры Ольги. Он прошел слежку за собой, арест, легкую
ссылку в имение матери.
В
январе 1894 года в Петербург приезжает молодой революционер Владимир Ульянов. За
спиной скромного двадцатичетырехлетнего провинциала было, однако, немало
переживаний: внезапная смерть отца, казнь старшего брата Александра, смерть от
тяжелой болезни любимой сестры Ольги. Он прошел слежку за собой, арест, легкую
ссылку в имение матери.
В Петербурге Ульянов устанавливает легальные и нелегальные связи с марксистами города, руководителями некоторых социал-демократических кружков, заводит новые знакомства. В феврале на квартире инженера Классона состоялась встреча группы марксистов города. Владимир знакомится с двумя активистками — Аполлинарией Якубовой и Надеждой Крупской.
После этого Ульянов часто встречается с подругами как вместе, так и порознь. По воскресеньям он обычно наносил визиты в семью Крупских.
Надежда жила вместе с матерью Елизаветой Васильевной. Отец, Константин Игнатьевич, умер в 1883 году. Окончив Кадетский корпус, он получил должность начальника уезда в польском Гроеце. Но из-за политической неблагонадежности со службы был уволен. Понадобилось восемь лет, чтобы восстановить справедливость...
Надежда, родившаяся в 1869 году, училась в одной из лучших школ России — гимназии княгини Оболенской. Но уже в четырнадцать лет она была взята под опеку революционеров. Окончив восьмой педагогический класс, Крупская получила диплом домашней наставницы и успешно преподавала, готовя к экзаменам учениц гимназии княгини Оболенской.
Осенью 1890 года Надя бросает престижные женские Бестужевские курсы. Она штудирует книги Маркса и Энгельса, ведет занятия в социал-демократических кружках.
В январе 1898 года Ульянов просит директора Департамента полиции продолжить отбывание ссылки в Шушенском Крупской как своей невесты. Надежда Константиновна пишет, что это она «перепросилась в село Шушенское Минусинского уезда, где жил Владимир Ильич, для чего объявилась его «невестой».
Надежда получила разрешение ехать вместе с матерью. Елизавета Васильевна будет сопровождать супружескую чету везде, куда ее забросит судьба «профессионального революционера». Они приехали к Ульянову в начале мая, проделав немалый путь по железной дороге, на пароходе, лошадьми.
Елизавета Васильевна хотела, чтобы венчание было по всей форме. И хотя молодые (впрочем, Ульянову уже исполнилось двадцать восемь лет, а Крупской на год больше) довольно давно стали на тропу безбожия, они были вынуждены подчиниться матери.
Владимир пригласил на свадьбу Кржижановского, Старкова, других друзей из ссыльных. 10 июля 1898 года состоялась скромная свадьба, на которой свидетелями были простые крестьяне из Шушенского.
Шушенская ссылка (1898 - 1900) описана самой Крупской как счастливое время жизни. Она писала: «Мы ведь молодожены были — и скрашивало это ссылку. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти. Мещанства мы терпеть не могли, и обывательщины не было в нашей жизни. Мы встретились с Ильичом уже как сложившиеся революционные марксисты — это наложило печать на нашу совместную жизнь и работу».
Надежда Константиновна сразу становится «домашней», незаменимой при подборе материала, переписке отдельных фрагментов. Некоторые главы своих рукописей Ульянов читает супруге, однако с ее стороны критических замечаний всегда мало.
Для молодой женщины семья всегда связана не только с мужем, но и с детьми. Так было суждено, что этот брак оказался бездетным. Супруги никогда публично, даже с близкими людьми, не делились своей болью по этому поводу. Правда, Владимир Ильич в одном из писем к матери, когда они уже уехали из Шушенского, довольно прозрачно сказал о болезни жены (она в то время не была с ним в Пскове). «Надя, — писал Ульянов, — должно быть, лежит: доктор нашел (как она писала с неделю тому назад), что ее болезнь (женская) требует упорного лечения, что она должна на 2 - 6 недель лечь. Я ей послал еще денег (получил 100 р. от Водовозовой), ибо на лечение понадобятся порядочные расходы...» Позже, уже за границей, Крупская заболела базедовой болезнью, пришлось делать операцию. В письме матери Ульянов сообщал, что Надя «была очень плоха — сильнейший жар и бред, так что я перетрусил изрядно...».
Оказавшись за границей, Крупская быстро приняла тот щадяще-прогулочный режим, которого придерживался Ульянов. Из Женевы Владимир Ильич пишет: «...все еще веду летний образ жизни, гуляю, купаюсь и бездельничаю»; из Финляндии: «Здесь отдых чудесный, купанье, прогулки, безлюдье, безделье. Безлюдье и безделье для меня лучше всего...» Из Франции: «Мы едем на отдых в Бретань, вероятно, в эту субботу...»
Полтора десятка лет провели Ульяновы за рубежом. Постоянного источника дохода у них не было. До начала войны Надежда Крупская получила наследство от своей тетки, умершей в Новочеркасске; кроме того, Анна с Елизаровым и Мария продолжали эпизодически высылать деньги Владимиру...
В конце декабря 1909 года супруги после долгих колебаний переехали в Париж, где Ульянову было суждено встретиться с Инессой Арманд. Прелестная француженка, очаровательная жена богача Арманда, одинокая ссыльная, пламенная революционерка, истая большевичка, верная ученица Ленина, многодетная мать. Судя по переписке Владимира и Инессы (значительная часть которой сохранилась), можно сделать вывод, что отношения этих людей были озарены светлыми чувствами.
Как рассказывала А. Коллонтай, «вообще Крупская была "au corant" (в курсе. — фр.). Она знала, что Ленин был очень привязан к Инессе, и не раз выражала намерение уйти. Ленин удержал ее».
Надежда Константиновна считала, что в Париже пришлось провести самые тяжелые годы эмиграции. Но она не устраивала сцен ревности и смогла установить с красивой француженкой внешне ровные, даже дружеские отношения. Та отвечала Крупской тем же...
Однако между супругами были теплые отношения. Надежда Константиновна волнуется за мужа: «С самого начала съезда нервы Ильича были напряжены до крайности. Бельгийская работница, у которой мы поселились в Брюсселе, очень огорчалась, что Владимир Ильич не ест той чудесной редиски и голландского сыру, которые она подавала ему по утрам, а ему было и тогда уже не до еды. В Лондоне же он дошел до точки, совершенно перестал спать, волновался ужасно».
Владимир ценит жену и соратницу: «Ильич лестно отзывался о моих обследовательских способностях... я стала его усердным репортером. Обычно, когда мы жили в России, я могла много свободнее передвигаться, чем Владимир Ильич, говорить с гораздо большим количеством людей. По двум-трем поставленным им вопросам я уже знала, что ему хочется знать, и глядела вовсю», — писала Крупская спустя много лет после смерти мужа.
Скорее всего, без верной подруги Владимир Ильич никогда не добился бы всех своих ошеломляющих успехов.
Долгожданное чаще всего приходит неожиданно. «Однажды, когда Ильич уже собрался после обеда в библиотеку, а я кончила убирать посуду, пришел Вронский со словами: "Вы ничего не знаете?! В России революция!" Мы пошли к озеру, там на берегу под навесом вывешивались все газеты... В России действительно была революция».
Они возвращались в феврале 1917 года в Россию, мыслями о которой жили повседневно и в которой не были много лет. В пломбированном вагоне Крупская и Арманд ехали в одном купе.
В России Надежда Константиновна встречается с мужем урывками, но держит его в курсе всех дел. А он, видя ее способности, все больше нагружает Крупскую делами.
Осенью с 1917 года события стремительно нарастают. Днем 24 октября Надежду Константиновну находят в Выборгской районной думе и передают записку. Она раскрывает ее. Ленин пишет в ЦК большевиков: «Промедление в восстании смерти подобно».
Крупская понимает — час настал. Она бежит в Смольный. С этой минуты она неразлучна с Лениным. Эйфория счастья и успеха прошла быстро. Жестокие будни съели радость.
Летом 1918 года Крупская поселилась в Кремле в скромной, специально оборудованной для нее с Лениным маленькой квартирке. Она не возражала.
А потом была Гражданская война. Борьба с контрреволюцией. Болезни Надежды Константиновны. Выстрел эсерки Фани Каплан в Ленина. Смерть Инессы Арманд...
Внезапная болезнь мужа испугала Надежду Константиновну. Что бы там ни говорили, супруги были привязаны друг к другу. Елизавета Драбкина вспоминает рассказ своего друга, курсанта кремлевских курсов Вани Троицкого, как однажды, когда он поздно вечером дежурил на посту у квартиры Ленина в Кремле, Владимир Ильич попросил его, если он услышит внизу на лестнице шаги Надежды Константиновны, задержавшейся на каком-то заседании, постучать в дверь и позвать его. Ваня вслушивался в ночную тишину. Все было тихо. Но вдруг отворилась дверь квартиры, и быстро вышел Владимир Ильич.
— Никого нет, — сказал Ваня.
Владимир Ильич сделал ему знак.
— Идет, — прошептал он заговорщически и сбежал вниз по лестнице, чтобы встретить Надежду Константиновну: она шла, ступая совсем тихо, но он все же услыхал».
И вот Ленин сражен первым приступом болезни. Крупская по долгу и праву жены дежурит у постели Владимира Ильича. Над больным склоняются лучшие врачи и выносят вердикт: полный покой.
Центральный Комитет ВКП(б) поручает своему генсеку товарищу Сталину ответственность за соблюдение режима, установленного врачами.
21 декабря Ленин попросил, а Крупская написала под его диктовку письмо Троцкому по поводу монополии внешней торговли.
Узнав об этом, Сталин по телефону не пожалел грубых слов для Надежды Константиновны. И в завершение сказал: она нарушила запрещение врачей, и он передаст дело о ней в Центральную контрольную комиссию партии.
Ссора Крупской со Сталиным произошла через несколько дней после начала болезни Ленина, в декабре 1922 года. Ленин узнал о ссоре 5 марта 1923 года и продиктовал секретарше письмо Сталину: «Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу вас взвесить, согласны ли вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения».
После диктовки Ленин был очень взволнован. Это заметили и секретарши, и доктор Кожевников.
На следующее утро он попросил секретаршу перечитать письмо, передать лично в руки Сталину и получить ответ. Вскоре после ее ухода его состояние резко ухудшилось. Поднялась температура. Отнялась речь. На левую сторону распространился паралич.
Почти целый год еще Владимир Ильич жил. Дышал. Она не отходила от него.
21 января 1924 года в 6 часов 50 минут вечера В. И. Ульянов в возрасте 54 лет скончался.
Ни слезинки не увидели люди в глазах Крупской в дни похорон. Говорила на панихиде, обращаясь к народу и партии: «Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память - всему этому он придавал при жизни такое малое значение, так тяготился этим. Помните, что многое еще не устроено в нашей стране...»
Крупская пережила мужа на пятнадцать лет. Давняя болезнь мучила и изнуряла ее. Она не сдавалась. Каждый день работала, писала рецензии, давала указания, учила жить. Написала книгу воспоминаний. Наркомпрос, где она работала, окружил ее любовью и почитанием, ценя природную душевную доброту Крупской, уживавшуюся вполне мирно с суровыми идеями.
Из жизни Крупская ушла как-то внезапно. Да, она была уже немолода и много болела, но в смерти ее есть тайна. Пожалуй, самая большая загадка — это то, о чем она собиралась говорить на съезде партии. Не исключено, что эта речь могла быть направлена и против Сталина. Утром 24 февраля 1939 года Надежда Константиновна, как обычно, работала, а днем к ней в Архангельское приехали друзья — отметить приближающееся семидесятилетие. Сталин прислал торт. Все дружно ели его.
В 7 часов вечера она внезапно почувствовала себя очень плохо.
Вызвали врача, но он приехал через три с половиной часа. Диагноз поставили
сразу: «острый аппендицит-перитонит-тромбоз». Необходима была срочная операция,
но ее так и не сделали. Надежда Константиновна умерла 27 февраля. Сталин лично
нес урну с прахом Крупской.
 Супружеский
союз Франклина Делано Рузвельта и Элеоноры Рузвельт был сложным. Они составляли
уникальный политический альянс.
Супружеский
союз Франклина Делано Рузвельта и Элеоноры Рузвельт был сложным. Они составляли
уникальный политический альянс.
Элеонора родилась 11 октября 1884 года. Ее девичья фамилия была тоже Рузвельт. Говорят, что женщина, выходя замуж и меняя фамилию, меняет судьбу. Элеоноре не пришлось менять ничего: ее отец — Эллиот Рузвельт — был младшим братом Теодора Рузвельта, ставшего в 1901 году президентом США.
Эллиот умер, когда дочери было десять лет. Двумя годами ранее скончалась ее мать Энни Холл, оставив девочку на попечение суровой бабушки-пуританки.
Элеонора была умна, обладала сильным характером. Ее достоинствами считались хорошая фигура, красивые глаза и волосы. На девушку обратил внимание ее дальний родственник — Франклин Делано Рузвельт. Он родился 30 января 1882 года в имении Гайд-Парк на берегу реки Гудзон. Его отец, Джеймс Рузвельт, был вице-президентом ряда корпораций. Мать, Сара Делано, происходила из семьи, также принадлежавшей к высшим слоям общества.
Франклин окончил элитарную школу в Гротоне и Гарвард, где был в числе лучших студентов. В 1904 году он поступил в Школу права Колумбийского университета.
Сара Делано Рузвельт, женщина властная, пыталась препятствовать браку сына с Элеонорой. Но все же в марте 1905 года свадьба состоялась. Посаженным отцом на ней был Теодор Рузвельт, за две недели до этого введенный в должность президента США на второй срок.
Летом молодожены совершили длительное свадебное путешествие по Европе, посетив Англию, Францию, Италию, Швейцарию и Германию.
После возвращения Рузвельты, получившие в наследство двести тысяч долларов, переехали в Нью-Йорк. Франклин поступил на работу в известную фирму «Картер, Ледиярд энд Милберн» на должность старшего клерка.
Для Америки типичны большие семьи, и Рузвельты не стали исключением: в 1906 году родилась Энн, в 1907-м — Джеймс, в 1909-м — Франклин (который, прожив несколько месяцев, умер), в 1910-м — Эллиот, в 1914-м — второй Франклин, в 1916 году — Джон. Однако главой семьи фактически была Сара Рузвельт, контролирующая все семейные расходы. Она даже нанимала воспитателей для внуков.
Элеонора какое-то время терпела такое положение вещей, пока однажды по своему усмотрению не уволила няню, скрытую алкоголичку. Такой, казалось бы, небольшой самостоятельный шаг многое определил в ее дальнейшей судьбе.
К этому времени энергичный Франклин Рузвельт стал помощником морского министра в администрации Вудро Вильсона. У Элеоноры появилось больше обязанностей, и она была вынуждена нанять секретаря — привлекательную женщину Люси Пейдж Мерсер. Как это часто случается, Франклин увлекся этой женщиной.
В 1918 году Элеонора предложила мужу развод. Рузвельт обладал высоким чувством долга, любил детей, был привязан к жене, но и заботился о своей политической карьере, стремясь к президентскому посту. Сара Рузвельт пригрозила сыну в случае развода лишением материальной поддержки, да и Люси Мерсер, будучи католичкой, понимала, что не может рассчитывать на брак с разведенным мужчиной. Элеоноре удалось отстоять семью. Но измена мужа нанесла ей глубокую душевную травму. Их сын Джеймс называл отношения родителей «вооруженным перемирием, длившимся до самой смерти отца».
Политическая карьера Рузвельта складывалась неровно. Он неудачно баллотировался на пост вице-президента США в 1920 году, а в следующем закончилась его деятельность на посту помощника морского министра. Франклин ушел с государственной службы, заняв должность вице-президента крупной страховой компании, которая обеспечила ему финансовое благополучие и возможность готовиться к президентским выборам.
Но удары судьбы подстерегают человека неожиданно. Летом 1921 года семья проводила отпуск в своей загородной резиденции в Кампобелло, на острове в заливе Фанди у берегов штата Мэн. Именно там Франклин Рузвельт заболел полиомиелитом, парализовавшим нижнюю половину тела. Он вышел из испытания калекой, не покидавшим инвалидной коляски (за исключением тех случаев, когда приходилось появляться на публике).
Свои новые обязанности — уход за больным супругом — Элеонора разделила с помощником и другом Франклина — Луисом Хау и секретаршей Маргарет А. Ле Хэнд (Мисси). Они настаивали на том, чтобы Рузвельт не прекращал свою политическую деятельность и не возвращался как пенсионер в Гайд-парк. Потеря подвижности вынудила Франклина больше полагаться на свое искусство увлекательной беседы и переписку с друзьями по партии по всей стране.
Еще до того как в 1928 году Франклин Рузвельт стал губернатором штата Нью-Йорк, Элеонора приобрела известность в качестве активистки женского движения. Она начала писать статьи для различных журналов, выступать с публичными лекциями, которые не только собирали аудиторию, но и приносили немалые средства.
В 1932 году Франклин Рузвельт был избран президентом охваченной Великой депрессией Америки, а его супруга стала самой вездесущей «первой леди» в истории. Она колесила по стране, инспектируя все подряд — от тюрем до угольных шахт. Элеонора вполне заслужила такие сравнения, как Большой каньон, Ниагарский водопад, Чудо природы. Часто о ней говорили как об американском феномене. Интересно, что Элеонора Рузвельт всегда ездила по стране как частное лицо, отказавшись от опеки службы безопасности.
Первая леди решительно отметала все обвинения. Еще в начале президентства Франклина она объявила себя его совестью. Элеонора была полна решимости расширять круг реформ, обещанных «Новым курсом» своего мужа.
В ее деятельности обнаруживались феминистские проявления. Например, на еженедельные пресс-конференции она допускала только журналисток, ведь даже на очень демократичные пресс-конференции ее супруга женщинам-репортерам путь был закрыт.
Франклин далеко не всегда разделял ее позиции. По своим общественным взглядам Элеонора была более либеральна, в то время как ее супруг часто придерживался консервативной точки зрения. Однако Рузвельт понимал, что позиция жены привлекала к нему представителей либеральных кругов. Несмотря на некоторые разногласия, супруги все-таки были единомышленниками.
Избирательная кампания Рузвельта 1936 года, проходившая под лозунгом «Встреча с судьбой», показала впечатляющие для демократов результаты. За них проголосовало на пять миллионов человек больше, чем на предыдущих выборах. Сыграла свою роль в этом и общественная активность Элеоноры.
Однако уже в 1937 году, на фоне спада экономики, почти такого же значительного, как во времена Великой депрессии, разработчики и исполнители «Нового курса» выглядели довольно беспомощно и вызывали всеобщее раздражение.
«Первая леди» признавалась подругам, что не хочет, чтобы Франклин баллотировался на третий срок, разве что этого потребует политическая ситуация. По ее мнению, ему больше нечего было дать стране.
Еще одной причиной, почему Элеонора возражала против переизбрания ее мужа, было осознание ухудшающегося состояния Франклина. Еще в 1938 году у него случился обморок в Гайд-парке, однако тогда он быстро оправился и присоединился к гостям на званом обеде.
Тем не менее в 1940 году Элеонора поддержала решение мужа баллотироваться на третий срок, так как разделяла его тревогу, что к власти придут консерваторы-южане во главе с вице-президентом Джеком Гарнером или ненавидящие англичан ирландские католики, возглавляемые Джо Кеннеди, и воспользуются широко распространенным в Америке нежеланием воевать, чтобы заключить сделку с Гитлером.
Президент прекрасно понимал, что его пошатнувшееся здоровье может сделать третий срок в Белом доме крайне рискованным предприятием.
Наступили самые сложные годы пребывания Франклина Делано Рузвельта на посту президента США. В стране вновь ухудшилось экономическое положение, обострились социальные проблемы. 7 декабря 1941 года японские самолеты совершили налет на Пёрл-Харбор, что вынудило США вступить во Вторую мировую войну.
Физическое состояние Франклина Рузвельта начало стремительно ухудшаться. Кардиограммы показывали недостаточное снабжение сердца кислородом, вызванное высоким давлением и прогрессирующим атеросклерозом. Обследуя президента Рузвельта в марте 1944 года, известный кардиолог Говард Брюенн был поражен его состоянием. Сердечная мышца сильно увеличилась — первый признак закупорки вен. Губы и ногти приобрели синюшный оттенок. Брюенн сказал главному врачу Белого дома Россу Макинтайру, что смерть может наступить в любой момент.
Хотя режим десятичасового ночного сна и сокращение рабочего дня президента до четырех часов дали некоторое улучшение, катастрофическое состояние его здоровья было очевидно для каждого, кто наблюдал президента вблизи.
Элеонора продолжала играть роль его совести. Дочь Рузвельтов Анна писала, что в военные годы, когда она проводила в Белом доме много времени, ухаживая за отцом, ее родители практически жили каждый сам по себе.
«Мне кажется, вы должны проводить в Белом доме больше времени, — сказала как-то миссис Перкинс. — Это пошло бы президенту на пользу».
«Нет, Фрэнсис, я ему больше не нужна, — возразила Элеонора. — У него есть советник Гарри Хопкинс, который говорит ему то, что он хочет услышать».
По этим словам можно судить, до какой степени к концу их жизни ослабли супружеские узы между Рузвельтами.
Более удачными были ее поездки на действующие фронты. Она часто посещала больницы. Потом возвращалась в Нью-Йорк с блокнотами, испещренными фамилиями, адресами и телефонами раненых, и часами названивала их близким.
За двенадцать лет в Белом доме Элеонора провела триста сорок восемь пресс-конференций. Получала и старалась отвечать на триста тысяч писем в год. Писала книги, вела рубрику в ежемесячном журнале и колонку в ежедневной газете, а также не жалела усилий, чтобы добиться аудиенции у президента для людей и организаций, которые поддерживала.
Со временем манера «первой леди » постоянно быть на виду стала раздражать окружающих. Правда, Элеонора говорила, что не располагает политической властью. «Я никогда не пыталась оказывать давление на президента, — заявляла она, — и, разумеется, не чувствовала ни малейшего нажима с его стороны».
Свою четвертую по счету речь в связи с избранием в 1944 году на президентский пост Рузвельт посвятил проблеме мира. В ней прозвучало его своеобразное политическое завещание: «Мы не сможем добиться прочного мира, если мы подойдем к нему с позиции подозрений и недоверия или же страха». Именно американскому президенту принадлежит идея назвать новую международную организацию Объединенными Нациями.
Франклину Делано Рузвельту не суждено было дожить до победы над фашизмом. Он умер 12 апреля 1945 года от кровоизлияния в мозг.
Его похороны в Вашингтоне стали выражением любви и скорби к одному из величайших президентов в истории Соединенных Штатов.
Когда его преемник Гарри Трумэн спросил Элеонору, может ли он чем-то помочь, она ответила в своем стиле: «Нет, могу ли я вам помочь? Ибо проблемы теперь у вас».
Но уже в декабре 1945 года ставший президентом США Гарри Трумэн назначает ее членом американской делегации в ООН.
Последней ее международной миссией стало участие в составе делегации США на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1961 году.
Элеонора не оставляла литературной работы. В журнале «Макколе» постоянно печатались ее статьи под рубрикой «Если вас интересует мое мнение». Выпустила мемуары. Она написала также книги «Жизнь учит», «Индия и просыпающийся Восток», «ООН: сегодня и завтра». Не прекращала она и участия в борьбе за решение социальных вопросов в США, была одним из советников президента Трумэна по внутри- и внешнеполитическим вопросам, пыталась реализовать программу «Доброе дело», которая касалась защиты гражданских прав.
В конце жизни судьба ее не баловала. Она долго и
тяжело болела (у нее был туберкулез костного мозга). Но даже в больнице она
стремилась закончить свою последнюю книгу, изданную уже посмертно, — «Завтра —
это значит сейчас».
 Имя
Уинстона Черчилля прочно вошло в историю XX века. Крупнейший политический и
военный деятель, писатель, художник, журналист, блестящий оратор и полемист,
Нобелевский лауреат по литературе.
Имя
Уинстона Черчилля прочно вошло в историю XX века. Крупнейший политический и
военный деятель, писатель, художник, журналист, блестящий оратор и полемист,
Нобелевский лауреат по литературе.
Потомок пирата-адмирала Дрейка и известного полководца герцога Мальборо, сын английского лорда и американки с примесью индейской крови, Уинстон Чарльз Спенсер Черчилль родился 30 ноября 1874 года. Его отец, Рандольф, был знаменитым оратором и членом кабинета министров. Мать, Дженни, — женщина редкой красоты. Черчилль любил ее, но на расстоянии.
Отличаясь необыкновенным упрямством, Уинстон не получил принятого в кругах английской знати университетского или высшего военного образования. Один из наиболее эрудированных людей своей эпохи, он имел за плечами лишь кавалерийскую школу.
В 1900 году Черчилль избирается членом парламента от партии консерваторов. В стенах британского парламента он провел с перерывами 64 года и покинул его в возрасте 90 лет. Уинстон был чрезвычайно работоспособен, энергичен, мыслил здраво и смело.
Он был, конечно, женоненавистником, но не настолько, чтобы в личной жизни вовсе отказаться от общения с представительницами прекрасного пола. В молодости Уинстон испытал продолжительное увлечение актрисой Этель Барримор, она была на пять лет моложе Черчилля. Еще совсем юной она уже блистала в театрах Бродвея. Он всерьез подумывал о женитьбе, ведь и отец его был женат на американке. Но судьба распорядилась иначе.
В 1904 году на балу в Лондоне он познакомился с 19-летней Клементиной, дочерью сэра Генри Хозье и его эксцентричной жены Деби Бланш. Признанная красавица, Клементина жила в весьма стесненных обстоятельствах.
Четыре года спустя их пути вновь пересеклись. Черчилль отдыхал в имении их общих друзей, когда случился пожар. Уинстон бросился тушить огонь — надел каску, принялся выносить из огня вещи, едва сам не оказался погребенным под горящими обломками.
Узнав об этом, Клементина прислала ему очень милое письмо, и Черчилль немедленно ей ответил: «Пожар был просто великолепный, мы здорово повеселились».
В августе 1908 года газеты опубликовали сообщение о помолвке 34-летнего Черчилля с 23-летней Клементиной Хозье, аристократкой, хотя и из небогатого семейства. Она была остроумна, образованна, о красоте не приходилось и говорить.
Свадебная церемония состоялась в приходской церкви палаты общин в Вестминстере. Среди подарков была трость от Эдуарда VII с золотой надписью: «Моему самому молодому министру». Звонили колокола, и жених был совершенно счастлив. Черчилль не сомневался, что его ждет великое будущее...
Уинстон в это время занимал пост министра торговли.
Черчилль написал в первом томе своей автобиографии «Моя молодость»: «Я женился и жил с тех пор счастливо». Клементина имела большое влияние на Черчилля и во многом способствовала его блестящей карьере.
Но все могло быть иначе, если бы Черчилль женился на другой женщине. Другая — это Мюриел Уилсон из богатейшей английской семьи, но она ответила отказом на предложение руки и сердца Черчиллю в 1904 году. О том, как относился Черчилль к Мюриел (а она считалась одной из самых красивых женщин Британии), можно судить по его письмам, которые были проданы с аукциона. Вот строки из одного черчиллевского письма к Мюриел: «Вы так далеко, словно величественная, сияющая и, увы, равнодушная ко мне, покрытая сверкающим на солнце снегом вершина».
Да, она лишь благоволила к Черчиллю, но всю жизнь хранила его письма. Замуж она вышла за майора Майкла Уорда. Брак оказался неудачным, и время от времени Мюриел писала своему давнему воздыхателю, он отвечал, так продолжалось даже когда ему было за восемьдесят. Об этих эпистолярных привязанностях Клементина знала. «Полагаю, в свои молодые годы он сильно был влюблен в нее», — говорила она.
Медовый месяц Уинстон и Клементина провели в Бленхейме — родовом гнезде, где все напоминало молодожену о том, что он тут не первый.
Черчилль пришел во власть сторонником консерваторов, а когда верх на выборах взяли лейбористы, переметнулся к ним. Потом снова вернулся к консерваторам. А тут победили лейбористы — Черчиллю уже было неудобно идти к ним на поклон, и он остался временно не у дел. В конце 1920-х годов он посетил Канаду и Штаты, в Голливуде предложил написать сценарий фильма о Наполеоне.
К этому времени у Клементины и Уинстона было трое детей — семилетняя Диана, пятилетний Рандольф, двухлетняя Сара. Еще одна дочь, Мэри, умерла, когда ей было всего два года. Клементина очень тяжело пережила потерю малышки. Черчилль вспоминал, что она «кричала, как раненый зверь в смертельной агонии».
Черчилль был хорошим отцом, всегда любил резвиться с детишками — маскарад, жмурки, шарады, он охотно перевоплощался в «гориллу», видя, как рады дети его дурачествам.
Кроме живописи и публицистики Черчилль не гнушался и простого труда — откармливал свиноматок, и те получали призы на выставках. В своем поместье хозяин овладел ремеслом каменщика — самолично построил коттедж, часть ограды.
В 1930-е годы, когда Черчилль оказался за бортом политической жизни, он поехал в Нью-Йорк к одному из своих богатых друзей. По дороге он угодил под машину. Когда Черчилля доставили в частный госпиталь, у него были обнаружены переломы пятнадцати костей.
Черчилль написал об этом происшествии в газету, получив гонорар больше двух тысяч долларов. Этого хватило, чтобы Черчилль с женой Клементиной и дочерью Дианой, а также телохранителем и лакеем отдохнули два месяца на Багамских островах. Правда, Черчилль не бездельничал — читал лекции, хотя и отлеживался в промежутках между выступлениями.
Наконец пришел его звездный час. В мае 1940 года он стал премьер-министром Великобритании. В возрасте 65 лет, когда многие уходят на покой.
Ровно за сутки до начала войны между Германией и Советским Союзом личный секретарь спросил Черчилля, как он, антикоммунист, может видеть в Советском Союзе поддержку в войне против Германии? Черчилль ответил, что у него нет иного врага, нежели Гитлер, и, дескать, это сильно упрощает его жизнь.
В военные годы внешне ничто не предвещало будущей вражды, вылившейся в войну холодную. Леди Клементина Черчилль возглавляла Фонд помощи России, сын Черчилля майор Рандольф одно время находился при ставке Сталина. Рандольф Черчилль-младший, кстати, не окончил Оксфорда, стал, к огорчению отца, журналистом, пристрастился к алкоголю. Это дало Черчиллю философически заметить: «Современная молодежь делает что хочет, а родители могут контролировать своих чад только до тех пор, пока они находятся в утробе матери».
Клементина принимала Уинстона Черчилля таким, каким он был, со всеми его слабостями, пристрастиями и вкусами (к сигарам, коньяку, к послеобеденному сну). Она не пыталась переделывать и перевоспитывать мужа, она просто сделала себя необходимой ему и в час неудачи, и во время большого успеха.
В годы Второй мировой войны Клементина Черчилль много сделала для России. Дело доходило до семейной ссоры, и Уинстон сокрушался: «До чего дошло! Моя собственная жена совершенно советизировалась. Только и говорит о Советском Красном Кресте, о Красной Армии, о жене советского посла...»
Благородная роль леди Черчилль была оценена. Советское правительство наградило ее орденом Трудового Красного Знамени. А во время пребывания в Москве в День Победы Сталин подарил ей золотое кольцо с бриллиантами.
Черчилль, казалось, уже вдосталь насытился властью, пора было вроде бы и на покой. Однако власть утомляет лишь тех, кто не имеет ее. Престарелый Черчилль продолжал влиять на умы западного мира, он опять взялся за мемуары. Шесть томов труда «Вторая мировая война», четыре — «Истории народов, говорящих по-английски»...
В 1951 году англичане вновь с надеждой обратились к Черчиллю — и он опять стал премьер-министром. На четыре года, пока окончательно не ушел в отставку. Хотя и продолжал активно трудиться в парламенте.
За 56 лет брака Клементина и Уинстон написали друг другу 1700 писем, открыток, телеграмм, записок, которые составили гигантский том переписки «Говорят сами за себя», подготовленный к печати их младшей дочерью Мэри Соумс.
Привычка писать друг другу была столь сильна, что супруги обменивались посланиями, не только находясь по разные стороны океана, но и живя вместе в загородном доме.
Зная впечатлительную натуру жены, он стремился поразить ее, приукрашивая свои рассказы самыми невероятными деталями.
24 января 1965 года Черчилль умер в Лондоне. Ему было девяносто лет. Знаменательно, что он умер в тот же день, что и его отец, — с разницей в семьдесят лет.
Клементина пережила его на 12 лет и скончалась 12 декабря 1977 года, было ей 92.
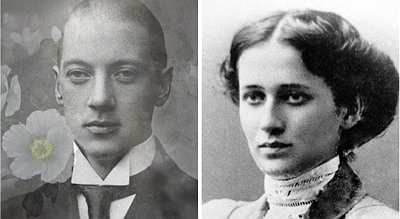 Николай
Гумилев был абсолютно убежден в нелепости брака одного поэта с другим. Тем не
менее с Анной Ахматовой он прожил в браке целых восемь лет.
Николай
Гумилев был абсолютно убежден в нелепости брака одного поэта с другим. Тем не
менее с Анной Ахматовой он прожил в браке целых восемь лет.
Николай Степанович Гумилев родился в 1886 году в Кронштадте. Отец его — Степан (Стефан) Яковлевич — военный корабельный врач, выходец из духовного сословия. Мать — Анна Ивановна — из тверских дворян Львовых. Когда отец вышел в отставку, семья переехала в Царское Село.
Пребывание в Царском Селе прервалось жительством в Тифлисе, где в возрасте шестнадцати лет Гумилев впервые напечатал стихи в местной газете «Тифлисский листок».
В юности Гумилев стал придавать огромное внимание внешности и считал себя некрасивым. Знавший Гумилева по Царскосельской Николаевской гимназии Эрих Голлербах пишет: «Упрекали его в позерстве, в чудачестве. А ему просто всю жизнь было шестнадцать лет».
В рождественский сочельник 1903 года Николай Гумилев познакомился с 14-летней гимназисткой Анной Горенко. Вместе с подругой Валей Тюльпановой она шла от Царскосельского вокзала к Гостиному двору, где девушки собирались купить игрушки для рождественских праздников. По дороге им встретились братья Гумилевы — гардемарин Дмитрий и гимназист Николай.
Анна Горенко родилась в Одессе в семье инженера-механика флота. В Царское Село большая семья Горенко переехала в 1890 году. «Она очень выросла, — вспоминала впоследствии ее ближайшая и многолетняя подруга Валерия Срезневская (Тюльпанова), — стала стройной, с прелестной хрупкой фигурой чуть развивающейся девушки, с черными, очень длинными и густыми волосами, прямыми, как водоросли, с белыми и красивыми руками и ногами, с несколько безжизненной бледностью определенно вычерченного лица, с глубокими большими светлыми глазами, странно выделявшимися на фоне черных волос и темных бровей и ресниц».
Валя Тюльпанова, возвращаясь с учебы, часто видела, как Коля стоял перед гимназией в ожидании ее подруги. Но Горенко он не интересовал.
Вторая их встреча произошла на катке. Он был поражен: сколько сноровки и физической выносливости таила эта хрупкая с виду грациозность! Гумилев подружился с Андреем — старшим Аниным братом, который знал латынь и увлекался Античностью. На Пасху 1904 года Анна с братом были на празднике у Гумилевых.
Горенко не воспринимала всерьез Николая, она была увлечена питерским студентом Владимиром Голенищевым-Кутузовым. А Коля ревновал ее, к тому же ему донесли, что, дескать, не невинна она... Тогда он в первый раз попытался убить себя, Анна же, узнав подробности, страшно разозлилась и прогнала его. У Горенко были свои сложности: их семья распалась, отец ушел из семьи, поселился отдельно в Петербурге. Вместе с матерью, Инной Эразмовной, Анна уезжает в Евпаторию. Там они живут лето, а зиму — в Киеве.
Анна была влюблена в Кутузова безответно и, по-видимому, в душе смирилась с будущим супружеством как с неизбежностью. Шурину Сергею Штейну, мужу старшей сестры Инны, она еще в 1907 году писала: «Я решила сообщить Вам о событии, которое должно коренным образом изменить мою жизнь... Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба быть его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю». И в том же письме: «Но Гумилев — моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной».
Однако сказать «да » она не торопится. Когда летом 1907 года Анна вместе с Гумилевым стояла на берегу моря в Севастополе, куда он приехал, чтобы повидаться с ней, она снова ему отказала!
Гумилев — весь в поэтической стихии: нимфа, колдовская русалка с горестным взором... Возвратившись в Париж и послав ей свою фотографию со строфой из Бодлера, он отправляется в курортный городок Трувиль в Нормандии, к морю, топиться. Он был арестован местным блюстителем порядка как бродяга.
В Париже он получает от Анны письмо. В ответном Гумилев признается, что «так обрадовался, что сразу два романа бросил». Его общество разделяла Елизавета Дмитриева, из-за которой он решит стреляться в 1909 году с Волошиным.
«Он пишет мне непонятные слова, — делится Аня Горенко с Сергеем Штейном, — и я хожу с письмом к знакомым и спрашиваю объяснение. Всякий раз, когда приходит письмо из Парижа, его прячут от меня и передают с великими предосторожностями. Затем бывает нервный припадок, холодные компрессы и общее недоумение. Это от страстности моего характера. Он так любит меня, что даже страшно».
Гумилев посвятил Анне Андреевне Горенко «Романтические цветы» — сборник стихов, навеянных Парижем. Гум — она так его называла — был строптив и настойчив. Он решает еще раз попытать счастье — вдруг согласится?
Но Анна снова отказывает ему. Под Новый, 1908 год Гумилев сутки пролежал, не приходя в сознание, в Булонском лесу — пытался отравиться. Его спасли.
Последняя попытка добровольно уйти из жизни была предпринята им в Каире, в Ботаническом саду, по счастью, безуспешная. После этого сама мысль о самоубийстве сделалась отвратительной Гумилеву.
В ноябре 1909 года он приехал с группой писателей в Киев для участия в литературном вечере. Анна — в зале. Потом Николай пригласил ее пить кофе. И снова сделал предложение. Она неожиданно легко согласилась. Это было 26 ноября, а уже через три дня друзья провожали Гумилева в Одессу: поэт отправляется в африканское путешествие. Пять лет он добивался ее согласия, и вот... Анна Андреевна впоследствии обронила фразу: брак не был началом их отношений, но — «началом конца» их...
25 апреля 1910 года в церкви Никольской Слободки, что на левом берегу Днепра, Анна Горенко и Николай Гумилев обвенчались. В качестве подарка невесте была преподнесена «Баллада», которая начинается словами: «Влюбленные, чья грусть, как облака...», а заканчивается строчками: «Ты знала все, ты знала, что и нам Блеснет сиянье розового рая».
Медовый месяц молодожены провели в Париже. Анна и Николай сидели под дождем в Люксембургском саду, читали друг другу стихи Верлена, гуляли по ночным парижским улицам... Это были самые счастливые дни в их жизни. Они познакомились с непризнанным и бедным итальянским художником Амадео Модильяни. В те годы Анна была тоненькой и необычайно гибкой. Модильяни с удовольствием рисовал ее...
В июне 1910 года Гумилевы приехали погостить в имение Слепнево. Они занимали часть поместного бревенчатого дома. Мать Николая, родственники, домочадцы относились к невестке холодно. И даже отец Анны ругался, что она позорит его имя своими стихами. Тогда Горенко стала называть себя Ахматовой, якобы по фамилии предков по линии матери.
Анна с первого дня свадьбы вздумала ревновать его. Издатель Марковский, хорошо знавший Гумилевых, утверждал: «Любя и его, и его стихи, не умела она мириться с его мужским самоутверждением. Гумилев продолжал вести себя по-холостяцки, не стесняясь присутствием жены. Не прошло и одного брачного года, а он уж с мальчишеским задором увивался за всеми слепневскими девушками».
Осенью 1910 года Гумилев снова уехал в Африку, где пробыл до конца марта следующего года. Жена его вроде бы как брошена, нелюбима. Из путешествия по дебрям и пустыням Абиссинии поэт привез записи абиссинских песен, коллекцию предметов быта и картин африканских живописцев.
Он вернулся больным, в лихорадке, а весной они снова в разные стороны, он — в свое Слепнево, она — в Париж. Супруги отдалялись друг от друга, терзаясь от одиночества вдвоем.
В 1911 году Анна много писала. Но ни одно из своих стихотворений она не посвятила мужу. Бытует мнение, что Гумилев просто не ценил ее как поэта. «Вам нравится? — говорил он. — Очень рад. Моя жена и по канве отлично вышивает». Сама Ахматова считала, что Гумилев много сделал, чтобы сформировать ее как поэта. Он представил ее в поэтическом кружке «Башня» Вячеслава Иванова. Анна Андреевна вспоминала об одном из возвращений мужа из Абиссинии. Она пришла встретить его на вокзал в Петербурге. Первый вопрос, который он задал ей, был: «Писала?» — «Да». — «Читай». Она прочла. «Да, хорошо, хорошо», — сказал он, лицо его помягчело, и они пошли домой. С этого времени он признал ее как поэта.
В 1912 году Гумилевы поехали в Италию. Но когда друзья повезли Николаю во Флоренцию экземпляр вышедшего в России сборника стихов «Чужое небо», с удивлением узнали, что жена его живет... в Риме.
Вернулись супруги все-таки вместе. Она уже была беременна. 18 сентября в родильном приюте императрицы Александры Федоровны родился сын — Лев Николаевич Гумилев. Биограф Лукницкий пишет, что супруги находились в Царском Селе, когда Анна почувствовала толчки. Разбудила мужа. Они поехали в Петербург. От вокзала до родильного дома — чуть ли не десять верст! — шли пешком. Гумилев так растерялся, что даже не догадался, что можно ехать на извозчике или трамваем. В десять утра пришли... «А вечером, — отмечает Лукницкий, — Н. С. пропал. Пропал на всю ночь. На следующий день приходят к Анне Андреевне с поздравлениями, она узнает, что Н. С. дома не ночевал. Потом наконец приходит и Н. С. с "лжесвидетелем". Поздравляет. Очень смущен».
Сына Леву воспитывала свекровь, он до шестнадцати лет рос в деревне, редко общаясь с родителями... Своего дома у Ахматовой не было никогда; она так и звала себя — бездомной. Где бы ни появлялась — в салоне ли, в театре, в знаменитом ли ночном кабаре «Бродячая собака», — она сразу же оказывалась в центре внимания.
В 1913 году Николай Гумилев совершает еще одно паломничество в Африку. Это была командировка Музея антропологии и этнографии Академии наук. Поэта сопровождал его племянник Николай Сверчков — «Коля-маленький».
Гумилев не мог не понимать, что теряет жену. «Конечно, они были слишком свободными и большими людьми, чтобы стать парой воркующих "сизых голубков", — вспоминала Валерия Срезневская. — Их отношения были скорее тайным единоборством. С ее стороны — для самоутверждения свободной от оков женщины; с его стороны — желание не поддаться никаким колдовским чарам, остаться самим собою, независимым и властным над этой вечно, увы, ускользающей от него женщиной, многообразной и не подчиняющейся никому».
Гумилев ревновал ее страшно. Когда художник Борис Анреп, близкий друг Анны, навсегда уезжал из России в Англию, она подарила ему кольцо на память. Николай, узнав об этом, вскипел: «Я отрежу тебе руку и пошлю ее Анрепу: вот вам еще в придачу к кольцу».
«Ахматова вызывала всегда множество симпатий, — говорил Гумилев. — Кто-кто не писал ей писем, не выражал восторгов! Но так как она всегда была грустна, имела страдальческий вид, думали, что я тиранический муж, и меня за это ненавидели. А муж я был самый добродушный и сам отвозил ее на извозчике на свидание».
В начале войны Гумилев подал рапорт на фронт — вольноопределяющимся. Своему другу, востоковеду Вольдемару Шилейко, он внушал, что смерть надо заслужить, что природа скупа и выжмет из человека все соки и, выжав их, — выбросит. Гумилев попадает в лейб-гвардии Уланский полк. К началу 1915 года за проявленную храбрость в боях он был награжден двумя Георгиевскими крестами. Гумилева производят в прапорщики и переводят в Пятый гусарский Александрийский полк.
Летом 1917 года поэт снова в Париже. Встречается с русскими художниками Н. Гончаровой и М. Ларионовым. Здесь у него разгорается страстный роман с Еленой Дюбуше, которую он воспел в стихах под именем «синей звезды».
Вслед за Парижем — Лондон, где Гумилев работает над стихами, пьесами, повестью. В апреле 1918 года он покидает Лондон и через Мурманск возвращается в Петроград.
Анна Ахматова в это время жила у своей гимназической подруги Валерии Срезневской. Когда Гумилев позвонил Срезневским, ему сказали, что Анна у востоковеда Шилейко. Николай отправился туда. Сидели вместе, пили чай...
Объяснение супругов состоялось в присутствии хозяйки дома: «Сидя у меня в небольшой темно-красной комнате, на большом диване, Аня сказала, что хочет навеки расстаться с ним. Коля страшно побледнел, помолчал и сказал: "Я всегда говорил, что ты совершенно свободна делать все, что ты хочешь". Встал и ушел».
Вскоре Гумилев и Ахматова уехали в Бежецк, где в это время с родителями Николая жил их маленький сын. Анна Андреевна вспоминала: «Только раз он заговорил об этом. Когда мы сидели в комнате, а Лева разбирал перед нами игрушки, мы смотрели на Леву...» Гумилев внезапно поцеловал руку Анне и грустно сказал: «Зачем ты все это выдумала?»
Решение Ахматовой было для него сильным ударом, но не таким уж неожиданным. Позже Анна Андреевна, как пишет Лукницкий, составила донжуанский список Гумилева; у него было много увлечений, особенно в последние годы. Правда, все биографы сходятся единодушно на одном: по-настоящему он всю жизнь любил только Анну Андреевну...
После официального развода Анна Андреевна повенчалась во Владимирском соборе с... Вольдемаром Шилейко, а Гумилев в 1919 году женился на Анне Николаевне Энгельгардт, которая родила ему дочь Елену. Но семейная жизнь у Николая не складывалась. «Он думал, она — воск, а она оказалась — танк», — едко заметила Ахматова.
В ночь с 3 на 4 августа 1921 года Гумилев был арестован за участие в контрреволюционном заговоре — он «не донес органам советской власти, что ему предлагали вступить в заговорщицкую офицерскую организацию». 25 августа поэт был расстрелян в поселке Беригардовка под Петроградом. Похоронен там же в общей могиле.
В 1926 году, после гибели отца, Лев Гумилев переехал к матери в Ленинград. Судьба у сына великих поэтов оказалась трудной: четырнадцать лет он провел в лагерях и тюрьмах, но не сломился и стал крупным ученым — востоковедом, географом, философом.
Брак Анны Андреевны с Владимиром Шилейко счастья ей не принес. Востоковеду была нужна жена, а не поэт, ион сжигал ее стихи в самоваре... Третий муж Анны Андреевны, Николай Пунин, после сталинских лагерей к ней не вернулся...
Анна Андреевна Ахматова скончалась 5 марта 1966
года, через сорок пять лет после гибели Гумилева.
 Пикассо
делил своих возлюбленных на «богинь» и «половые коврики».
К первым он, несомненно, относил русскую балерину Ольгу Хохлову. К моменту
знакомства с художником в 1917 году 25-летняя Хохлова выступала в знаменитой
труппе Сергея Дягилева. Танцовщицей она была старательной и дисциплинированной,
имела хорошую технику, но никогда не была примой и, не считая нескольких партий,
выступала в кордебалете.
Пикассо
делил своих возлюбленных на «богинь» и «половые коврики».
К первым он, несомненно, относил русскую балерину Ольгу Хохлову. К моменту
знакомства с художником в 1917 году 25-летняя Хохлова выступала в знаменитой
труппе Сергея Дягилева. Танцовщицей она была старательной и дисциплинированной,
имела хорошую технику, но никогда не была примой и, не считая нескольких партий,
выступала в кордебалете.
«Моя бабушка Ольга Хохлова родилась в украинском городе Нежине в семье полковника Русской императорской армии, — рассказывает Марина Пикассо. — Вопреки родительскому желанию Ольга, которая была очень красива, стала балериной и получила приглашение в труппу от самого Дягилева. Они познакомил ее с Пикассо».
Пабло Пикассо в свои 36 лет был уже знаменитым художником. Серж Дягилев, умевший привлечь к работе над своими балетами для «Русских сезонов» самые громкие имена, пригласил его оформить балет «Парад» в постановке Леонида Мясина.
Весной 1917 года труппа Дягилева выехала на гастроли в Рим. Здесь и произошло сближение испанского художника и русской балерины. Пикассо увлекся Ольгой с присущим ему темпераментом. «Будь осторожен, на русских девушках надо жениться», — предупреждал его Дягилев.
В Риме Пабло с Ольгой совершали длинные прогулки. Но балерина не спешила отвечать на бурные признания художника, хотя слава Пикассо производила на нее впечатление.
Мать Хохловой допытывалась у Дягилева: «Может ли художник быть человеком серьезным?» Тот отшучивался: «Не менее серьезным, чем балерина».
В мае 1917 года в парижском театре «Шатле» состоялась премьера «Парада». Затем Дягилев повез балет в Мадрид и Барселону. За балетом и за Ольгой последовал Пикассо. Он много ее рисовал в манере сугубо реалистической, на чем настаивала сама балерина, которая не любила непонятные ей эксперименты в живописи. «Я хочу, — говорила она, — узнавать свое лицо».
В Барселоне Пикассо познакомил Ольгу со своей матерью. Она тепло приняла русскую девушку, ходила на спектакли с ее участием, но предупредила: «С моим сыном, который создан только для самого себя и ни для кого другого, не может быть счастлива ни одна женщина». В Барселоне художник написал портрет Хохловой в испанской мантилье, который подарил матери. В этом полотне он выразил весь накал своих страстей. Ольга изображена на нем с величайшей нежностью.
Когда русский балет отправился в Латинскую Америку, Ольга по настоянию Пикассо возвращается с ним в Париж. На этом ее артистическая карьера заканчивается.
Во Франции они поселились в маленьком доме в парижском пригороде Монруж — со служанкой, собаками, птицами в клетках и еще тысячей разных предметов, которые повсюду сопровождали художника. Ольга неплохо говорила по-французски и любила слушать фантастические истории, которые ей рассказывал Пабло. Он, похоже, пресытился мимолетными любовными приключениями и стремится к покою и уравновешенной жизни. Именно в Монруже он написал знаменитый «Портрет-Ольги в кресле».
12 июля 1918 года в мэрии VII парижского округа прошла церемония бракосочетания Пикассо и Хохловой. Вслед за гражданской церемонией состоялось венчание в православном соборе Александра Невского на улице Дарю. В числе приглашенных — Серж Дягилев, Анри Матисс, Макс Жакоб, Жан Кокто, Гийом Аполлинер, Гертруда Стайн.
Пикассо был убежден, что женится на всю жизнь, и поэтому в брачный контракт вошла статья о том, что имущество супругов — общее.
Первые годы ничто не омрачало семейного счастья. Пабло все больше убеждался в правильности сделанного им шага. Ольга была прирожденной хозяйкой и со вкусом обставила квартиру. Она позаботилась о том, чтобы новая гостиная, окна которой выходили на улицу, и столовая с видом на сад были обставлены мебелью, отвечающей ее вкусу.
Студия Пикассо находилась этажом выше. В ней он хранил бесчисленное множество предметов. Картины Руссо, Матисса, Ренуара, Сезанна и других художников в беспорядке висели на стенах или были прислонены к ним, придавая беспорядку своеобразную привлекательность.
Супруги старались не расставаться: вместе отдыхали на курорте Биарриц на Средиземном море, вместе проводили время в Париже. Пикассо много пишет, ему часто позирует молодая жена.
В сентябре 1918 года супруги Пикассо отправились в Лондон вместе с русским балетом. Дягилев показывал там «Парад» и работал над новым балетом «Трикорн», для которого Пабло выполнял декорации и костюмы.
Вместе с труппой Пикассо и Хохлова жили в дорогом отеле «Савой » и по вечерам ходили на приемы. Ольга обладала красотой, страстью и большими претензиями. Ей нравилось быть «мадам Пикассо». Она обедала в дорогих ресторанах, приобретала изысканные туалеты.
Пикассо стремился к достижению гармонии с женщиной, которая всегда оставалась бы для него источником чувственных наслаждений и опорой домашнего очага. Но, как вскоре стало очевидно, Пикассо хотел оставаться свободным человеком и был готов во имя этого пожертвовать всем остальным.
4 февраля 1921 года у супругов родился сын Поль. В сорок лет Пикассо впервые стал отцом. Это событие взволновало его, неожиданно для него самого наполнило гордостью. Он делал бесконечные рисунки сына и жены, помечая на них не только день, но и час. Все они выполнены в неоклассическом стиле, а женщины в его изображении напоминают олимпийских богинь. Ольга относилась к ребенку с почти болезненной страстью и обожанием.
Работа с русским балетом прославила художника и, по мнению специалистов, обогатила его талант. В апреле 1925 года Пикассо вместе с Ольгой и сыном поехали в Монте-Карло к Дягилеву. Там на репетициях он снова стал рисовать балерин. Ольга интересует его все меньше. Видя равнодушие мужа, Хохлова теряла спокойствие, нервничала и еще больше вызывала раздражение Пикассо, желавшего освободиться от ее назойливой опеки.
В январе 1927 года Пикассо увлекся семнадцатилетней Мари Терез Вальтер. Предаваясь этой безумной страсти, он пытался забыть Ольгу, вычеркнуть ее из своей жизни. Пикассо любил повторять, что жизнь продляют только работа и женщины. «Каждый раз, когда я меняю женщину, — говорил Пикассо, — я должен сжечь ту, что была последней. Таким образом я от них избавляюсь. Это, возможно, и возвращает мне молодость».
Несмотря на то что Пабло и Ольга решили расстаться, они продолжали жить в одном доме, оставаясь в браке даже после того, как в жизнь Пикассо вошла Мари Терез. В 1935 году любовница родила ему дочь Майю. Ольга, не выдержав холодного безразличия супруга и присутствия счастливой соперницы, вместе с сыном покидает дом.
Существует много свидетельств того, что в период между 1932 и 1936 годами он стремился обрести полную свободу. Однако для испанца бракоразводная процедура оказывается невероятно сложной. С большим трудом ему удается поделить имущество, но с юридической точки зрения он остается мужем Ольги Хохловой вплоть до самой ее кончины.
В 1943 году Пикассо находит новую музу — молодую художницу Франсуазу Жило. Это был очередной удар для Ольги, которая продолжала ревновать бывшего мужа ко всем его новым пассиям. Она писала ему гневные записки на смеси испанского, французского и русского, содержание которых сводилось к тому, что Пикассо ужасно опустился. Обычно она прикладывала к посланиям изображения Рембрандта или Бетховена с припиской, что он никогда не станет таким же великим, как эти гении.
Летом Ольга отправлялась в средиземноморский городок, где жили Пикассо и Франсуаза с сыном Клодом, и преследовала молодую женщину. Та молча переносила оскорбления, ибо понимала, что Ольга страдает от одиночества и отчаяния.
В 1949 году Жило произвела на свет дочку Палому, а три недели спустя Пикассо стал дедом — у Поля родился сын, которому в честь художника дали имя Пабло, но впоследствии обычно звали Паблито.
Поль провел всю войну в Швейцарии и вернулся в Париж только после его освобождения. У него не было работы, к тому же он сильно пил и употреблял наркотики. В 1954 году после тяжелого воспаления легких он оказался на грани смерти. Доктор послал Пикассо телеграмму с. просьбой срочно приехать в Канн. Ответа не последовало.
Ольга Хохлова в последние годы жила в Канне в полном одиночестве. По словам Алисы Токлас, до конца дней остававшейся ее подругой и посещавшей ее в больнице, Ольга тепло отзывалась о Пикассо и их сыне, который, как она утверждала, был к ней добр и проявлял о ней заботу. Ольга Хохлова долго и мучительно болела и 11 февраля 1955 года скончалась от рака в городской больнице. На похороны пришли только ее сын Поль и несколько друзей. Пикассо в это время в Париже заканчивал картину «Алжирские женщины» и не приехал.
Пабло Пикассо прожил еще 28 лет и скончался 8 апреля 1973 года в преклонном возрасте.
Первенец Пикассо Поль умер в возрасте 50 лет. Паблито, сын Поля, покончил с собой и похоронен в той же могиле, где покоится прах его русской бабушки. Мари-Терез повесилась в гараже в возрасте 68 лет. Ее дочь от Пикассо Майя погибла в автомобильной катастрофе.
Дора Маар, сменившая Мари Терез, закончила дни в психиатрической лечебнице. Жаклин Рок, вторая и последняя официальная жена Пикассо, отвадившая от него всех потенциальных наследников, на которой художник женился почти в 80-летнем возрасте, страдала тяжелой формой депрессии. 16 октября 1986 года она выстрелила себе в висок...
Знаменитый особняк «Резиденция короля » в Канне
унаследовала внучка Хохловой Марина Пикассо. Она создала носящий ее имя фонд,
который построил в пригороде Хошимина деревушку из 24 домов для 360 вьетнамских
сирот.
 Необыкновенный
талант Айседоры Дункан проявился очень рано. Едва научившись уверенно ходить,
она уже плавно двигалась под музыку. Ей не нравился классический балет, она
танцевала иначе — босиком, в легких развевающихся одеждах, свободно импровизируя
под музыку. «Айседора танцует все то, что другие люди говорят, поют, пишут,
играют и рисуют, — писал поэт Максимилиан Волошин. — Она танцует Седьмую
симфонию Бетховена и Лунную сонату, она танцует "Primavera" Боттичелли и стихи
Горация...»
Необыкновенный
талант Айседоры Дункан проявился очень рано. Едва научившись уверенно ходить,
она уже плавно двигалась под музыку. Ей не нравился классический балет, она
танцевала иначе — босиком, в легких развевающихся одеждах, свободно импровизируя
под музыку. «Айседора танцует все то, что другие люди говорят, поют, пишут,
играют и рисуют, — писал поэт Максимилиан Волошин. — Она танцует Седьмую
симфонию Бетховена и Лунную сонату, она танцует "Primavera" Боттичелли и стихи
Горация...»
Вся жизнь Айседоры Дункан до встречи с Есениным — это трудное восхождение к успеху: гастроли, путешествия, обучение детей и череда любовных романов, в которые были вовлечены поэты Дуглас Энсли и Анри Батайль, художник Чарльз Галле, писатели Андре Бонье и Габриэль ДАннунцио, театральный режиссер Гордон Крэг и пианист Вальтер Пуммель... Все были влюблены в Айседору Дункан, и все были готовы кинуть к ее ногам деньги, славу, талант...
Она приехала в Россию летом 1921 года. Советское правительство пригласило Айседору для создания в Москве детской школы танца. Дункан сопровождали ее ученица, приемная дочь Ирма и камеристка Жанна. Айседора была еще в расцвете славы, но злые языки утверждали, что в Европе интерес к «босоножке » идет на спад.
Дункан уже бывала в России. В 1904 году она блистала на петербургской сцене. «Красота, простая, как природа», — отзывался об искусстве танцовщицы Станиславский, большой поклонник ее таланта. По словам поэта Ходасевича, она была из тех людей, которые делали «ту эпоху».
Прежде чем покинуть Лондон в июле 1921 года, Айседора нанесла визит к известной гадалке, которая сказала ей: «Вы собираетесь совершить длительное путешествие в страну под бледно-голубым небом. Вы будете богаты, очень богаты. Я вижу миллионы и миллионы и даже миллиарды, лежащие вокруг. Вы выйдете замуж...»
Тут Айседора расхохоталась прямо в лицо гадалке и отказалась далее слушать подобный вздор.
Школу Дункан открыли на Пречистенке, в особняке балерины Балашовой, сбежавшей на Запад. На сцене Большого театра «божественная Айседора», как ее называли в прессе, танцевала под звуки «Интернационала» с красным флагом в руках. Успех ее «Марсельезы» был огромный.
На одной из пирушек, устроенной Якуловым в своей студии, Айседора познакомилась с поэтом Сергеем Есениным. «...В первом часу ночи приехала Дункан, — вспоминал Анатолий Мариенгоф. — Красный хитон, льющийся мягкими складками, красные, с отблеском меди, волосы; большое тело. Ступает легко и мягко. Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине. Маленький нежный рот ему улыбнулся. Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног. Она окунула руку в его кудри и сказала: "Solotaya golova". Было неожиданно, что она, знающая не больше десятка русских слов, знала именно эти два. И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы: "Anguel!" Поцеловала еще раз и сказала: "Tschort". В четвертом часу утра Изадора Дункан и Есенин уехали».
Это одна из версий знакомства поэта и танцовщицы. По другой, сам Есенин искал этой встречи и ворвался с толпой поэтов-имажинистов в студию Якулова с криком: «Где Айседора?» С помощью друга-переводчика Дункан сказала Есенину: «Я сейчас буду танцевать только для вас!» Когда вальс Шопена смолк, она подошла к Есенину, громко говорившему что-то своим товарищам, и спросила его, как ему понравился ее танец. Есенин сказал что-то грубое и непристойное, что вызвало грубый хохот его пьяных приятелей. Друг, игравший роль переводчика, сказал Айседоре: «Он говорит, что это было ужасно... и что он сам может сделать это лучше!» И тут же поэт вскочил на ноги и заплясал посреди студии как бешеный. Балалайка бренчала, и его собратья по богеме издавали крики одобрения.
Тогда Айседора ничего не знала ни о гениальном поэтическом даре Есенина, ни о его скандальной славе. Для искушенной сорокалетней женщины во внезапно завязавшемся романе все было необычно, притягательно. «Я не знала ни слова по-русски, а он вообще не понимал никакого иностранного языка. Но наши глаза говорили о любви», — вспоминала Дункан. Под утро они вместе уехали в особняк Айседоры на Пречистенке.
Есенин дважды пытался завести семью, но оба брака распались. В душе поэта царило смятение. У него не было близкого человека, которому можно довериться.
Дункан же говорила, что Сергей напоминает ей погибшего сына. Несколько лет назад она пережила трагедию. Двое ее маленьких детей нелепо и трагично погибли в автомобиле, который упал в Сену. Тогда вместе с ней плакал весь мир. За ночь студенты Парижской академии изящных искусств скупили все белые цветы в городе и прикрепили их к ветвям деревьев и кустов в саду ее дома. Клод Дебюсси плакал всю ночь, сидя за роялем, и извлекал скорбную мелодию.
Сергей Есенин стал часто посещать Айседору, а вскоре и вовсе переехал к ней в особняк на Пречистенке. С этого момента дом Дункан становится главным прибежищем поэтов-имажинистов. Позже Дункан скажет, что три года, проведенные в России, несмотря на все невзгоды, были счастливейшими в ее жизни, и глубоко ошибочен вывод многих женщин, которые считают, что «после сорокалетнего возраста любовь несовместима с достоинством человека». В момент их знакомства Есенину было 26, а Айседоре — 43 года.
«Малиноволосая, беспутная и печальная, чистая в мыслях, великодушная сердцем, — писал об Айседоре художник Юрий Анненков, — Дункан пленилась Есениным, что совершенно естественно: не только моя Настя считала его "красавчиком". Роман был ураганный и столь же короткий, как и коммунистический идеализм Дункан».
Нет сомнения в том, что встреча с Айседорой оставила глубокий след в душе Есенина. Дункан была талантлива, щедра, непосредственна. Она была широко образованна, тонко чувствовала искусство, сама владела пером, о чем говорит написанная ею книга «Моя жизнь». Великая артистка, познавшая триумф, избалованная роскошью, капризная и своевольная, очень ревнивая. Друзья говорили, что вся ее жизнь — «сплошные прыжки через препятствия».
Айседору поразил «страстный напор славянской души». Покорили трепетная нежность, детскость, незащищенность души поэта, ничего подобного она не встречала никогда в жизни!
Об их союзе говорили много. Одни со злостью, завистью, другие с восхищением и симпатией. Третьи с состраданием, как Ирина Одоевцева, сразу почувствовавшая «трагизм и обреченность этого брака».
Есенин звал возлюбленную «Изадора» на ирландский манер, как называла себя она сама. Их общению, конечно, мешало то, что Есенин говорил только по-русски, а Дункан — по-английски, французски и немецки. У Айседоры и ее молодого поэта без конца возникали забавнейшие сцены, когда они хотели что-то внушить друг другу, ведь большая часть их языка состояла из жестов. В конце концов они нашли для себя ломаный английский язык, который понимали только они, но который годился на все случаи жизни.
Танцы Айседоры сводили Есенйна с ума. Особенно с шарфом. Без конца он просил ее танцевать для своих друзей. «Замечательно она с шарфом танцует», — говорил Есенин поэту Георгию Иванову.
12 апреля 1922 года в Париже умерла мать Айседоры Дункан. Танцовщица решила, что должна на время уехать из России. К этому ее вынуждало и безнадежное финансовое положение школы.
Но с Есениным Айседора расставаться не намерена, она надеется, что участие «первого поэта России» привлечет к ее гастролям внимание мировой печати. Чтобы ускорить получение визы для Есенина, пришлось зарегистрировать брак. Они пожелали носить двойную фамилию — Дункан-Есенин. 10 мая супруги на почтово-пассажирском самолете вылетели в Берлин, где «Изадора, — пишет поэт, — вышла за меня замуж второй раз и теперь уже не Дункан-Есенина, а просто Есенина». Узнав об этом, репортеры осаждают гостиницы. Все выступления, встречи знаменитой пары широко освещаются в печати, обрастают слухами.
Поездка за рубеж, по мнению Дункан, должна была встряхнуть Есенина, отвлечь, излечить от депрессии. Но ни встречи со знаменитостями, ни красоты и достопримечательности других стран не затронули его души. Есенин топит тоску в вине, временами обещая встревоженной Айседоре не брать «три месяца ни капли в рот».
Айседоре пришлось много танцевать, чтобы их пребывание повсюду было обставлено с комфортом и доставило большое удовольствие. Сергей почувствовал себя в благах цивилизации как рыба в воде и требовал, чтобы ему каждый день мыли голову, чтобы у него была отдельная ванна, много одеколона, пудры, духов и т. п.
Супруги провели два очень счастливых месяца в Париже, совершая поездки в Италию и другие места. Много времени и сил положила Дункан на организацию перевода и публикацию стихов Есенина. Всюду в их честь устраивались приемы, и она была счастлива.
Есенина захотел увидеть живший тогда в Берлине писатель Максим Горький. Он просит Алексея Толстого: «Зовите меня на Есенина, интересует меня этот поэт».
Встреча состоялась в пансионе Фишера. Есенин приехал с Айседорой. «За русски революс!» —говорила она, протягивая Горькому стакан водки. Дункан танцевала в тесной комнате и, закончив танец, опустилась на колени перед Есениным. По просьбе Горького Сергей читал стихи из цикла «Москва кабацкая » и поэму «Черный человек». «Взволновал он меня до спазма в горле, рыдать хотелось», — записал Горький в дневнике.
Из Берлина через Париж Есенин с Айседорой отправились в Америку. По контракту Дункан должна была танцевать в ряде городов восточных и центральных штатов. После выступлений она выводила на сцену Есенина, представляя его публике как «второго Пушкина».
Роль «мужа своей жены» была явно не по душе поэту.
В Америке «красная Айседора» со своим «молодым русским мужем » оказались в центре внимания прессы. Репортеры толпились у их номера в гостинице в предвкушении сенсаций. На вечере у поэта Мани-Лейба Есенин читал главы из поэмы «Страна негодяев». Вечер закончился скандалом, после которого концертные выступления Айседоры в Америке стали невозможны.
Есенин и Дункан возвратились в Россию в августе 1923 года (поездка заняла пятнадцать месяцев). Айседора на платформе Московского вокзала, держа Сергея за руку, сказала: «Вот я привезла этого ребенка на его родину, но у меня более нет ничего общего с ним».
Есенин же привез в Россию из поездки множество костюмов, пар обуви, плащей, пальто, шелковых рубашек, пижам и массу денег, и все это он собирался раздарить приятелям. «Поэзия там никому не нужна, — с горечью рассказывал Есенин друзьям. — Ас Изадорой адьо! Безвозвратно... Я русский, а она... не могу... Я когда границу переезжал, плакал... землю целовал...»
Айседора поехала в Крым, туда должен был приехать и Есенин. Несмотря ни на что, его там ждали.
Есенин отправил ей телеграмму: «Я люблю другую женат счастлив Есенин». «Жена» —это Галина Бениславская. Именно в ее комнате поселился поэт по приезде из-за границы. Бениславская была ему верной подругой, доверенным лицом и помощницей по издательским делам.
Но на этом любовная драма с Айседорой Дункан не закончилась. Она появилась в Москве, и Есенину пришлось поехать к ней объясняться. Сделав несколько безуспешных попыток вернуть поэта, Айседора уехала из России во Францию. Это был не самый лучший период ее жизни: конец любви и осень возраста. Ни о каких громких турне и гастролях не приходилось и думать, ее время прошло.
В декабре 1925 года пришла весть о трагической гибели Сергея Есенина. В день похорон поэта на Ваганьковское кладбище пришли близкие женщины Есенина: Изряднова, Райх, Бениславская, Вольпин, Толстая... Была оглашена и телеграмма, присланная Айседорой Дункан.
После смерти Есенина Айседора прожила всего два года. Она писала Ирме из Ниццы: «Я была потрясена смертью Сергея, но я оплакивала его и рыдала о нем столько долгих часов, что, кажется, истощила все человеческие способности к страданию...»
Вечером 14 сентября 1927 года она села в гоночный
автомобиль, чтобы прокатиться «с ветерком». Набросив на плечи свой длинный
красный шарф, Дункан дважды обмотала его вокруг шеи, закинув конец за спину, и
села в автомобиль. «Прощайте, мои друзья! Я иду к славе!» — были ее последние
слова. По трагичной случайности шарф намотался на спицы колеса, и когда машина
тронулась, он туго сдавил ее горло.
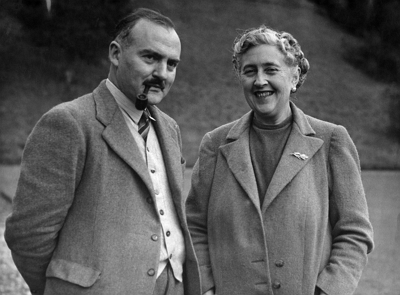 До
первого брака она носила имя Агата Мэри Кларисса Миллер, после второго стала
леди Мэллоуэн, но для миллионов читателей на всех континентах эта удивительная
женщина была и останется великой и неподражаемой Агатой Кристи.
До
первого брака она носила имя Агата Мэри Кларисса Миллер, после второго стала
леди Мэллоуэн, но для миллионов читателей на всех континентах эта удивительная
женщина была и останется великой и неподражаемой Агатой Кристи.
Ей было 22 года, когда на одном из званых ужинов в родном городе Торки она познакомилась с бравым лейтенантом корпуса Королевских военно-воздушных сил Арчибальдом Кристи. Вскоре они обручились. Агата родила дочь Розалинду, начала сочинять. Но семейная жизнь не сложилась. В апреле 1928 года супруги развелись, Агата хотела сменить фамилию, но этому решительно воспротивились издатели — писательница Кристи была популярна.
Она с головой ушла в работу. О новом замужестве даже не помышляла — слишком болезненной была история первого брака. Кристи отличала скромность, она предпочитала больше слушать, чем говорить, больше наблюдать, нежели демонстрировать себя. Ее наблюдательность, юмор, умение радоваться жизни были обратной стороной того, что составляло содержание ее книг.
Агата Кристи любила путешествовать. В 1930 году она отправилась в Ирак на знаменитом поезде «Orient Express». В нем была даже ванная, отделанная мрамором, в вагоне-ресторане — изысканная кухня, вышитые вручную скатерти. Легко догадаться, что путешествие в этом экспрессе обходилось весьма недешево. Но понесенные расходы окупились с лихвой. Роман «Убийство в Восточном экспрессе» — одно из самых популярных произведений Агаты Кристи, а снятый на его основе фильм получил шесть номинаций на премию «Оскар ». «Восточный экспресс » принес писательнице изрядное состояние и новую жизнь. Ибо в конечном пункте путешествия ее ждала встреча с человеком, который затем в течение 45 лет был ее опорой, надежным другом, с которым она делила все радости и горести.
На месте раскопок легендарного шумерского города Ур писательница познакомилась с талантливым археологом Максом Мэллоуэном. Ему было тогда двадцать шесть, ей — сорок. Худой, темноволосый молодой человек, очень тихий, Макс мало говорил, но, когда требовалось, действовал моментально.
Друзья попросили Мэллоуэна быть гидом писательницы. В дороге им пришлось пережить немало приключений. Однажды грузовик, в котором они ехали по пустыне, увяз в песке. Макс с шофером, достав лопаты, проволочные сетки и прочие приспособления, старались освободить машину из песчаного плена — увы, безрезультатно. Час проходил за часом. Невыносимая жара не спадала. Агата не паниковала. Она просто легла в тени машины и... уснула.
Кристи пришлось вскоре уехать — она неосторожно попала ногой в одну из квадратных ям, приготовленных для высадки деревьев, и растянула связки. Мэллоуэн вызвался сопровождать ее домой, в Англию. «Он замечательный человек, — отметила про себя Агата. — Молчалив, скуп на выражение сочувствия, но делает то, что нужно именно вам, и это помогает лучше всяких слов».
В пути Мэллоуэн рассказывал спутнице о своей семье, братьях, матери-француженке — женщине артистического склада, способной художнице; об отце, финансовое положение которого отличалось завидной стабильностью...
В Европе они расстались, но ненадолго. Погостив во Франции, Мэллоуэн приехал в Лондон, где ему была обещана работа в Британском музее. Конечно, Макс тут же пригласил свою новую знакомую на свидание. Агата искренне разделяла его увлечение археологией, которая была делом жизни Макса. Это и предопределило развитие их отношений. Они понимали друг друга с полуслова.
Кристи чувствовала себя счастливой. Но когда молодой друг осмелился сделать ей предложение, она ответила отказом. «Я все ему объяснила: я намного старше его — он признал это, но сказал, что всегда хотел жениться на женщине старше себя, — пишет в автобиографии Кристи. — ...Мы проспорили, думаю, часа два. И постепенно он сломил меня — не столько доводами, сколько мягким напором».
Розалинда дала согласие на второй брак матери, получив от Макса «взятку» в виде нескольких пакетиков с леденцами.
Бракосочетание состоялось 11 сентября 1930 года в Эдинбурге, в маленькой часовне при соборе Святого Коломба. Свадьба получилась именно такой, как они хотели — никаких репортеров, все удалось сохранить в тайне. Новобрачные расстались на церковном пороге. Макс поехал в Лондон — заканчивать работу, связанную с урскими находками, Агата с Розалиндой вернулась домой.
Через два дня Мэллоуэн заехал за женой в нанятом «даймлере». Они прибыли в Дувр, откуда направились в Венецию. Макс все продумал до мельчайших деталей. Его жене оставалось лишь наслаждаться отдыхом. «Уверена, никто не получал от свадебного путешествия такого удовольствия, как мы , — пишет Агата Кристи.
Супруги посетили Дубровник, Сплит, потом проехали вдоль побережья Далмации и Греции в Патры. Дельфы поразили их неправдоподобной красотой. Мэллоуэны даже нашли место, где можно было бы построить домик.
Агата с удивлением узнала, что Макс никогда не читал ее романов. Однажды друзья посоветовали ему прочесть «Убийство Роджера Экройда», но тут же кто-то сказал, чем кончается там дело. Облегченно вздохнув, Мэллоуэн заявил: «Какой смысл читать роман, если знаешь, чем он кончится?»
Однако после свадьбы он прочитал все, что написала Агата Кристи. К тому времени она уже написала книг десять. Поскольку легким чтением Макс считал профессионально написанные труды по археологии и древней культуре, его жене было забавно наблюдать, с каким трудом давалось ему чтение детективов.
Но Мэллоуэн был не только мужем известной писательницы, ежегодно издававшей как минимум две книги. Он добился больших успехов в археологии, открыв множество тайн Нимруда: знаменитую крепость Шалманезер на границе города, сделал другие находки в разных местах кургана. Перестала быть загадкой история Калаха, военной столицы Ассирии. Музеи мира обогатились изящными, изысканно вырезанными фигурками из слоновой кости.
Весну и осень семейство Мэллоуэн проводило в пустыне, остальное время года — в Англии. Агате нравилось работать на археологических раскопах. Она с удовольствием чистила находки из слоновой кости. Максу и Агате было невыразимо хорошо вместе, и раскопкам сопутствовал успех.
Вообще, годы с 1930-го по 1938-й Кристи считает особенно удачными. Агата писала детективные истории, Макс — книги по археологии, доклады и статьи. «Мы были заняты, но не чувствовали постоянного напряжения, — отмечает писательница. — Вот так мы и жили. Макс со своей археологией, которой был предан всей душой, я — со своим писательством, становившимся все более профессиональным и вызывавшим поэтому во мне все меньше энтузиазма».
Мэллоуэны приобрели особняк Гринвей, стоявший на берегу Дарта. Белый дом в георгианском стиле, построенный в конце XVIII века, и роща со множеством прекрасных деревьев и кустов, простирающаяся до самого Дарта, — идеальное имение, о таком можно только мечтать.
Во время войны супругам пришлось переехать в многоквартирный дом в Хампстеде. Агата Кристи начала работать провизором в аптеке университетского колледжа. Максу было предписано отправиться за границу, на Ближний Восток или в Северную Африку, для службы в колониальной администрации: там его знание арабского языка могло пригодиться. Агата радовалась за него, так как знала, сколько усилий он прилагал, чтобы добиться этого назначения. За десять лет супружества они впервые расставались надолго.
Розалинда, вышедшая незадолго до войны замуж за майора Хуберта Причарда, родила сына и уехала жить в деревню, подальше от постоянно подвергавшегося бомбардировкам Лондона.
Впервые Агата почувствовала себя одинокой и решила написать психологическую повесть под псевдонимом Мэри Вестмаккотт, впоследствии признанную многими критиками одним из лучших ее произведений.
Через три года супруги встретились так, словно расстались вчера.
После возвращения из Северной Африки Мэллоуэн поступил в распоряжение Министерства авиации.
Незадолго до окончания войны муж Розалинды погиб, оставив ее с сыном Мэтью, которому было суждено стать утешением писательницы в старости. Мэтью называл бабушку Нима и обожал ее. Агата сочиняла для внука прекрасные сказки, но никогда их не записывала.
Война была кошмаром, в котором действительность словно замерла. Наконец она позади. В 1948 году ученые возобновили свои экспедиции. В Институте археологии Лондонского университета открылась кафедра западноазиатской археологии, профессором которой стал Мэллоуэн.
После десятилетнего перерыва Макс и Агата с восторгом вернулись к работе на Ближнем Востоке. Они выехали на север Ирака, в город Эрбил, неподалеку от которого находился курган. Оттуда их путь лежал в Мосул, но по дороге супруги посетили Нимруд.
Доналд Уайзмен, один из эпиграфистов, прикрепил на дверь комнаты писательницы табличку, оповещавшую, что это «Бейт Агата» — «Дом Агаты». Здесь писательница уединялась, чтобы немного поработать. Нобольшая часть дня уходила на фотографирование или реставрацию и чистку находок из слоновой кости.
Мэллоуэны прожили вместе сорок шесть счастливых лет (Агата взяла фамилию мужа, но писать продолжала под прежним именем). Все эти годы она совмещала собственную литературную работу с самоотверженной помощью мужу. Ей принадлежат такие строки: «Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю любовь, которая была мне дарована».
В 1968 году Макс Мэллоуэн за заслуги перед британской археологией был возведен в рыцарское достоинство. Теперь его жена имела право на титул леди.
Когда же писательнице
исполнилось 80 лет, королева наградила ее Командорским орденом Британской
империи. Супруги отправились на несколько дней в Париж. Там он впервые отметил,
что Агата уже «не так шустра», как в былые времена, и впервые ощутил себя моложе
жены. Подошла осень жизни. Еще было написано семь книг, среди них «Занавес», в
которой Агата лишает жизни Эркюля Пуаро. Сама она отправилась в последний путь
вслед за своим героем 12 января 1976 года ранним морозным утром в своем доме в
Веллингтоне. Похоронена Агата Кристи на церковном кладбище в Челси. Через
полтора года Макс женился второй раз и, не прожив и года в новом браке, умер от
инфаркта.
 «Мировую славу я завоевал только с помощью Бога... и повседневного героического
самоотрешения необыкновенной женщины — моей жены Гала», — говорил испанский
художник Сальвадор Дали. Кто же она, которая «вместе с Богом» помогла завоевать
мировую славу одному из самых удивительных художников современности?
«Мировую славу я завоевал только с помощью Бога... и повседневного героического
самоотрешения необыкновенной женщины — моей жены Гала», — говорил испанский
художник Сальвадор Дали. Кто же она, которая «вместе с Богом» помогла завоевать
мировую славу одному из самых удивительных художников современности?
Поначалу жизнь не сулила Елене Дьяконовой ничего хорошего. В одиннадцать лет она потеряла отца (он был скромным казанским чиновником), в семнадцать переехала в Москву, поселившись с матерью у отчима — адвоката Дмитрия Ильича Гомберга.
Б 1913 году заболевшая туберкулезом Елена Дьяконова переезжает в Швейцарию, на курорт Клаваделе. И там она всем объявляет, что зовут ее Гала.
На курорте Дьяконова знакомится с молодым поэтом Эженом Гренделем, который станет широко известным под псевдонимом Поль Элюар. Он с удовольствием читал ей свои стихи. Через несколько лет они поженятся и у них родится дочка Сесиль.
В начале лета 1929 года Гала и Элюар отправляются на автомобиле в долгую поездку по Европе. По дороге из Швейцарии они оказываются в небольшом каталонском городке Кадакесе, куда Поля пригласил едва с ним знакомый молодой художник Сальвадор Дали...
Гала выглядела уставшей и скучающей. Дали ей сначала показался «невыносимым» и «неприятным».Каталонец же, напротив, очень скоро стал глядеть на нее не отрываясь. Любовь поражает его как удар молнии. Что же касается Гала, она сдержанна и холодна, более высокомерна, чем когда-либо, а поведение Дали ее, несомненно, раздражает. Сальвадору было двадцать пять лет, Елене — тридцать пять.
Итак, первое впечатление Гала было негативным, тем более что сама она предпочитала в одежде стиль строгий и даже аскетичный. Но... «Она распознала во мне наполовину сумасшедшего гения, способного на большую отвагу».
Дали родился в семье провинциального нотариуса в испанском городе Фигерас, столице провинции Ампурдан. В семье были еще сестра Анна Мария, брат, который умер от менингита до рождения Сальвадора. Дали был потрясен смертью матери, случившейся в 1921 году, и долго не мог простить отца, женившегося на его молодой тетушке.
Однажды Дали и Гала отправились вдвоем на прогулку. Они забираются на скалы, идут вдоль маленьких бухточек туда, где Сальвадор чувствует себя счастливым и сильным; там он открывает для Гала свой мир — уголок Испании, где ему нравится жить.
Гала, повинуясь внезапному порыву, произносит: «Мой мальчик, мы больше не будем расставаться». Что-то подсказывает Гала, что у Дали великое будущее. Она вдохновляет его: «Скоро вы будете таким, каким я хочу вас видеть».
«Тело Гала, — говорит ослепленный Дали, — мне казалось сделанным из божественной плоти цвета золотистого муската». И вот она под лучами солнца превратилась в глазах влюбленного Дали в королеву.
Через два месяца он приезжает к ней в Париж. Ему не хватает Гала: «Я по-настоящему могу с тобой поздороваться, только занимаясь с тобой любовью», — пишет Сальвадор.
Поль Элюар не хочет расставаться с женой и посвящает ей одно стихотворение за другим, умоляет не покидать его. Но Гала все больше времени проводит с Дали. Благородный Элюар оставляет им свою квартиру, которую с любовью когда-то обставлял.
У Гала появляются новые заботы: где взять деньги на еду, кино (единственное развлечение), холсты и краски? Она без особого успеха пытается продать работы Дали. А вечером Гала занимается хозяйством и кухней, не забывая подбадривать Сальвадора, чтобы он продолжал писать картины.
В Париже Дали живет как в изгнании. Гала — его опора, без нее он никогда не осмелился бы ходить по враждебным улицам: «Гала, дай мне руку. Я боюсь упасть». Но именно в Париже о них начнут говорить. Виконт де Ноайя отправит на имя Дали чек в двадцать девять тысяч франков — авансом, за будущую картину. Благородный князь из старинного французского рода Жан-Луи де Фосини-Люсэнж также покупает картину Дали. Более того, князь решает создать специально для художника клуб «Зодиак» для состоятельных людей. И настанет конец горькому и трудному этапу в жизни супругов Дали. Они смогут переехать в каталонскую деревню Порт-Льигат, где художнику работается особенно хорошо.
15 июля 1932 года гражданский суд французского департамента Сена утвердил развод Эжена и Гала Грендель после пятнадцати лет супружеской жизни. Дочь Сесиль осталась с отцом.
Осенью того же года Гала сделали операцию, после которой она больше не могла иметь детей. Впрочем, ни она, ни Сальвадор не хотели обременять себя ребенком. «Я ничего не желаю передавать будущему от Дали, — доверится Сальвадор доктору Луису Повелси. — Я хочу, чтобы все закончилось на мне».
Дали и Гала настолько увлечены друг другом, что окружающий мир мало интересует их. Дали всегда говорил, что он сторонится политики. Но когда Испанию потрясает всеобщая забастовка, супруги в панике покидают свою уютную хижину на берегу моря и отправляются во Францию.
Перед Дали и Гала открыты двери лучших домов Парижа, популярность художника растет с каждым днем. Их брак регистрируют зимой 1934 года в консульстве Испании.
1930-е годы — время, когда Дали всерьез заявляет о себе на весь мир. Особым вниманием пользуются его работы в Америке. Туда-то и отправляются супруги в конце 1934 года. Дали боится пересекать океан. Гала придется долго убеждать его, прежде чем он согласится на путешествие.
Выставка художника в галерее на Мэдисон-авеню прошла с огромным успехом, его полотна отлично продавались. Как ни странно, американцам Дали оказался куда ближе, чем консервативным жителям Старого Света.
В начале Второй мировой войны супруги вновь отправляются в США. Первые шесть месяцев Дали живут не в Нью-Йорке, а в имении «Хэмптон Манор» в штате Вирджиния, куда супругов пригласила их подруга Кэрес Кросби. Гала удается подчинить своей воле распорядок жизни всех обитателей имения.
В Кросби Сальвадор работал не менее плодотворно, чем у себя дома. И написал он за это время не только полотна. Именно тут была создана первая книга художника «Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим». Это гимн любви в честь Гала.
Гала заключает контракты, ведет переговоры с организаторами выставок, потенциальными покупателями. Имя Дали становится популярным. Его картины приобретает миллиардер Морс. Семья Клевеленд решает купить одновременно несколько десятков полотен Дали (в итоге в частную коллекцию миллиардеров попали 94 картины художника). Цены на работы выставляются соответствующие. Художник и его жена не пренебрегают случайными приемами, бывают везде, куда их приглашают директора музеев или богатые коллекционеры.
Супруги путешествуют по Америке, едут в Чикаго или в Кливленд — и всегда вместе. С тех пор как они покинули Париж, у них нет больше дома, они живут в отеле. Сначала в «Сен-Морице», затем в «Сан-Реджесе», одном из самых красивых зданий Нью-Йорка, на углу Пятой и Пятьдесят пятой улиц.
Добиваясь богатства, Дали, по его собственным словам, преследовал цель обрести как можно больше власти. Под воздействием жены он за хорошую плату берется за любую работу. Дали иллюстрирует книги и рисует костюмы и декорации к балетам. Он делает рекламу, украшает витрины больших магазинов, рисует новые модели платьев и украшений, предлагает свои услуги в качестве декоратора кинопродюсерам, пишет статьи для первых полос популярных изданий. Все это приносит немалый доход.
Дали — самый верный мужчина в мире. Несмотря на то что художника окружают юные соблазнительные модели, позирующие ему чаще всего обнаженными, он остается верным Гала. «С какой знаменитой женщиной вы хотели бы провести ночь?» — спросил его поэт Ален Боске. «Ни с какой, — ответил Сальвадор. — Я на сто процентов верен Гала».
Она становится главным персонажем полотен художника. Для знаменитой «Атомной Леды» — картины размером 61 х 45 сантиметров — Гала позировала в течение нескольких месяцев.
В 1948 году Дали решают вернуться в Порт-Льигат. Разбогатев, они расширяют и перестраивают свои владения в Каталонии. Но в округе их дом будут по-прежнему называть Casa Dali.
До конца пятидесятых годов супруги лишь изредка принимали избранных гостей — потенциальных клиентов, приехавших посмотреть, как работает мастер в своем ателье.
Желая отдохнуть, Гала совершает длительные поездки на средиземноморские курорты или в крупные города. Большие деньги позволяют ей менять молодых любовников как перчатки. Лишь один из них, актер Джеф Фенхольд, станет спутником Галы на протяжении нескольких лет.
Несмотря ни на что, она остается для Дали божеством. Он пишет картины, на которых Гала изображена в облике Мадонны. Одну из работ Дали преподнес во время аудиенции папе римскому Пию XII. Тогда же он попросил разрешение на церковный брак с Гала, однако получил отказ. Лишь в 1958 году, по прошествии шести лет после смерти Элюара, Гала и Сальвадор обвенчались в маленькой часовне провинции Жерона.
Осенью 1965 года художник познакомился с очаровательной Амандой Лир, приехавшей в Париж для участия в демонстрации мод. Ростом метр семьдесят шесть сантиметров, с длинными светлыми волосами, в мини-юбке, она, по мнению Дали, являла собой архетип красоты.
Жизнь художника-миллиардера является противоположностью ее жизни, жизни богемной. «Дали был наполовину лысым, толстоватым, он показался мне претенциозным и даже смешным...» — напишет Аманда позже. Однако совсем скоро она находит в нем очаровательного собеседника, забавного и интересного, ее покоряют ум и фантазия Дали.
В течение десяти лет Аманда большую часть своего времени будет проводить в компании Сальвадора Дали. Она позирует обнаженной для картин художника, которые называются «Анжелика и Дракон», «Святой Георгий». Вместе с ней Дали появляется в 1974 году на открытии своего музея в Фигерасе.
Гала не стала менее внимательной и заботливой по отношению к своему «маленькому Дали». Когда он болеет, она ухаживает за ним; когда он совершает ошибки, она старается их исправить. Сначала Гала очень недоверчиво относилась к Аманде Лир, но вскоре поняла, что девушка оказывает благотворное влияние на Дали. С Амандой он вновь улыбается, к нему возвращается желание рисовать и работать.
Гала же устала и готовится к отъезду. Своего «маленького Дали» эта удивительная женщина оставляет на попечение Аманды Лир, которую считает своей преемницей. Однако Дали боится, что жена уедет слишком далеко, и дарит ей замок Пуболь (что по-каталонски означает «тополь»), нависающий над холмом возле Ля-Биспаль, в восьмидесяти километрах от Кадакеса.
Пуболь станет последним прибежищем Гала, она будет приезжать сюда каждое лето начиная с 1970 года, оставляя Дали в Порт-Льигате. Это было время долгих разлук.
Вскоре здоровье Дали стало таким плохим, что Гала покидает свой дворец в Пуболе и переезжает к нему.
Последнее лето в Порт-Льигате, освещенное визитом короля Хуана Карлоса и королевы Софии, прошло под знаком Паркинсона и Альцгеймера: Дали клацает зубами, ему мерещится, что носороги подбираются к его кровати, и кажется, что его вот-вот убьют. Гала замыкается в себе, выход из состояния задумчивости сопровождается сильными приступами ярости.
В начале лета 1982 года Гала решает принять таинство соборования, пригласив местного священника.
10 июня, во второй половине дня Дали, отдыхавший в своей комнате, вдруг громко закричал. Гала умерла.
Она была похоронена в склепе Пуболя в присутствии немногочисленных «близких» и слуг.
Через месяц после смерти Гала король Хуан Карлос наградил Дали большим крестом Карла III и пожаловал ему титул маркиза де Пуболя. Сальвадор гордится именем, сближающим его с Гала.
В начале 1983 года Дали пытается заняться живописью. Он работает в столовой в Пуболе, сидя на табурете, при электрическом свете, а одна из сестер милосердия, мадам Фабрега, читает ему, как это раньше делала Гала. Но уже в марте Дали раз и навсегда откажется от карандаша и кисти. Он хочет умереть...
Последним днем для него станет 23 января 1989
года. Набальзамированное тело художника-сюрреалиста, одетое в белую тунику,
вернется в Фигерас в сопровождении большого кортежа. Каталонцы, отдавая должное
своему великому земляку, проводят катафалк аплодисментами...
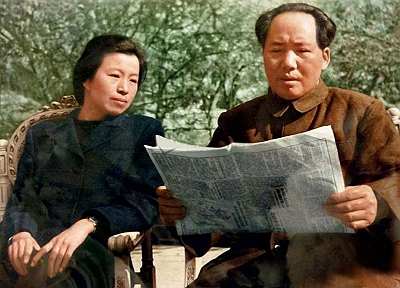 Всего
три месяца не дожил Мао Цзэдун до своего 83-летия. Умер в ночь на 9 сентября
1976 года. Прощались с «великим кормчим» в большом зале Дома народных собраний.
Море венков и цветов. Но, пожалуй, самое почетное место у постамента с
саркофагом Мао занимал венок, сплетенный из бумажных белых цветов. Цветы для
венка сотворила Цзян Цин — последняя официальная жена Мао.
Всего
три месяца не дожил Мао Цзэдун до своего 83-летия. Умер в ночь на 9 сентября
1976 года. Прощались с «великим кормчим» в большом зале Дома народных собраний.
Море венков и цветов. Но, пожалуй, самое почетное место у постамента с
саркофагом Мао занимал венок, сплетенный из бумажных белых цветов. Цветы для
венка сотворила Цзян Цин — последняя официальная жена Мао.
Она родилась в 1914 (по другим данным, в 1912) году в провинции Шаньдун в семье мелкого предпринимателя Ли Дэвэня. В 1928-м поступила в Цзинани на театральные курсы. К моменту знакомства с Мао успела трижды побывать замужем — за сыном торговца по фамилии Хуан, коммунистом Юй Цивэем и театральным критиком Тан На.
В ноябре 1937 года Мао Цзэдун, читавший в академии лекции, обратил свой благосклонный взор на привлекательную молодую женщину. Утверждают, что именно Мао назвал свою новую подругу именем Цзян Цин («Речная лазурь»).
Мао Цзэдун родился в 1883 году. Отец тщетно пытался приобщить мальчика к ремеслам и торговле, от которых тот неизменно бежал к книгам. В ранней юности родители хотели женить Мао на двадцатилетней девице по фамилии Ло. Делалось это с целью заполучить в дом дополнительные женские руки. Однако Мао воспротивился, и до логического конца обряд не был доведен.
Его первой официальной женой была Ян Кайхуэй — дочь профессора Ян Чанцзи. Поженились они в 1920 году, а через десять лет Ян Кайхуэй была казнена гоминьдановцами в городе Чанша. Она родила троих сыновей.
Потом Мао Цзэдун жил в Цзинганшане — с Хэ Цзычжэнь. Эту девушку из крестьянской семьи принято считать третьей женой Председателя. От нее у Мао родилось пять дочерей. С Цзычжэнь он расстался в 1937 году, отправив ее на лечение в Москву.
А вскоре в освобожденном районе Яньань на северо-западе Китая появилась Цзян Цин, молодая представительница шанхайской богемы «левой ориентации».
Как она попала в личное окружение Мао? Как удалось ей пройти заслон из соратников, охраны, жены, наконец?
Еще в Шанхае, по словам Цзян Цин, до нее доходили слухи о странствующем вожде «красных» Мао Цзэдуне. Она могла только мечтать о встрече с ним. Мао сам заметил Цзян Цин и пригласил на свою лекцию в Институт марксизма-ленинизма. Удивленная и преисполненная благоговейного трепета, Цзян Цин сначала отказалась, но позже приняла приглашение. Так началась их связь, которая долгое время тщательно скрывалась от окружающих. Тем более что в Яньане находилась до конца 1937 года прежняя жена Мао, «несгибаемый революционный боец» Хэ Цзычжэнь, делившая с ним тяготы Великого похода. Приходилось маскироваться. Цзян Цин получила скромную должность сотрудника военного архива и только через несколько месяцев перебралась в «пещерную квартиру» Мао.
Их свадьба тоже связана со скандальной историей. Известно, что в Политбюро ЦК КПК раздавались голоса против развода Мао Цзэдуна с Хэ Цзычжэнь, которая в то время находилась на лечении в Советском Союзе, и особенно против брака с женщиной, имевшей сомнительную репутацию. Этот вопрос обсуждался на заседании Политбюро, однако Мао Цзэдун заявил, что личную жизнь будет устраивать по своему усмотрению.
Новая жена Мао погрузилась в хозяйственные заботы, трогательно ухаживала за Мао, пропадала на кухне, стараясь готовить острые, пряные блюда его любимой хунаньской кухни. В 1940 году она родила дочь Ли На.
Цзян Цин любила фотографироваться, играла в карты, танцевала. Путешествуя по Китаю, она останавливалась в «сингунах» («путевых дворцах»). Там первая дама Поднебесной непременно начинала всяческие реконструкции и перестройки. И при этом требовала в основном следовать плану хорошо запомнившейся ей сталинской дачи с поправкой на собственные причуды: боялась шума, сквозняка, света. Мастера добавляли вторые и третьи рамы в окнах, мебель делалась из легкого дерева, ножки подбивались резиной, войлоком.
Лишь один раз в 1950-е годы попыталась Цзян Цин ворваться в большую внутрикитайскую политику, выбрав роль полномочного представителя Мао «по культуре».
Супружеские отношения между Мао и Цзян Цин фактически прекратились в начале 1950-х, то ли из-за проявившегося с годами склочного характера Цзян Цин, то ли после нескольких операций, сделанных ей в Советском Союзе по поводу женских болезней. Официально они оставались мужем и женой до последней черты. Подруг у Мао, по слухам, было немало, среди них признанные красавицы, поэтессы, актрисы...
В первые годы «культурной революции» Мао был полон доверия к Цзян Цин. Подобно небесному светилу, он высоко стоял над миллионами людей. Однако официальное положение «солнца нации» не давало гарантий от комплексов, одолевающих временами если не всех, то многих мужчин. И «кормчий» пытался найти в близкой ему женщине опору, обрести с ее помощью внутреннее равновесие.
Мао жил в некоем фантастическом мире, где действительность перемежалась с иллюзиями. Среди реальных людей ему виделись образы китайского фольклора — черти, оборотни, духи. Цзян Цин научилась направлять его.
Власть во второй половине 1960-х — начале 1970-х ассоциируется у многих китайцев не с лучезарным Мао, а с Цзян Цин в зеленой армейской кепке с красной звездой среди толпы преданных ей хунвэйбинов. В годы «культурной революции» она — связующее звено между Председателем и «студенческими массами».
На съезде компартии в 1969 году Цзян Цин под гром аплодисментов была избрана в Политбюро. Летом следующего года на пленуме она вступила в схватку с могущественной «военной» группировкой Линь Бяо. И победила. Во многом благодаря вмешательству супруга, опубликовавшего в ее поддержку письмо под заголовком «Мои кое-какие соображения».
Но Мао Цзэдун стал терять доверие к жене. То ли сам он в запоздалом прозрении увидел неспособность Цзян Цин и ее окружения к серьезным делам, то ли его убедили в этом ветераны партийного руководства, но лик «солнца нации», обращенный к жене, становился все более хмурым и неприветливым.
В последние годы своей жизни он предпочитал изъясняться с женой в письменной форме. В ответ на очередную просьбу о личной встрече от него поступала такая, например, записка: «Цзян Цин, нам все-таки лучше не видеться. Ты не исполняешь многое из того, о чем было между нами говорено за многие годы. Так зачем же видеться? Есть ведь труды марксизма-ленинизма, есть мои книги, но ты их не изучаешь. Я обременен тяжким недугом, ведь мне уже 81 год — как не понять? У тебя большая власть, я помру — что будешь делать? К тому же ты не обсуждаешь крупные дела, а изо дня в день шлешь людей по пустякам. Пожалуйста, обдумай это».
Теперь Цзян Цин должна была добиваться свиданий с Председателем через канцелярию ЦК КПК, откуда прошения передавались на личное утверждение «кормчему». Нередко ее визиты удручали старца, например когда она попросила 30 тысяч юаней. После ухода жены по щекам Мао покатились слезы: «Она увидела, как я немощен, и готовит себе отступление, намереваясь унаследовать мои гонорары...»
Цзян Цин, судя по всему, и вправду не испытывала к Мао Цзэдуну особого сочувствия, она даже не проявляла интереса к его болезни.
Летом 1974-го, когда здоровье Мао Цзэдуна улучшилось, он собрал заседание Политбюро. Между ним и Цзян Цин началась очередная перепалка из-за Дэн Сяопина. «Как говорил старина Конфуций, — процитировал Мао древнего философа, — речи должны вызывать доверие, а дела — приносить плоды». После чего вдруг произнес: «Послушайте, она отнюдь не представляет меня, она представляет сама себя. В ней две части: одна — хорошая, а другая — не слишком».
На этом заседании Мао впервые, указав пальцем в сторону Цзян Цин, воскликнул: «Да ведь она, можно сказать, из шанхайской банды! Прошу обратить внимание, не надо создавать секту четырех!»
Мао все более и более отдалялся от супруги. По воспоминаниям окружающих, он даже вздыхал: «Простолюдины, когда хотят развестись, идут в суд, а куда мне направить заявление?»
Тем не менее Цзян Цин продолжала повсюду называть себя доверенным лицом Председателя, утверждая, что он здоров и отлично себя чувствует.
«После меня ты упадешь на дно самого глубокого ущелья. Твое тело разобьется вдребезги», — незадолго до своей смерти писал Мао Цзэдун жене. И оказался провидцем.
«Великий кормчий» умер 9 сентября 1976 года, а менее чем через месяц в Пекине арестовывают ближайших его соратников, так называемую «банду четырех», в которую входила и Цзян Цин. Официальное разъяснение было кратким: «четверка» планировала контрреволюционный переворот, но ее опередили.
Лишь в ноябре 1980 года начался судебный процесс. Цзян Цин, появляясь в зале заседаний специального трибунала, выкрикивала: «Революция — не преступление, бунт — дело правое!», издевательски вопрошала судей, где они прятались, пока она в течение десятков лет находилась рядом с Председателем. Она отрицала все обвинения, так и не признав себя виновной. «Я была собакой Председателя Мао, — заявила она. — Если он приказывал искусать кого-то, я делала это».
В январе 1981 года трибунал приговорил Цзян Цин к смертной казни с двухлетней отсрочкой приговора и пожизненным поражением в политических правах.
Спустя два года казнь была заменена пожизненным заключением. В тюрьме Цзян Цин имела право раз в две недели видеться со своей дочерью Ли На.
Однажды она на какое-то время ослепла. Потом у нее обнаружили рак горла. От облучения во время лечения выпали волосы. В мае 1984 года Цзян Цин по состоянию здоровья перевели из тюрьмы под домашний арест в Пекин.
Рано утром 14 мая 1991 года жену Мао обнаружили повесившейся в одной из комнат ее пекинской резиденции. Утверждают, что она повесилась на спинке кровати, сделав петлю из пояска халата.
...Когда Мао ухаживал за молодой актрисой на «красной» революционной базе в Яньани, он посвятил ей несколько трогательных стихов. В этих одах говорилось о желании быть похороненным вместе с любимой.
Китайские партийные деятели нарушили волю вождя,
посчитав, что не стоит осквернять мавзолей памяти Мао прахом какой-то заурядной
в прошлом актрисы, пусть даже и ставшей впоследствии его «законной и любимой
женой и верным сторонником в революционной борьбе». Тело Цзян Цин кремировали и
пепел втайне от общественности передали ее дочери от брака с Мао — Ли На.
 Никто
не может сказать с уверенностью, как познакомились Вивьен Ли и Лоренс Оливье. По
одной из версий, Вивьен обедала в знаменитом «Савое» вместе с Джоном Бакмастером,
сыном Гледис Купер. Он указал ей на сидевших за соседним столиком Оливье и его
жену, актрису Джилл Эсмонд: «До чего же забавно выглядит Ларри без усов».
Непонятно почему, но эта реплика рассердила актрису. «Я возмутилась и произнесла
весьма напыщенно, что ничуть не нахожу его смешным. Когда мы уходили, Ларри
подошел к нам и пригласил меня провести с ними вместе уик-энд. Я ответила, что
он, конечно, имеет в виду и моего мужа, и мы приняли приглашение; я помню, что
мы играли в футбол, а потом Ларри, поднимавший оглушительный шум, вдруг уснул
как убитый, свалившись под пианино».
Никто
не может сказать с уверенностью, как познакомились Вивьен Ли и Лоренс Оливье. По
одной из версий, Вивьен обедала в знаменитом «Савое» вместе с Джоном Бакмастером,
сыном Гледис Купер. Он указал ей на сидевших за соседним столиком Оливье и его
жену, актрису Джилл Эсмонд: «До чего же забавно выглядит Ларри без усов».
Непонятно почему, но эта реплика рассердила актрису. «Я возмутилась и произнесла
весьма напыщенно, что ничуть не нахожу его смешным. Когда мы уходили, Ларри
подошел к нам и пригласил меня провести с ними вместе уик-энд. Я ответила, что
он, конечно, имеет в виду и моего мужа, и мы приняли приглашение; я помню, что
мы играли в футбол, а потом Ларри, поднимавший оглушительный шум, вдруг уснул
как убитый, свалившись под пианино».
Но еще до этой встречи Вивьен незадолго до Рождества 1934 года побывала на спектакле Королевского театра, где Оливье блистал в роли эксцентричного Тони Кэвендиша. Повернувшись к приятельнице, она заявила: «Вот за этого человека я выйду замуж». Та возразила: «Не сходи с ума. Вы оба женаты». Ответ Вивьен («Не важно. Все равно я выйду за него в свое время. Ты увидишь») со всей ясностью свидетельствует, что все эти годы она жила страстным предощущением нового, другого будущего и встречи с человеком, который повернет ее судьбу. Вивьен родилась в Индии, в Париже закончила комедийную школу, свое обучение завершила в Королевской драматической академии в Лондоне. Ее муж, юрист Герберт Ли Холман, владел фирмой в Темпле и был далек от театра. В 1932 году в семье родилась дочь Сюзанна.
По прошествии нескольких недель Оливье отпраздновал рождение сына Саймона Тарквина. По воле судьбы прибавление в семействе совпало с первым случаем, когда он с Вивьен играли вместе. Три с небольшим месяца съемок «Огня над Англией» Изменили жизнь обоих актеров.
При встрече она ограничилась вежливой фразой — как приятно, что они работают вместе. Ответ Оливье широко известен: «Скорее всего, мы кончим тем, что подеремся. Все так надоедают друг другу во время съемок».
Лоренс и Вивьен сразу ощутили редкостную духовную близость. Дороти Мазер, куратор актеров, вспоминает: «В Денхеме было принято, чтобы все сидели вместе за длинными обеденными столами, а не парами — во избежание сплетен. Вивьен и Ларри сидели вдвоем, совершенно поглощенные друг другом, и никто не мог даже подумать устроиться рядом с ними. Их окружало огромное пустое пространство. Они были так влюблены, что вокруг возникала особая атмосфера...»
Фильм «Пламя над Англией» имел огромный успех. Критик Лайонел Колльер восторженно писал: «...Вивьен Ли и Лоренс Оливье исключительно хороши в ролях молодых возлюбленных. Любовные сцены в их исполнении особенно привлекают своей искренностью и естественностью».
Добившись признания в качестве актера кино, Оливье перешел в театр Олд Вик, где начал с Гамлета, поставленного в его полном, более чем четырехчасовом объеме.
В конце сезона театр отправился в Данию на гамлетовский фестиваль в Эльсинор. На роль Офелии неожиданно была приглашена 23-летняя Вивьен Ли. Ее появление в труппе театра Олд Вик до сих пор покрыто тайной. Лоренс отрицал свою причастность к этому событию. Так или иначе, и Оливье, и мисс Ли были очень довольны.
Поездка в Эльсинор совпала с тридцатилетием Оливье. Кроме того, именно в Дании — через год после первой встречи — Лоренс и Вивьен решили жить вместе. Решение это давалось мучительно: оба относились к своим супругам с уважением.
Вернувшись из Дании, Вивьен и Лоренс объяснились со своими супругами. Через несколько дней Оливье приобрел новый дом («Дарэм-коттедж») и переехал туда вместе с мисс Ли. К счастью, газеты не подхватили сенсацию, чему способствовала сдержанность Ли Холмана. Он надеялся на благоприятный для него поворот и расценивал решение жены как непродуманный поступок увлекающейся молодой женщины. Джилл Эсмонд также отказалась дать супругу развод.
...Однажды, во время перерыва в съемках фильма «Первый и последний», зашел разговор о задуманной экранизации «Унесенных ветром». На роль Ретта Батлера прочили Оливье, а он отшучивался. Вивьен Ли неожиданно заявила: «Ларри не будет играть Ретта Батлера, зато я сыграю Скарлетт О'Хара. Вот увидите». На роль героини в «Унесенных ветром» пробовались 1400 актрис. Друзья уверяли ее, что англичанке никогда не доверят Скарлетт — южане этого не потерпят. Однако скептики умолкли, когда Вивьен подписала контракт.
В конце сентября 1939 года в одном из кинотеатров Санта-Барбары состоялся премьерный показ фильма «Унесенные ветром». Лоренс Оливье был искренне поражен игрой Вивьен Ли: «Я не ожидал, что она способна на это». Роль Скарлетт принесла актрисе мировую славу.
29 января 1940 года Джилл Эсмонд получила развод (смирившись с судьбой, она сама обратилась в суд), а 19 февраля была рассмотрена аналогичная просьба Ли Холмана. Суд передал детей на попечение обоих истцов, однако решение о разводе Ли Холмана вступало в силу только через полгода.
Вивьен и Лоренс выехали в Сан-Франциско для участия в премьере спектакля «Ромео и Джульетта». Оливье вложил в эту постановку все сбережения. Катастрофический провал спектакля остается одним из самых загадочных и необъяснимых в истории театра.
Летом 1940 года сын Оливье заболел менингитом. Ему стало лучше, но врачи советовали вывезти мальчика из Англии на случай голода и бомбардировок. Как ни старались Лоренс и Вивьен, но денег они не достали. Предложение продюсера Александра Корды сняться вместе в фильме об адмирале Нельсоне и Эмме Гамильтон оказалось как нельзя кстати. Гонорар позволил вывезти в Америку не только Тарквина, но и дочь Вивьен Сюзанну.
28 августа 1940 года суд утвердил развод Ли Холмана. Еще через три дня в небольшом провинциальном городке местный судья объявил Лоренса Оливье и Вивьен Ли мужем и женой.
Но уже через три дня Лоренс и Вивьен вернулись в Лос-Анджелес. Недели работы над «Леди Гамильтон» были самыми счастливыми в их кинематографической судьбе. Актеры обложились книгами о Нельсоне и Эмме. Оливье особенно был увлечен своим будущим героем. Фильм «Леди Гамильтон» идеально соответствовал духу времени.
Вивьен Ли хотелось добиться успеха не только в кино, но и в театре. Она выехала в Беркли, куда на время войны переехал театр «Олд Вик».
Вскоре Оливье получил приказ пройти курс переквалификации на английских самолетах в местечке Лиа-Соленте. Вивьен Ли оставила сцену и последовала за мужем. По утрам она провожала Оливье на аэродром, умоляя его быть осторожным. Лоренс мечтал стать асом пилотажа. Ничего не вышло. После обязательного экзамена его перевели в Уорзи Даун, рядом с Винчестером.
Летом 1944 года начались съемки «Цезаря и Клеопатры» по Б. Шоу. Вивьен Ли играла Клеопатру. Через шесть недель после начала работы актрису, которая готовилась стать матерью, срочно доставили в клинику, но врачам спасти ребенка не удалось. Это несчастье оставило настолько глубокий след, что Вивьен отказывалась смотреть фильм в течение шести лет.
В феврале 1945 года она серьезно заболела: холода не прошли бесследно для ее легких. Врачи обнаружили признаки туберкулеза. Вивьен предлагали лечь в больницу, но она отказалась и каждый вечер продолжала выходить на сцену. После очередного приступа ее все же госпитализировали. Через несколько недель Вивьен становится лучше, но начинаются приступы депрессии.
Оливье приобрел загородный «дворец» — Нотли-Эбби, построенный в XII веке для монахов-августинцев в Бэкингемшире. Именно сюда в конце сентября он перевез жену. Весной 1946 года Вивьен стало лучше, но она снова переживала — из-за Лоренса, который был на грани нервного кризиса.
Оливье мечтал о «родовом поместье», и Вивьен превратила Нотли в уютный дом, где можно было отдыхать и работать. Пока Лоренс с братом занимался фермой, она привела в порядок сад, обставила комнаты, нашла место для любимых картин, коллекции фарфора, ваз с цветами.
Позволив себе продолжительный летний отдых — с теннисом, садоводством и работами на своей маленькой ферме, — в сентябре 1946 года чета Оливье возвратилась на лондонскую сцену. Лоренс поставил «Короля Лира» и играл в нем главную роль. Вивьен появилась в роли Сабины в пьесе Уайлдера «На волоске от гибели». Публика восторженно приветствовала артистов.
Но врачи снова забеспокоились о легких Вивьен. Брат Ли Холмана предложил воспользоваться его виллой в Канне, и после завершения «Гамлета», захватив Тарквина и Сюзанну, супруги Оливье направились на юг.
В июле 1947 года Оливье был удостоен дворянского звания, приняв посвящение от Георга VI. Теперь друзья стали называть его сэр Ларри.
А впереди были гастроли с труппой театра «Олд Вик» в Австралии. Для Вивьен Ли эта поездка на Зеленый континент связана с самыми теплыми воспоминаниями. Наконец никаких депрессий, несмотря на каторжный труд и далеко не подходящий климат. Гастроли прошли с большим успехом. 1 ноября 1948 года они прибыли на родину.
В начале 1950-х годов супруги Оливье имели славу самых ярких звезд. Однако их финансовое положение оставляло желать лучшего. Предпочитая театр, они вернулись в кино, приносившее быстрое и солидное вознаграждение.
В конце июля 1951 года, оставив «Трамвай «Желание» на лондонской сцене, мисс Ли отправилась в Голливуд для участия в экранизации пьесы. Через десять дней к ней присоединился и сэр Лоренс, собиравшийся сниматься в фильме по роману Драйзера «Сестра Керри».
Трехмесячное пребывание в Голливуде Вивьен дало очень многое. За работу в «Трамвае» она получила свой второй «Оскар». Однако в апреле 1952 года актрису настиг нервный приступ (сказались девять месяцев ежедневных выступлений в сложнейших ролях). Оливье задумался всерьез: а если болезнь будет прогрессировать?
Лето актриса провела в Нотли. Лоренс готовился к съемкам «Трехгрошовой оперы», где хотел сыграть Мэкхита. Известие, что для нее в фильме роли нет, углубило депрессию Вивьен. Осенью супругам предложили сняться в американском фильме «Слоновьи тропы». Оливье был занят, но рекомендовал Вивьен подписать контракт.
Продюсер фильма спросил Лоренса, выдержит ли Вив натурные съемки в разгар тропического сезона. «Я думаю, это принесет ей только пользу. Новая обстановка и интересная роль. Она совершенно забыла о туберкулезе», — ответил сэр Ларри.
Во время натурных съемок на Цейлоне Вивьен изнуряла себя работой и мучительно переживала одиночество. Пугал ее и предстоящий перелет в Голливуд (трое суток в воздухе). Кризис произошел в марте 1953 года. Вивьен с трудом запоминала текст, несколько раз теряла сознание, во время съемок с ней происходили необъяснимые истерики...
Тем не менее в Лос-Анджелесе съемки были продолжены. Состояние Вивьен заметно ухудшилось: она перестала узнавать друзей и начала называть своего партнера Питера Финна «Ларри». В результате ее решили отправить домой, а роль передать Элизабет Тейлор.
Прямо из лондонского аэропорта Вивьен отвезли в частную лечебницу, где врачи предписали ей три месяца полного покоя.
В конце апреля 1953 года Оливье привез жену домой в Нотли. Он с опасением ожидал, не возобновятся ли приступы Вивьен, но она казалась совершенно здоровой и веселой. По уик-эндам супруги принимали гостей — цвет искусства Англии.
В сентябре в Манчестере состоялась премьера «Спящего принца» Рэттигана. Гримерная мисс Ли тонула в белых цветах. То же повторилось и в Лондоне, нос еще большим размахом. Премьера в «Фениксе » совпала с сорокалетием Вивьен. Букеты и поздравления наводнили театр.
В апреле 1955 года под шум рекламы чета Оливье появилась в Мемориальном Шекспировском театре в Стратфорде-на-Эйвоне. Они играли в «Двенадцатой ночи», «Тите Андронике» и «Макбете». Их колоссальная известность еще до открытия сезона гарантировала полные сборы.
В возрасте 42 лет Вивьен Ли обнаружила, что беременна. Оливье хотел дочку, и они уже выбрали имя: Кэтрин. Вивьен заверили, что, несмотря на выкидыш, случившийся во время съемок «Цезаря и Клеопатры», она сможет родить здорового ребенка. Однако у нее снова случился выкидыш. Друзья говорили впоследствии, что Вивьен хотела ребенка исключительно для Ларри, обожавшего детей.
Нервные приступы настигали Вивьен Ли чаще и чаще, а продолжительность их все возрастала. Начало приступа всегда совпадало с ухудшением ее отношений с Оливье.
В начале 1958 года Оливье снимался в фильме «Комедиант». Вместе с ним играла мисс Джоан Плоурайт. Много лет спустя, вспоминая ужасное чувство утраты, которое он пережил после смерти матери, Оливье сказал, что «с тех пор искал ее постоянно. Может быть, в Джоан я обрел ее вновь». Многое она воспринимала так же, как сэр Ларри. Они расцветали в обществе друг друга.
Оливье решил получить развод и начать «законную» жизнь. Однако он по-прежнему боялся неблагоприятной реакции публики и лето провел в Нотли.
Дом Оливье не знал отдыха от гостей. В отличие от сэра Лоренса необходимость «сохранить лицо» стоила Вивьен Ли очень дорого и вызвала вспышку болезни. Не помогла даже поездка с матерью в Италию. К счастью, в октябре начинались спектакли «Поединка ангелов», что помогло перенести присланное Оливье из Парижа письмо на четырнадцати страницах, в котором он объяснял, почему им необходимо расстаться.
20 июня 1960 года Вивьен Ли вернулась в США. На другой день она обратилась к ошеломленным журналистам с заявлением: «Леди Оливье имеет сообщить, что сэр Лоренс просил о разводе, чтобы жениться на мисс Джоан Плоурайт. Она, естественно, сделает все, чего он ни пожелает».
Через три дня после развода Вивьен Ли принимала на Итон-сквер своих друзей. Рядом с ней был Джон Мерривейл — американский актер, исполнявший одну из ролей в «Поединке ангелов». Он помог пережить Вивьен отчаянные дни перед развязкой.
Мерривейл знал все о ее болезни и сообщил сэру Лоренсу, что берет на себя ответственность за судьбу актрисы. Облегченно вздохнув, Оливье описал признаки ее депрессивного состояния.
В Лондоне ждали, что бывшая леди Оливье скоро выйдет замуж, но она говорила: «Это частное дело». Вивьен все еще надеялась на примирение с Оливье и считала себя женой Ларри до конца. Для нее было страшным ударом сообщение о регистрации брака Оливье и Плоурайт. В сентябре 1961 года у них появился первенец — сын Ричард Керр, потом родились четыре девочки.
Вивьен Ли продолжает работать — получает премию «Тони», приз Венецианского фестиваля, награду Британской киноакадемии. Но приступы депрессии продолжают мучить ее. 7 июля 1967 года ее друг, актер Джон Мерривейл, обнаружил ее лежащей на полу в спальне лицом вниз...
Отдыхавший в Брайтоне Оливье немедленно отправился в Лондон. Сэр Лоренс знал, что Вивьен, лечившаяся от туберкулеза, уже несколько недель была нездорова и не вставала с постели, но это не избавило его от сильнейшего потрясения. Она скончалась в возрасте пятидесяти трех лет. В этот вечер все театры Вест-Энда, отдавая дань ее памяти, на час притушили огни.
Величайший трагический актер XX века Лоренс
Оливье умер в 1989 году в Брайтоне, окруженный своими домашними.
 ...1939
год. В Театре имени Ленинского комсомола Серафима Бирман поставила пьесу
Горького «Зыковы ». Актриса Валентина Серова играла роль Павлы. Ей очень мешало,
что на каждом спектакле в первом ряду сидел какой-то молодой человек с цветами,
который испытующим взором следил за ней. В антракте она подглядывала за ним в
дырочку занавеса.
...1939
год. В Театре имени Ленинского комсомола Серафима Бирман поставила пьесу
Горького «Зыковы ». Актриса Валентина Серова играла роль Павлы. Ей очень мешало,
что на каждом спектакле в первом ряду сидел какой-то молодой человек с цветами,
который испытующим взором следил за ней. В антракте она подглядывала за ним в
дырочку занавеса.
Выяснилось, что горячим поклонником таланта Серовой был 24-летний поэт Константин (Кирилл) Симонов, начинавший тогда входить в моду. Он терпеливо ждал, когда актриса обратит на него внимание. Так начинался любовный роман, который будет переживать вся страна.
Валентина Половикова родилась в семье знаменитой московской актрисы Клавдии Михайловны Половиковой. Театром она была увлечена с детства. В двадцать лет Валя встретилась с молодым прославленным летчиком Анатолием Серовым. Любовь была с первого взгляда. Серов провожал ее на Ленинградском вокзале в Москве, когда она уезжала с театром на гастроли, и утром встречал ее в Ленинграде на Московском вокзале. Они поженились, но счастье их было недолгим. Серов погиб в 1939 году на испытаниях, через месяц после этой трагедии Валентина родила сына Анатолия.
К моменту знакомства с Серовой Константин Симонов был женат дважды: коротким и официально не зарегистрированным браком — на Аде Типот, дочери знаменитого режиссера-эстрадника Виктора Типота, и потом — на Евгении Самойловне Ласкиной, которая в 1939-м подарила ему сына Алексея. Но Симонов признался супруге в том, что полюбил другую, и ушел из семьи, сняв комнату на Арбате.
Зимой 1941 года на страницах «Правды» было напечатано знаменитое «Жди меня» Симонова, начинающееся строчками: «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди...» Посвящение состояло из двух букв — «В. С.».
В тяжелом 1942 году Государственное издательство художественной литературы издало лирический дневник поэта «С тобой и без тебя». Он вышел с посвящением — «Валентине Васильевне Серовой». Стихи пользовались оглушительным успехом, их переписывали от руки, посылали на фронт. Всех интересующихся его отношениями с актрисой Константин Михайлович отсылал к этим стихам: «Там все сказано».
Валентина Серова сыграла Лизу Ермолову в фильме «Жди меня», снятом по сценарию Симонова. Как был нужен и понятен этот фильм в 1943 году! «Ее лирическая струя придавала образу щемящую трогательность, — отмечает киновед Виталий Вульф. — Она всегда, играя любовь на сцене, была бесконечно трогательна. Пока ее героини были любимы — они ничего не боялись, наоборот, всегда были готовы прийти на помощь, но когда они теряли любовь — медленно шли на дно жизни».
В 1943 году Серова и Симонов зарегистрировали брак. Серафима Бирман была рада этому союзу. Она верила молодой актрисе, которой было двадцать пять лет.
Константину Михайловичу пришлось немало пережить, особенно в годы войны. Серова тогда ездила с концертными бригадами по госпиталям, пела романсы, читала стихи.
В небольшом архиве Валентины Васильевны сохранились письма и записки тех, кто увлекался ею. Ее любили, о ней мечтали...
После войны Симонов и Серова живут счастливо. Казалось, наступил долгожданный покой. Он уже известный писатель, Валентина снова блистает на сцене Театра Ленинского комсомола, успешно снимается в кино.
Супруги ездили в Париж, где встречались с Буниным, Тэффи, о чем сохранились записи в бумагах русских эмигрантов. Серова могла петь весь вечер старые русские песни и романсы. Послушав ее, Иван Бунин произнес: «Как я хочу в Россию...»
Симонов продолжал писать нежные письма жене. 8 марта 1946 года, Токио. «...Что сказать тебе? Во-первых, работаю как вол, глушу тоску, как могу. Написано уже больше тысячи страниц, делаю все, чтобы к 25-му кончить все и быть готовым лететь или плыть первой оказией. Во-вторых и главных, — нет жизни без тебя. Не живу, а пережидаю и работаю и считаю дни, которых, по моим расчетам, осталось до встречи 35 - 40. А в-третьих, верю, как никогда, в счастье с тобой вдвоем».
28 января 1947 года. «...Я очень скучаю по тебе. Сегодня сижу у себя и листаю "Историю одной любви". Вдруг понял, что это была хорошая пьеса, а главное, нагрянули воспоминания — трепетные, бестолковые, дерзкие, веселые, печальные, всякие — репетиции, прогулки, ночные блуждания, дребезжащие разбитые такси, бог знает что, и среди всего этого упрямое и сильное, не от самодовольства, а от любви, предчувствие общей жизни, годов ласк, ночей, ссор, примирений, разлук, гнева и обожания...»
Валентина Серова была разной, непредсказуемой. Она слегка выпивала еще во время войны — с мужем, красиво, «за здоровье тех, кто на фронте». Теперь же пила все больше и больше, ей уже хватало одной рюмки, чтобы захмелеть. Пила так, что болезнь стала необратимой. Симонов же постоянно находится в командировках. Он добился положения в обществе, но с любимой женщиной справиться не смог.
Из письма Симонова к Серовой:
«...Валя, я боюсь за тебя, я очень боюсь за тебя, невозможно представить, что ты погибла, загубив и себя, и свой талант. Я очень люблю тебя, и перед нами только еще чуть-чуть забрезжила наша настоящая жизнь такой, какой она может быть. Как ты смеешь не беречь ни себя, ни своего таланта, ни нашей любви, ни своего будущего...»
Но когда Симонов возвращается домой, гости не переводятся. В этих застольях Валентина находится в центре внимания. Симонов строит дачу в Переделкине, несколько позже — вторую, под Сухуми, на Черном море. Семья живет в полном достатке. С бывшей женой Константина, Евгенией, Валентина ладит, его сынишка часто гостит у них в Переделкине, и, кажется, ничто не предвещает краха...
11 мая 1950 года у Валентины родилась дочь Маша. Серова сыграет немало ролей в Театре имени Моссовета, снимется в фильме «Бессмертный гарнизон» по сценарию Симонова. Он будет радоваться ее успехам, ее призванию к сцене.
Но наступит день, когда Константин Михайлович напишет ей: «...Люди прожили вместе четырнадцать лет. Половину этого времени мы жили часто трудно, но приемлемо для человеческой жизни. Потом ты стала пить... Я постарел за эти годы на много лет и устал, кажется, на всю жизнь вперед. Я продолжал писать, но один я знаю, чего мне стоило то, что я все-таки делал в этом аду и что я мог бы сделать, не будь этого ада...»
Он еще объяснял ей в письмах, что разлюбил, сообщал, что если встретит человека, которого полюбит, то, не колеблясь, свяжет с ним свою жизнь, советовал выйти замуж, желал ей счастья и того, «чтобы ты не разрушила еще одну жизнь так, как уже разрушила один раз».
Симонов и Серова развелись в 1957 году. Мать актрисы Клавдия Михайловна взяла внучку к себе.
В новой семье Симонова царили мир и покой. Лариса Алексеевна Жадова — преемница Валентины и полная ее противоположность — подчинила свою жизнь интересам мужа и создавала ему «условия для плодотворного труда». И потом, после смерти Симонова, она, как истинная жена писателя, делала все для увековечивания его памяти: в сборнике «Константин Симонов в воспоминаниях современников» Жадова — один из составителей. Имени Серовой в этом сборнике не найти...
В середине 1950-х Серова работала в Театре имени Моссовета. Здесь ее любили, она была добрым и отзывчивым человеком, особенно нежна с ней была Фаина Раневская. Она часто жила у Валентины на даче летом и после развода с Симоновым долго поддерживала с ней дружескую связь.
Серова не сумела приноровиться к иной для себя ситуации. В кино она снималась от случая к случаю. В последние годы Валентина Васильевна узнала и безработицу, и крайнюю материальную стесненность, и унижения.
В 1974 году Серова похоронила сына. Он был добрым, но пьющим, и избавиться от этой беды не сумел.
Осталась дочь Мария Кирилловна Симонова. Она вспоминала: «Друзья и знакомые стали обходить за версту, потянулись бесконечные вечера, когда она поднимала трубку телефона, набирала номер диспетчерской театра и слышала одно: "Для вас ничего нет..." Еще пыталась работать, учила — как назло кому-то! — те роли, которые уже никогда не смогла бы сыграть, еще ездила с шефскими концертами. Но сил подняться у нее уже не было...»
Серова уничтожила почти весь свой архив, многое сожгла. Она умерла в декабре 1975 года — одна, в пустой квартире. Врач констатировал смерть от острой сердечной недостаточности. В газете «Вечерняя Москва» появилось коротенькое извещение о смерти заслуженной артистки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Валентины Васильевны Серовой. На эту смерть не откликнулся никто.
Хоронили Серову актеры из Театра-студии киноактера, там она служила последнее время.
Симонов, напрочь вычеркнув Валентину из биографии, забыть ее не сумел. За всеми женскими образами симоновской поздней прозы угадывается Валентина. Как напророчил когда-то: «Я сам пожизненно к тебе себя приговорил...»
За месяц до своей смерти Константин Михайлович попросил дочь привезти ему в больницу письма, которые он когда-то писал Валентине Серовой. Писем было много — четыре больших мешка. Прежде чем выполнить волю отца, Мария Кирилловна в тайне от отца сняла копии с его писем к матери и сохранила их.
Когда Маша приехала снова, она не узнала отца. Всегда собранный, подтянутый, он теперь как-то сразу постарел, осунулся. Долго ходил, потом остановился и посмотрел на дочь — в глазах было столько боли и страдания, что она до сих пор не может забыть этот взгляд.
«Знаешь, прошло столько лет... А я вот перечитал все эти письма, и ощущение такое, что это было только что... Я говорил тебе, что уничтожу письма. Я уничтожу их. Не хочу, чтобы после моей смерти чужие руки копались в этом».
Помолчал и добавил: «Прости меня, девочка, но то,
что было у меня с твоей матерью, было самым большим счастьем в моей жизни... и
самым большим горем».
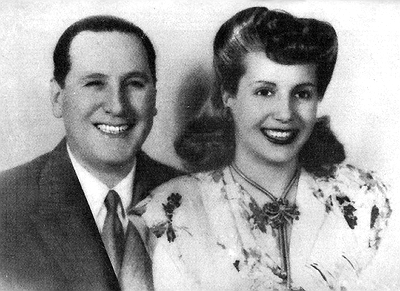 Чету Перон называли идеальной политической парой.
Хуана латиноамериканцы считали идеалом мужчины, Эву — женщиной, «сделавшей
себя».
Чету Перон называли идеальной политической парой.
Хуана латиноамериканцы считали идеалом мужчины, Эву — женщиной, «сделавшей
себя».
Она была пятым ребенком землевладельца Хуана Дуарте и посудомойки Хуаны Ибаргурен. Родители находились во внебрачной связи. В 16 лет Эва, мечтавшая о карьере актрисы, уехала в Буэнос-Айрес. Здесь она находит покровителя — издателя Э. Картуловича, благодаря которому дебютирует в кино. Вскоре издателя сменил мыльный фабрикант. Так Эва стала ведущей актрисой в радиотеатре национальной радиокомпании.
Когда в 1943 году в Аргентине произошел военный переворот, Эве удалось соблазнить полковника Имберта, занимавшего пост министра связи.
В январе следующего года ужасное землетрясение уничтожило старейший колониальный город Сан-Хуан. Эва приняла участие в кампании по сбору пожертвований и убедила своего покровителя Имберта организовать грандиозный благотворительный вечер в луна-парке.
Во время этого шоу Эва Дуарте заметила, что в центре внимания находится другой полковник — Хуан Перон, статный и моложавый. Он сидел в первом ряду зрителей. Улучив момент, Эва заняла место рядом с ним, чтобы потом уже никогда и никому не уступать его. Благотворительный вечер закончился их первым свиданием в одном из отелей прибрежного района Эль-Тигре...
Хуан Перон родился в небольшом аргентинском городке-крепости Лобос. Он был типичным аргентинцем по родословной: испанско-креольской и сардинской от прадедов матери и баскско-французской по землевладельцу-отцу.
В 1928 году он женился на молодой музыкантше Аурелии Тисон, которая через десять лет умерла от рака.
Окончив Высшую военную школу, Хуан преподавал в ней военную историю и стратегию. Благодаря связям в военных верхах Перон сделал дипломатическую карьеру. В начале 1944 года он занял посты военного министра и секретаря труда и обеспечения, а затем вице-президента. В правительственных и военных кругах его за глаза называли «оперным призраком», появлявшимся неожиданно где угодно.
Один из современников Перона писал: «Он был красивым мужчиной атлетического сложения, ростом около 180 сантиметров, с шевелюрой черных волос, зачесанных назад, открывавших широкий лоб, с темно-карими, почти черными, сверкающими глазами и лицом, «пышащим полнокровием от мелких вен, проступающих на его выдающихся скулах».
Эва Дуарте всерьез увлеклась Хуаном, хотя полковнику было уже 49 лет, а ей всего 24. Их любовная связь была мезальянсом в глазах многих военных коллег Перона. Чтобы завоевать Хуана и затем стать его гражданской женой (хотя в Аргентине не принято жениться на любовницах), Дуарте пришлось превратиться в публичного политика.
Эва организовала в своей квартире нечто вроде салона для сторонников Перона. Она появлялась рядом с Хуаном на публике, сопровождала его на профсоюзных собраниях и во время походов по рабочим кварталам.
Однако военный переворот 9 октября 1945 года привел к отставке Перона со всех постов и заключению его в тюрьму на одном из островов.
Эва Дуарте, тут же потерявшая место на «Радио Бельграно», обратилась за помощью к профсоюзным лидерам и безрубашечникам — выходцам из бедных провинций. «Эвита была той женщиной из народа, которая встала рядом с Пероном, не имея ни политического опыта, ни предрассудков, — писал один из ее соратников, — поэтому она явилась новатором при проведении массовых кампаний».
Грандиозное выступление безрубашечников привело к освобождению Хуана из тюрьмы. Отныне день 17 октября будет торжественно отмечаться как главный перонистский праздник «Освобождения лидера».
На следующий день Хуан Перон и Эва Дуарте заключили гражданский брак, подтвержденный церковной церемонией 10 декабря.
Будучи законной супругой кандидата в президенты, Эва сопровождала Перона на всех предвыборных митингах, фактически возглавляя его предвыборный штаб.
В феврале 1946 года Хуан Перон стал народным президентом. Эва превратилась в Эвиту — так ее теперь называли перонисты. Она стала Первой дамой в республике.
Хуан и Эва составили идеальную политическую пару, действовавшую согласно формуле: «Перон управляет, Эва представляет». Он был образцом мужчины и идеалом нации, она — прекрасной латинской женщиной, хранительницей национальных и семейных ценностей. Высокий красивый брюнет с мужественными чертами лица и хрупкая красавица блондинка. Президент всегда вставал при ее появлении, а при уходе провожал до дверей и целовал руку. На публике они расточали друг другу комплименты. Хуан называл ее мостом любви между ним и народом. У Эвиты не было детей — она была матерью нации.
Их первым семейным домом стал президентский дворец Каса Росада. Залы Розового дома, декорированные позолоченной мебелью и картинами XIX века, были более пригодны для дипломатических приемов, чем для личной жизни.
Эвита по старой привычке, приобретенной за артистическую карьеру, не разделяла дни и ночи в своей работе. Перон же был сторонником строгого распорядка дня, регулярного отдыха и сна. Бывали случаи, что, когда он вставал, его жена только ложилась спать.
Перон был безусловно уверен в ее преданности, фанатичной вере в него лично и в перонизм. Супруги контролировали четыре крупнейшие газеты и все радиокомпании. С недовольными безжалостно расправлялись. Эвита занималась делами профсоюзов, применяя политику кнута и пряника. Ее фонд назывался благотворительным, но горе было тому, кто не перечислит в него деньги.
Майская площадь перед президентским дворцом и самый широкий в столице проспект Авенида Ривадавия собирали ежегодно 9 июля миллионную толпу, которая исполняла перонистский гимн и взывала: «Перон, Перон!», «Эвита, Эвита!» И тут на балконе или трибуне появлялась «блистательная пара». Первым брал слово Хуан, подняв обе руки вверх и как бы укрощая людское море. Потом выступала Эвита.
В 1947 году состоялась первая международная поездка Эвиты. Аргентина находилась в экономической блокаде, и, чтобы преодолеть недоверие европейских стран, Перон послал жену-красавицу в Европу. Вслед за ее самолетом двинулся по морю аргентинский сухогруз с мясом и пшеницей для европейцев. Эвите предстояло завоевать и европейскую элиту, и публику из народа.
Во время двухмесячного турне она посетила Испанию, Францию, Италию, Швейцарию... Ее встречали на высшем уровне. Франко вручил Эвите высшую награду Испании. Ее принял папа римский... Но не было дня, чтобы она, устно или письменно, не общалась с Хуаном.
Очередная президентская кампания 1951 года открылась общей перонистской ассамблеей, собравшейся под девизом «Эвита с Пероном» и выдвинувшей формулу: «Хуана Перона — в президенты, Эву Перон — в вице-президенты!»
Главной и печальной причиной для отказа от выдвижения своей кандидатуры для Эвы явился страшный медицинский диагноз: она больна раком. Несмотря на самую квалифицированную помощь зарубежных медицинских светил и специальный курс лечения в одной из швейцарских клиник, Эвита слабела с каждым днем.
День 17 октября 1951 года был посвящен публичному чествованию Эвиты. Прежде чем предоставить ей слово, Перон попросил многотысячную толпу хранить тишину, чтобы были слышны ее слова. Он поддерживал жену за талию. Но даже в такой момент Эвита призвала народ к бдительности, к готовности умереть за Перона. Сцена, когда президент прикреплял высший перонистский орден на ее груди, а Эвита рыдала на его плече, как и весь этот траурный прижизненный митинг, запечатлены в документальной хронике. Любовь с большой буквы стала вскоре частью перонистской мифологии, и некоторые ее выражения пережили самих героев. Например, одна из фраз в предсмертной речи Эвиты: «Не плачь, Аргентина! Я оставляю тебе самое дорогое, что у меня есть, — Перона».
Она умирала в мучениях в самой скромной из президентских резиденций на улице Либертадор. Ее окружали родные, духовник и Перон, который отлучался только по самым неотложным государственным делам. Эвита отдала указания, как забальзамировать ее тело, и точные инструкции о своем посмертном туалете, прическе и макияже.
Эва Дуарте скончалась 26 июля 1952 года. Враги торжествовали, народ скорбел. В течение суток ее тело забальзамировал испанский патологоанатом Ара.
Подобных похорон Латинская Америка еще не знала. Вся Аргентина прощалась с Эвитой. В память о ней прошло грандиозное факельное шествие.
Ее останки хранились как священная реликвия в часовне центрального здания Всеобщей конфедерации труда. В 1956 году они были похищены военными, перевезены через океан и тайно захоронены в Милане под именем другой женщины.
Перон, оповестивший народ, что «Эвита ушла в вечность», не мог убедить всех, что она действительно умерла.
Умирая от рака, Эвита умоляла мужа никогда не верить военным. И заклинала полагаться только на народ. Но через несколько месяцев после ее смерти страну потряс очередной военный переворот. Хуан Перон бежал из страны.
Опальный политик, лишенный гражданства, званий, состояния и всех прав, долгое время был вынужден жить на чужбине. Отмечая свое 60-летие в узком кругу друзей, Перон с усмешкой заметил: единственное, что он заслужил, — это право на частную жизнь. Он женился на бывшей танцовщице Исабель Мартинес.
В начале 1970-х Перону позволили переехать в Аргентину. Военные власти вернули ему звания и гражданские права, прерогативы бывшего президента, включая пенсию и охрану, генеральский чин, а также... останки Эвиты.
Перон активно включился в политическую жизнь страны. Президентские выборы 23 сентября 1973 года принесли ему победу в паре с Исабель Мартинес. Они получили более шестидесяти процентов голосов — беспрецедентное большинство в условиях Аргентины.
Но торжество оказалось недолгим. Перон скончался
от инфаркта 1 июля 1974 года.
 Сегодня,
когда группы туристов посещают Сен-Поль-де-Ванс (Франция, Прованс), гид
обязательно ведет их в ресторан «Золотая голубка » и объясняет, что именно здесь
познакомились знаменитые артисты Ив Монтан и Симона Синьоре.
Сегодня,
когда группы туристов посещают Сен-Поль-де-Ванс (Франция, Прованс), гид
обязательно ведет их в ресторан «Золотая голубка » и объясняет, что именно здесь
познакомились знаменитые артисты Ив Монтан и Симона Синьоре.
Встреча эта была во многом случайной: 10 августа 1949 года Монтан заехал в «Золотую голубку» между выступлениями в Ницце и Каннах, а у Симоны здесь был свой домик, в котором она отдыхала вместе с четырехлетней дочерью. Синьоре была уже известной актрисой, снималась в нескольких фильмах своего мужа, режиссера Ива Аллегре. Ее девичья фамилия — Каминкер (Синьоре — псевдоним, взятый в честь знаменитого французского артиста Габриэля Синьоре). Родилась она в состоятельной семье и воспитывалась в строгости. В детстве Симона брала уроки музыки и английского языка.
Ив Монтан, непревзойденный шутник и юморист, певец и актер, был сыном итальянского крестьянина. Иво Ливи (Монтан — тоже псевдоним) с детства мечтал стать певцом. Но начинал он парикмахером, докером, чернорабочим. Большую роль в жизни Монтана играли женщины. Эдит Пиаф посоветовала ему исполнять французские песни. Во многом благодаря протекции великой певицы он попал на столичные подмостки.
На следующий день Монтан уехал на репетицию в Ниццу. Но уже днем вернулся в «Золотую голубку», хотя это не было предусмотрено программой. За десертом он взял за руку Симону и прошептал: «Какие у вас тонкие запястья!» — и с тех пор они не расставались.
Вечером у Монтана был концерт, и Синьоре пригласила его отдохнуть в своем доме. Ив с радостью согласился. Потом Симона ездила с ним на репетиции и на концерты, каждый раз возвращаясь в Сен-Поль-де-Ванс. Но вот выступления в Ницце закончились, Монтан продолжил гастроли в Даксе, а Симона призналась мужу, что полюбила другого. Ив Аллегре был потрясен, но повел себя великодушно.
Синьоре и Монтан сразу стали знаменитой парой. Однако Симона долго не решалась уйти от Аллегре: у них была общая дочь, она любила его сына от первого брака. Ив вспоминал: «Это было что-то огромное, буря страсти, радость, восторг, праздник, а потом ровно в семь она шла "домой", то есть к другому».
Перед двухнедельными гастролями по Северной Африке Монтан сказал возлюбленной, что пришло время выбора — или жить вместе, или расстаться навсегда. Через несколько дней после его возвращения с гастролей Симона вместе с дочерью Катрин переехала к Монтану на улицу Лоншан в Нейи.
Летом 1951 года Синьоре не пропускала ни одного концерта с участием Монтана. «Знать, что Симона в зале, — совершенная радость, радость, которая меня возносит», —говорил певец.
Осенью режиссер Жак Беккер предложил Синьоре сняться в фильме «Золотая каска». После долгих колебаний она согласилась и сыграла одну из лучших своих ролей в кино.
22 декабря 1951 года в Сен-Поль-де-Ванс Иво Ливи женится на Симоне Каминкер. «Это именно такая деревенская свадьба, какой я ее себе представляла, — говорила Симона. — Я счастлива, как маленькая девочка на утро после Рождества».
Свадьбу сыграли в «Золотой голубке». На торжестве присутствовали Жак Превер (свидетель со стороны невесты), владелец «Золотой голубки» Поль Ру (свидетель со стороны жениха), Марсель Паньоль с супругой, Дина Дурбин, Пабло Пикассо, преподнесший молодым расписанную керамику и поздравление, сделанное фломастерами (во Франции их тогда еще не знали). Веселились от души.
В Бельгии они отправились на просмотр «Золотой каски». Монтан прослезился от восторга, увидев прекрасную Симону на экране. Но большинство зрителей скучало. Задетая за живое, актриса заявила, что уходит из кино.
Она посвящает себя Иву и Катрин, гуляет, читает книги и принимает гостей. Симона была интересной и остроумной собеседницей, владела несколькими языками. Она первой оценивала новые песни мужа, причем не обходилось без критики. Синьоре предпочитала называть мужа Монтаном, потому что Ивом звали и Аллегре.
Друзья шутили, что в этом браке Ив был «ногами», а Симона — «головой». «К моменту знакомства у них не было ничего общего, кроме возраста, — отмечал французский журналист. — Ни славы, ни таланта, ни происхождения, ни связей в среде парижской интеллигенции, ни «культуры». Но Ив — именно тот парень, который ей был нужен...
Ив Монтан был непростым в общении, особенно с любимыми женщинами. Порой вел себя вызывающе, любил повелевать и, как многие большие актеры, упиваться своей славой. И тогда он становился непредсказуемым.
Спокойная, интеллигентная Симона с усмешкой реагировала на его поступки. Как-то она призналась своей близкой подруге: «Если бы ты знала, как я люблю его, этого парня... Жизнь без него — пустота...»
Монтан настоял на том, чтобы жена продолжила карьеру в кино. Режиссер Фрэнк Таттл пригласил Симону сняться в детективе «Загнанный». Правда, Ив не мог избавиться от чувства ревности, когда видел жену на съемочной площадке в объятиях другого актера, хотя понимал, что ревновать глупо.
Весной 1953 года Симона получает роль в фильме «Тереза Ракен» по роману Золя, а Монтан уезжает в Италию на съемки картины «Несколько шагов по жизни».
Актриса вернулась в Париж очень уставшая, фильм оказался еще более мрачным, чем роман Золя. В середине августа у нее случился выкидыш. Симона лежала в больнице, поправлялась очень медленно, шок был слишком силен.
Симона считала главным своим призванием быть женой Монтана. Она часто сопровождала мужа в его гастрольных поездках, побывала с ним во многих странах, от Бразилии до Советского Союза. Жизнь на колесах нисколько не тяготила ее.
Брак Синьоре — Монтан выдержал немало испытаний. Достаточно вспомнить роман Ива с Мэрилин Монро. После нью-йоркских концертов Монтана пригласили сниматься в фильме «Миллиардер» (в американском прокате — «Займемся любовью»), где Мэрилин должна была играть главную роль.
Когда в январе 1960 года начались съемки, Монтан и Синьоре поселились в отеле «Беверли Хиллз». Монро и ее супруг Артур Миллер жили по соседству. Каждый вечер они вместе ужинали в ресторане. Симона много говорила с Миллером, ее очень интересовал этот неординарный человек. Мэрилин же была просто очарована Монтаном.
Артур Миллер отправляется в Ирландию писать сценарий фильма. Симона должна ехать в Италию на съемки. Для нее эта история станет едва ли не самой большой драмой в жизни.
Между тем роман Монтана заканчивается с последним съемочным днем «Миллиардера». «Мысль о том, что я мог покинуть Симону, смешна», — объявил актер. Через несколько месяцев пара воссоединяется. Правда, спустя много лет Ив все-таки скажет: «Где бы я ни был, как бы ни жил, Мэрилин всегда будет со мной...»
Профессиональная карьера Монтана — на подъеме. Его с нетерпением ждут концертные залы Парижа. А когда он осенью 1961 года едет выступать в США, зал «Золотого театра» переполнен. Симона сопровождает его на гастроли, в том числе и в Америку, а потом — в Японию и Англию.
Монтан говорил: «Мы стареем вместе с Симоной, но стареем по-разному». Лучшие годы актрисы позади. Она очень располнела, ее голос стал тихим и еще более низким.
В 1976 году вышла книга Синьоре «Ностальгия уже не та, что раньше». Она писала ее в течение нескольких лет. Монтан первый прочитал книгу и был очень доволен Симоной, убеждая ее продолжать сочинять.
Наступил 1985 год, принесший Монтану самое большое несчастье в жизни. 30 сентября его Симона умерла от рака. Ее пытались прооперировать, но болезнь зашла слишком далеко. В последние годы, несмотря на надвигающуюся слепоту, она много писала, делала переводы, издала роман «Прощай, Володя», участвовала даже в телепередачах, причем зрители не замечали, что она почти ничего не видит.
Симону похоронили на кладбище Пер-Лашез. Монтан больше не приходил на ее могилу. Для него она не умерла. Ив продолжал мысленно разговаривать с ней. «Я жалею, что огорчал ее. Об этом я жалею, только об этом». На концертах Ива теперь всегда оставалось одно пустое место в восьмом ряду. Место Симоны. «Весь мир знает, что Симона — это женщина, которую я больше всего любил».
Тем не менее в жизнь Монтана входит молодая Кароль Амьель. Они
познакомились еще в 1982 году, когда девушка в качестве секретарши сопровождала
Ива в турне по странам мира. Ей тогда было двадцать два. Любовники тщательно
скрывали свои отношения от Симоны. 31 декабря 1988 года Монтан впервые
становится отцом. В глубине души он надеялся дожить до 85 лет, до
совершеннолетия сына Валентина. Но судьба отмерила ему совсем немного — в ноябре
1991 года великого артиста не стало.
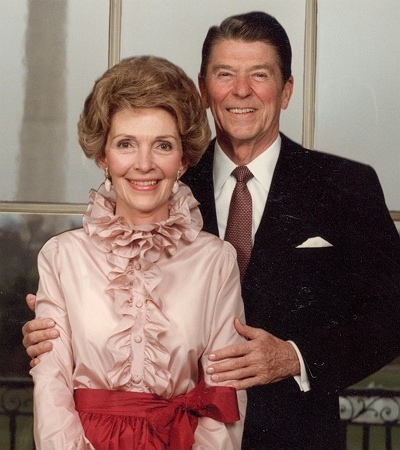 В
2004 году скончался Рональд Рейган, один из самых популярных президентов в
истории Америки. Вместе с ним умерла удивительная любовь, связывавшая Рональда и
Нэнси ровно 50 лет. За эти годы влюбленный Рейган написал своей супруге
множество писем, открыток, телеграмм, записок.
В
2004 году скончался Рональд Рейган, один из самых популярных президентов в
истории Америки. Вместе с ним умерла удивительная любовь, связывавшая Рональда и
Нэнси ровно 50 лет. За эти годы влюбленный Рейган написал своей супруге
множество писем, открыток, телеграмм, записок.
«Я подумала, неужели все это осядет на полках библиотеки имени Рейгана? — спросила себя Нэнси. — Документы говорят так много о нем и о нас, они должны быть доступны всем». В результате появилась трогательная книга, в которой письма Рейгана перемежаются с воспоминаниями бывшей первой леди. Нэнси назвала ее «Я люблю тебя, Ронни». И написала во вступлении: «Моя жизнь началась, когда я встретила Рональда Рейгана».
Они увиделись впервые осенью 1949 года. Многообещающая актриса Нэнси Дэвис обнаружила в одной из голливудских газет свое имя в списке лиц, симпатизирующих коммунистам. В пору «охоты за ведьмами» этого было вполне достаточно для краха карьеры. Влиятельный голливудский друг Нэнси Мэрвин Лерой посоветовал ей позвонить президенту актерской гильдии Рональду Рейгану, только что расставшемуся с прежней женой — актрисой Джейн Ваймэн.
Рейган откликнулся и предложил обсудить проблему за ужином, осторожно добавив, что не сможет уделить ей много времени, поскольку должен рано вставать поутру. Нэнси заверила, что и у нее полно утренних хлопот.
Они ужинали во французском ресторане, а потом Рональд сказал, что знаменитая певица Софи Такер дает концерт в театре «Сиро». Нэнси заметила, что никогда не была на ее выступлениях, и тогда Рональд предложил: «А почему бы нам прямо сейчас не пойти и не послушать Софи». Они посмотрели друг на друга и признались, что никаких дел следующим утром у них нет.
«Оглядываясь назад, — вспоминает Нэнси, — я по-прежнему не могу понять, почему он сразу же показался мне идеальным мужчиной. Он не говорил о себе или о своих фильмах. Рассказывал о гражданской войне, которую хорошо знал. Любил лошадей. Прекрасно разбирался в винах. Он был всем, чего я хотела».
Рональд Рейган рос в Диксоне, штат Иллинойс. Его отец, Джек, был алкоголиком. Мать Ронни, Нелли, бывало, говорила ребятам, что отец их страдает болезнью, которая порой лишает его возможности контролировать себя. Джеку трудно было удержаться на работе, и семья постоянно скиталась.
Нэнси была дочерью актрисы Эдит Лакетт Дэвис. При крещении ей дали имя Энн Фрэнсис — в честь обеих бабушек, но называли всегда почему-то Нэнси. Ее отцом был Кеннет Роббинс, выпускник Принстона. Он был не слишком честолюбив и торговал автомобилями в Нью-Джерси. Брак оказался неудачным, и родители вскоре после рождения дочери развелись. Второй муж матери — Лоял Дэвис, известный чикагский нейрохирург, был серьезен, исполнен достоинства и принципиален. Нэнси почитала его за настоящего отца...
Накануне Рождества 1951 года, в сочельник, Ронни принес Нэнси маленькую елочку, и она решилась наконец задать чрезвычайно важный вопрос: «Ты хочешь, чтобы я тебя ждала?»
Он ответил коротко: «Да, хочу».
Рональд и Нэнси обвенчались 4 марта 1952 года в маленькой глиняной церкви в Долине.
К свадьбе Ронни подарил невесте букет цветов. На следующий день они отправились в Феникс, где их ждали ее родители, чтобы отпраздновать свадьбу.
Медовый месяц был очень счастливым, а вот первый год брака — трудным. 22 октября 1952 года родилась дочь Пэтти. Нэнси оказалась весьма беспечной матерью. К тому же карьера Ронни в Голливуде пошла на спад. Нэнси пришлось вернуться в студию и сняться в нескольких фильмах.
В 1954-м Рейган поступил в театр «Джэнерал Электрик». Новая работа означала постоянные гастроли по стране. Но она позволила Рональду значительно расширить свои представления об американских реалиях и установить контакты с влиятельными людьми. Именно эти обстоятельства, а вовсе не жена, как заверяет Нэнси, подтолкнули его в мир большой политики.
Когда Рейган решил баллотироваться в губернаторы, Нэнси поняла, что их жизнь теперь станет совершенно иной. Но она и представить себе не могла, насколько иной она будет, до тех пор, пока они не переехали в Сакраменто.
Резиденция калифорнийского губернатора в Сакраменто была их первым просторным домом. В нем, по воспоминаниям миссис Рейган, ссоры были так редки, что они становились событием.
Рональд Рейган заканчивал второй срок губернаторства в Калифорнии, когда помощники стали убеждать его баллотироваться в президенты США. Нэнси поначалу не верила в эти планы. Но спустя четыре года он победил на выборах Джимми Картера. Президентом Рейган стал, когда ему исполнилось семьдесят.
Нэнси Рейган с головой окунулась в разные дела: представительствовала, была хозяйкой, руководила обслуживающим персоналом — но было одно дело, которое она считала превыше всех прочих. Прежде всего первая леди — жена президента.
Составной частью работы Нэнси стала борьба с наркоманией. Позже, вернувшись в Лос-Анджелес, она продолжала принимать участие в ней через Фонд Нэнси Рейган.
На одной из улиц деловой части города перед отелем «Хилтон», где Рейган выступал с речью, произошла попытка покушения на него. Нэнси завтракала с Барбарой Буш за несколько кварталов от этого места. Вот когда проявились почти мистические узы, связывавшие ее с мужем!
«В тот день, 30 марта 1981 года, у меня был обед в картинной галерее Вашингтона. Но я все время чувствовала, что должна вернуться домой. Там меня встречал начальник охраны Джордж Опфер: "Была стрельба, — сказал он, — но президент в порядке..." Ронни лежал в реанимации с кислородной маской на лице. Увидев меня, он поднял маску и сказал: "Прости, дорогая, я не успел увернуться". Пуля прошла в сантиметрах от его сердца. Эту ночь я провела рядышком с ним. Он должен был чувствовать мою близость».
После покушения Нэнси была совершенно опустошена. Она увлеклась астрологией, что позже станет предметом резкой критики. Астрология была просто одной из возможностей справиться со страхом, который она испытывала с той поры, как ее муж чуть не умер.
Рейган продолжал писать любовные послания. Теперь уже — на гербовой бумаге. Из письма президента Рональда Рейгана: «Дорогая первая леди! Как президент США я имею честь и право отметить ваши успехи в деле, по ходу которого вы сделали одного человека (меня!) самым счастливым мужчиной в мире на протяжении 29 лет. Начиная с 1951 года Нэнси Дэвис служит спасением одинокого человека, который даже не представлял, насколько он одинок, оберегая его от пустой и никчемной жизни. Из своего Овального кабинета я вижу твое окно и чувствую тепло от мысли, что ты там».
В 1983 году Нэнси попыталась уговорить мужа не ввязываться в новые выборы. Она скучала по друзьям и родным, скучала по Калифорнии. Ронни сделал так много, что, пожалуй, можно было и опустить занавес.
Рейган, однако, был настроен баллотироваться снова. Он хотел еще кое-что сделать. В течение какого-то времени супруги обсуждали это каждый вечер, пока ей не стало ясно, что иначе он просто не может. И в конце концов Нэнси сказала: «Ладно, если это для тебя так важно, действуй. Я не в восторге, но что поделаешь!»
«Думая о прошлом, радуюсь своей тогдашней капитуляции, особенно имея в виду то, чего удалось достичь Ронни в области отношений с Советским Союзом. Но следует признать, что во время второго срока он проводил гораздо более жесткую политику, чем во время первого».
О своем решении Ронни объявил 29 января 1984 года по радио из Овального кабинета.
Фамилию Рейган носят четверо детей; по старшинству это Морин, Майкл, Пэтти и Рон. Морин и Майкл — дети Ронни от первого брака с Джейн Уаймен. Пэтти родилась в 1952 году, с самых ранних лет она была своевольна. Рон появился на свет в 1958-м и долгие годы был Нэнси ближе всех.
Вероятно, бывали моменты, когда все они чувствовали себя в какой-то мере брошенными. «Как и наши родители, мы с Ронни всегда считали, что по достижении определенного возраста детям нужно дать возможность жить самостоятельно... Я обожаю своих детей. Больше всего на свете я хотела быть хорошей женой и матерью. Как теперь стало ясно, в первом я преуспела больше, чем во втором...»
Покушение наложило на сверхчувствительную натуру Нэнси зловещий отпечаток. А ухудшившееся здоровье Рональда Рейгана (в 1985 году ему сделали операцию по поводу рака толстой кишки, а в 1987 году — операцию на простате) заставило ее с еще большим рвением оберегать его от стрессов и перегрузок.
В августе 1994 года медики обнаружили у Рейгана болезнь Альцгеймера, неизлечимую, постепенно, но неумолимо убивающую его мозг. Узнав о диагнозе, Рональд обратился с письмом к нации, простившись заранее со всеми, кто ему симпатизирует, и попросил прощения у друзей за то, что однажды не сумеет их узнать.
Из письма пенсионера Рональда Рейгана: «Дорогая миссис Р.! Я обожал первую леди за то, что она привносила столько шарма и грации во все формальные церемонии, что они становились веселой и изящной игрой. Есть еще милая женщина со взглядом Мадонны, когда она держит на руках больного ребенка. Третья дама всегда изумляла меня своей способностью создавать уют. В три дня она превращала в милый дом любой холодный гостиничный номер. К тому же я всегда был без ума от девушки, которая отправлялась со мной на ранчо и сливалась с природой. И любовался сентиментальной барышней, которая заливалась слезами от грусти и чей смех в минуты радости был похож на колокольчик. К счастью, все эти женщины в моей жизни — ты. К счастью для меня, поскольку свою жизнь без тебя я не представляю».
В конце жизни Рейган уже не узнавал свою жену.
«Прогрессирующая болезнь знает лишь один путь — вниз, в туннель, в конце
которого нет света, — писала Нэнси. — С каждым днем все больше воспоминаний,
которые я уже не могу больше разделить с ним. Но приходит новый день, я
просыпаюсь рядом с ним с одной мыслью — любить. Любить без ума».
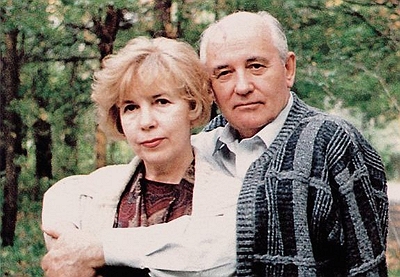 Как
знать, решился бы когда-нибудь первый и последний президент СССР Михаил Горбачев
начать свои судьбоносные для страны реформы, если бы у него была не такая жена.
Как
знать, решился бы когда-нибудь первый и последний президент СССР Михаил Горбачев
начать свои судьбоносные для страны реформы, если бы у него была не такая жена.
Михаил Сергеевич Горбачев родился в 1931 году в селе Привольном Ставропольского края в семье колхозника. Трудовую деятельность начал в пятнадцать лет, работал на комбайне. За ударную уборку урожая был награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1950 году Михаил поступил на юридический факультет МГУ.
Со своей будущей женой, Раисой Титаренко, Горбачев познакомился на танцах в студенческом клубе на Стромынке. У нее был гордый и независимый характер.
Рая Титаренко родилась в 1932 году в Рубцовске Алтайского края. Ее отец, Максим Андреевич, строил железные дороги. Семья часто переезжала с места на место. Мать, Александра Петровна, домохозяйка, родила троих детей. Брат Женя был младше Раисы на три года, сестра Люда — на шесть.
Десятый класс Раиса закончила в Башкирии, в городе Стерлитамаке. Золотая медаль давала право выбрать любой вуз. Так в 1949 году она оказалась в Московском государственном университете на философском факультете.
После знакомства на танцах они несколько месяцев не встречались. Только случайно в декабре 1951 года, отыскивая свободное место в клубе, опоздавший на концерт Горбачев вдруг увидел Раису: «Нет свободного местечка» Она ответила: «Я как раз ухожу, садись на мое».
Но ушли они вместе. С тех пор проводили друг с другом практически все свободное время.
В июне 1952 года, в одну из Белых ночей, они просидели и проговорили в скверике у общежития на Стромынке до утра. Наверное, уже тогда поняли, что не могут и не должны расставаться. Через год решили пожениться.
В летние каникулы Михаил уезжал в родное село Привольное, садился с отцом на комбайн. В конце сезона продал с отцом 900 килограммов заработанного зерна, вместе с другими доходами получилось больше тысячи рублей — чуть ли не пять стипендий. Если не для семейной жизни, то по крайней мере для женитьбы вполне серьезный капитал.
25 сентября 1953 года Михаил и Раиса просто и буднично расписались в Сокольническом ЗАГСе.
Только к концу учебы Горбачевы «объединились», долго сражаясь с ханжеством администрации, не разрешавшей оставаться на ночь вместе даже супругам.
Защитив диплом, Рая поступила в аспирантуру. Горбачев получил направление в Прокуратуру СССР. Ему предложили несколько мест в провинции, но молодые посовещались и решили, что уж если ехать, то не в чужую, а в родную провинцию.
В Ставропольском крае Горбачевы прожили 23 года.
Проходя стажировку в местной прокуратуре, молодой специалист отыскал дом, хозяева которого сдали 11-метровую комнату: треть занимала печь, узкая железная койка с сеткой, продавленной до пола. Столом и шкафом служил ящик из-под книг. К приезду жены супруг купил два стула. Так и устроились на ближайшие годы.
Все несуразности с его распределением, невнимание прокуратуры к семейной ситуации привели к тому, что Михаил ушел на комсомольскую работу, куда его очень звали. Но это уже начало политической карьеры, которая сложилась бы, вероятно, иначе, останься он в Москве.
В начале 1960-х годов семья уже жила в двухкомнатной квартире. У Горбачевых родилась дочь Ирина. Ее сверхдержавами и отношения между двумя женами. Каждая деталь дуэли Нэнси Рейган с Раисой Горбачевой досконально изучалась.
«Всего Ронни с Горбачевым встречались четыре раза: в Женеве в 1985 году, в Рейкьявике в 1986-м, в Вашингтоне в 1987-м и в Москве в 1988-м, — пишет в книге мемуаров Нэнси Рейган. — Я была с Ронни на трех из этих встреч, и каждый раз мы с Раисой становились предметом самых горячих обсуждений. Отчасти потому, что на переговоры прессу не допускали и тысячам корреспондентов было не о чем больше писать. Мы с Раисой были лишь маленьким подстрочным примечанием к великим событиям. Но она играла важную для меня роль во время подобных встреч, и я стала одним из ведущих экспертов по русской первой леди.
Когда мы встретились впервые в Женеве в ноябре 1985 года, я пригласила ее на чай в нашу резиденцию. Она удивила меня своей внешностью: была ниже ростом, чем я ожидала, и волосы ее были рыжее, чем можно было представить, глядя на нее по телевизору. Кроме того, что можно увидеть на снимках, я о ней больше ничего не знала. [...]
Если я нервничала перед первой встречей с Раисой Горбачевой — а я нервничала, — то она, должно быть, нервничала еще больше перед встречей со мной. Я не знала, о чем буду говорить с ней, но вскоре выяснилось, что это не имеет никакого значения. С первой минуты она сама говорила, говорила, говорила — так много, что мне едва удавалось вставить словечко. Быть может, это было от неуверенности, которую она испытывала, но после почти дюжины наших встреч в трех разных странах основное впечатление, которое осталось у меня от Раисы Горбачевой, — что она никогда не перестает говорить.
А точнее сказать, читать лекции. Иногда темой был триумф коммунистической системы. Иногда — советское искусство. А чаще всего — марксизм-ленинизм. Один или два раза она даже прочла мне лекцию о недостатках американской политической системы. [...]
Несмотря на все трудности общения с Раисой, знаю, что она испытывала такое давление, какого я даже представить себе не могу, и я ее не виню. Когда, например, Горбачевы приземлились в Женеве, я заметила, что они вышли из самолета вместе. А когда вернулись в Москву, он вышел один, без нее, а она незаметно выскользнула через дверь в хвостовой части. Я бы взбесилась, если бы мне нужно было вести себя за границей совсем не так, как дома».
Крис Огден, автор книги «Маргарет Тэтчер. Женщина у власти», писал о визите британского премьер-министра в Москву в марте 1987 года: «Визит в Москву дал Тэтчер первую реальную возможность оценить и Раису Горбачеву, которой она преподнесла первое издание "Ярмарки тщеславия" Теккерея. Она очень быстро поняла, почему Нэнси Рейган так не нравилась Раиса, Жена советского руководителя имеет ученую степень, она умна, имеет собственное мнение и, не колеблясь, говорит о том, что знает или думает. Убежденная марксистка, она подходит к дискуссиям диалектически, проповедуя и формулируя закономерность. Как заметил один из английских экспертов, если бы Раиса жила в Англии, она скорее всего стала бы активисткой Движения за ядерное разоружение». «Ее непросто сбить с толку», — заметила как-то Тэтчер.
Семья Горбачевых через многое прошла. Все было: и сплетни, и грязь, и предательства, и измены.
В 1990 году на III Съезде народных депутатов Михаила Сергеевича избирают президентом СССР. В апреле следующего года Горбачевым были подписаны соглашения с руководителями десяти союзных республик о совместной подготовке проекта нового Союзного договора. Но 19 августа, накануне его подписания, ближайшие соратники президента, в том числе «силовые» министры, объявили о создании ГКЧП. Горбачевы оказались отрезанными от мира на госдаче в Форосе.
Сразу же после провала заговора ГКЧП с телевизионного экрана надолго исчезла Раиса Максимовна. Пошли слухи: «Пережила. Переволновалась. Инсульт. Рука отнялась».
Однако как бы компенсируя исчезновение, повсюду появилась ее книга «Я надеюсь» с улыбающимся портретом на обложке. В Форосе действительно был серьезный срыв. «Сегодня, конечно, я чувствую себя хуже, чем до Фороса, но гораздо лучше, чем могло быть».
Писательница Лариса Васильева считает, что самым удивительным и естественным было поведение Раисы Максимовны во время «путча»: «Она вела себя не мужественно, а женственно: испугалась за семью. Да так, что сама заболела. И это было ее главным поступком. К сожалению, ее испуг ничему не научил заигравшийся мир. Но это уже не ее вина. Она испугом сказала свое нежное женское слово. И оно останется на добрую память потомкам...»
25 декабря 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия главы государства и вскоре стал президентом Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд).
Для семьи настали тяжелые времена. Семью экс-президента буквально за сутки выселили из служебной квартиры. Дали здание для фонда, но вскоре его отобрали. Причем с милицией, наручниками...
Раиса Максимовна говорила, что ни разу не видела мужа отчаявшимся. Даже в тот момент, когда он узнал о решении беловежских «зубров».
Первые три года после ухода с поста президента Горбачев получал пенсию 4 тысячи рублей. Он сделал все, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Написал несколько книг, читал лекции за рубежом. «Годы реформ» во Франции стали бестселлером. На гонорары Горбачева и спонсорские взносы существует и его фонд. Начали помогать республиканскому центру «Гематологи мира —детям», и не только ему. Одна из главных благотворительных программ фонда — «Детские лейкозы в России». Через фонд в НИИ детской гематологии поступили лекарства, собранные за рубежом, на 600 тысяч долларов.
После того как Горбачев сошел с политического Олимпа, он оказался в изоляции, у него не было доступа на телевидение, все было перекрыто. И в 1996 году он участвовал в президентской кампании потому, что, куда бы ни приезжал, везде слышал: «Вы же давно смылись в Америку». Во время поездки по стране Горбачев вышел к разбушевавшейся, резко настроенной против него толпе с возгласом: «Ну, что ж, распните меня, если вам от этого станет легче...» Все это надо было выдержать. Но Горбачевы сохранили моральную силу делать и говорить то, что считали нужным.
В это время дочь Ирина развелась со своим мужем. Занялась, переквалифицировавшись в менеджеры, бизнесом. Так что Раиса Максимовна много времени проводила с внучками — Ксюшей и Настей.
Дочь Ирина полагает, что президентская кампания 1996 года стала причиной многих волнений Раисы Максимовны и могла спровоцировать страшную болезнь — лейкемию: «Мама очень тяжело все переживала, и, может быть, в этом плане лейкемия была расплатой».
Когда стало известно, что Раиса Максимовна опасно заболела, бюллетени о состоянии ее здоровья передавались всеми радиостанциями, и «Горбачев-фонд» оказался завален сочувственными письмами и телеграммами.
20 сентября 1999 года, около 3 часов утра по местному времени (6 часов по Москве), в университетской клинике немецкого города Мюнстера Раиса Максимовна скончалась. Она умерла от лейкемии в возрасте 67 лет.
Злая ирония судьбы: Раиса Максимовна столько отдала сил, чтобы помочь детям, больным лейкемией. И никаких объективных факторов для этой болезни у нее не было. После диагноза, поставленного достаточно быстро еще в Москве, она попала в ЦКБ. Но Михаил Сергеевич сказал ей о диагнозе только в Германии. Она боролась, насколько хватало сил, практически до комы. Но болезнь была неизлечима...
«Я много видела людей того поколения и поняла, что у них отношение друг к другу было более бережным, чем сейчас у нас, — говорит дочь Горбачевых Ирина Виргинская. — Они вступали в брак с признанием взаимной ответственности друг за друга. Между папой и мамой было именно то, что называют настоящей любовью. И оттого, что я это видела своими глазами, во мне навсегда осталась вера в любовь. [...]
Это чувство выглядело так, как будто они — один человек. У них были и споры, и ссоры, но они были одно целое. Когда приходилось расставаться, родители бесконечно друг другу звонили, письма писали. Даже когда мы с мамой уезжали в отпуск, то в течение этих нескольких недель писали папе домой, а он — нам. Помните старый миф о том, как Зевс разрубил андрогинов на две половинки — мужчину и женщину, — они либо встретятся, либо нет? Их половинки встретились...»
 Величайший
музыкант современности Мстислав Ростропович родился в 1927 году в Баку. Его
отец, Леопольд Витольдович, преподавал в Бакинской консерватории. Стремление
дать детям лучшее образование побудило семью переехать в Москву.
Величайший
музыкант современности Мстислав Ростропович родился в 1927 году в Баку. Его
отец, Леопольд Витольдович, преподавал в Бакинской консерватории. Стремление
дать детям лучшее образование побудило семью переехать в Москву.
Мстислав поступил в Московскую консерваторию, которую блестяще окончил в 1946 году. Он начинает давать концерты в Советском Союзе, а потом и за рубежом.
Иногда известных советских артистов приглашали на приемы иностранных делегаций в качестве гостей, и на одном таком приеме в ресторане «Метрополь» в апреле 1955 года Мстислав Ростропович познакомился со звездой Большого театра Галиной Вишневской. Певица позже вспоминала: «Он сел за наш стол, я с кем-то болтала, на него не обращая никакого внимания. Имя его я слышала в первый раз — да еще такое трудное, я его сразу и забыла. Он рассказывал какие-то смешные истории, потом смотрю — яблоко от него ко мне через весь стол катится (как Парис в "Прекрасной Елене" — "Отдал яблоко он ей...")»
Вишневская была на год старше Мстислава. Она многое повидала в жизни. В детстве была брошена непутевой матерью и пьяницей-отцом, гордившимся тем, что после революции стрелял в мятежных кронштадтских моряков. Галину воспитывала бабушка. Жили они в городе Кронштадте — ленинградской военно-морской базе на острове Котлин. Гале не было и семнадцати, когда она вышла замуж за морского офицера Вишневского. Брак распался очень быстро.
Галина обладала естественной постановкой голоса, слухом и редкой памятью на музыку, впечатления, лица. В 1944 году она начала петь в областном ансамбле оперетты. Директор ансамбля Марк Ильич Рубин стал ее вторым мужем, он был старше избранницы на двадцать два года. У них родился сын, который вскоре умер.
Попав в стажерскую группу Большого театра, Вишневская смогла в полной мере раскрыть свой великий талант певицы. Появились приглашения на концерты, приемы, завязались интересные знакомства.
Вскоре Ростропович и Вишневская вместе оказались за границей на фестивале «Пражская весна».
Ухаживал Слава красиво, тактично, щедро, выражая ей свое восхищение, свое желание. Противиться такой стихии было трудно. Вишневская пишет в автобиографической книге «Галина»: «Я ждала любви, ради которой стоило бы умирать, как мои оперные героини. Мы неслись навстречу друг другу, и уже никакие силы не могли нас удержать. Будучи в свои двадцать восемь лет умудренной жизненным опытом женщиной, я всем сердцем почувствовала его молодой безудержный порыв, и все мои чувства, так долго бродившие во мне, устремились ему навстречу».
Через четыре пражских дня они уже были мужем и женой. Но приходилось молчать, иначе грозило модное тогда обвинение в бытовом разложении.
В Москве их ожидала самая большая трудность: развод Вишневской с Рубиным, который любил ее, ревновал, радовался ее успехам. Кончилось тем, что она просто сбежала к Ростроповичу.
Галина жаждала постоянства, душевного спокойствия. В 1956 году она родила дочь Ольгу. Ростропович чувствовал себя счастливым отцом, ребенка обожал, помогал пеленать, купать, из зарубежных поездок привозил детские питательные смеси.
В новом кооперативном доме на улице Огарева супруги купили в рассрочку квартиру из четырех комнат — жилье по тем временам роскошное. Галина позаботилась об уюте. После концертов у них часто собирались гости на дружеские застолья с шампанским. Позже Ростроповичи купили дачу в живописном подмосковном поселке Жуковка.
В семье родилась вторая дочь, Елена. Детей отец обучал музыке по своей методике: «Фортепиано — фундамент инструментализма». Старшая дочь, Ольга, пошла по стопам отца, выбрав виолончель; младшая, Елена, стала пианисткой, имея безусловные композиторские задатки.
Творческая карьера супругов складывалась успешно. Галина Вишневская блистала в театре. Она овладела многими ведущими сопрановыми партиями текущего репертуара. В 1960-е годы три поездки Вишневской в США и ряд других гастролей прошли уже с Ростроповичем как пианистом. Триумф был общим.
Вместе с мужем Вишневская вошла в круг друзей Шостаковича, стала первым интерпретатором многих его вокальных сочинений, посвященных ей.
Мстислав Ростропович в течение сезона давал от ста тридцати до двухсот концертов как в Советском Союзе, так и за рубежом. В 1964 году за выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства он был удостоен Ленинской премии.
Словом, Ростропович и Вишневская стали гордостью советского искусства. Все резко изменилось после того, как Мстислав помог опальному писателю Александру Солженицыну. Ростроповича перестали выпускать на гастроли, до предела сократили его концертные выступления. Музыкант чуть было не сломался, начал пить и впал в состояние душевной депрессии.
В этих тяжелейших условиях Ростроповича спасла жена с ее твердым характером. Галина не колебалась: надо ехать на Запад. Ничто не могло ее остановить. Много лет спустя Вишневская говорила: «...Останься мы тогда в Москве, Ростроповича не было бы вообще — это точно. Он либо спился, либо покончил с собой, и я потеряла бы мужа, семью».
Первый концерт за рубежом дала Вишневская — на него был контракт, заключенный еще Госконцертом.
Супруги официально значились в зарубежной творческой командировке сроком на два года, имели советские паспорта и формально даже сохраняли свои московские места службы: Вишневская — в Большом театре, Ростропович — в Консерватории. На Западе они хотели заниматься своим делом — музыкой. Ростропович как-то сказал: «О высоких политических материях я вообще никогда не рассуждаю, ибо, как я всегда говорю, я не политик, а музыкант».
Хотя Ростропович и Вишневская официально не считались изгнанными из страны, их имена в советских средствах массовой информации не упоминались, записи их игры и пения убирались в дальние углы архивов, а то и уничтожались. К юбилею Большого театра был выпущен альбом, но тщетно искать там даже упоминание о Вишневской.
Американцы пригласили Ростроповича на место художественного руководителя Вашингтонского симфонического оркестра. Обаяние, простота, жизнерадостность, талант и человечность Мстислава Леопольдовича создали атмосферу обоюдной влюбленности дирижера и оркестра. За сезон давалось около двухсот концертов.
В 1977 году Вишневская была признана лучшей певицей мира, она записала множество пластинок, которые удостоились различных премий.
Ростропович и Вишневская стали давать интервью, в которых говорили о своей родине все, что думали. В результате 15 марта 1978 года они были лишены советского гражданства. Супруги узнали об этом в Париже из телевизионной передачи, но никакого гражданства решили не оформлять. Взяли лишь паспорта маленького княжества Монако, где когда-то дали первый концерт.
На чужбине Ростропович особенно ощутил значение в его жизни такой надежной опоры: рядом была женщина, понимавшая его характер; артистка, с ним сотрудничавшая; мать, умевшая находить общий язык с повзрослевшими строптивыми дочерьми; умелая хозяйка, обладавшая хорошим вкусом. И при этом она не стесняла его свободу.
Дочери радовали Ростроповичей. Старшая, Ольга, начала преподавать виолончельную игру в Манхэттенской школе Нью-Йорка. Младшая, Елена, вышла замуж, родила трех сыновей: Ивана, Сергея и Александра. И дочь от второго брака Елены с итальянским бизнесменом тоже получила русское имя — Анастасия. Как и прежде в России, так и в изгнании семья оставалась интернациональной: зятья — француз и итальянец, Вишневская — полуцыганка, Ростропович — литовско-польско-русских корней.
Ростропович дирижировал спектаклями, в которых пела Вишневская, организовал и провел ряд записей, из которых нужно выделить: «Катерину Измайлову» Д. Шостаковича в первой редакции, «Войну и мир» С. Прокофьева в полном варианте, «Пиковую даму» и «Иоланту» П. Чайковского, «Тоску» Пуччини.
Супруги внимательно следили за тем, что происходит в Советском Союзе. Отношение к инициатору перестройки Михаилу Горбачеву у них было разным. Мстислав Леопольдович симпатизировал человеку, позволившему стране вздохнуть свободнее, а Галина Павловна видела в советском лидере говоруна и позера.
Беды родной страны Ростропович и Вишневская принимали близко к сердцу. После землетрясения в Армении Мстислав Леопольдович организовал в Лондоне благотворительный концерт, на котором играл сам, а Вишневская пела романсы Чайковского.
В начале 1989 года была достигнута договоренность о гастролях в Москве и Ленинграде Вашингтонского оркестра под управлением Ростроповича. Не без колебаний он ответил согласием. Вишневская ехать не хотела: «Зачем? Чтобы вновь переживать прошлое, исходить гневом? Власть была прежняя, как и раньше, держала народ в скотском состоянии. А всевозможным красивым словам я давно научилась не верить».
В мае 1989 года Ростроповичи сыграли свадьбу старшей дочери Ольги с Олафом Герран-Гермесом. Свадьбу устроили с размахом, на удивление немало повидавшему Парижу. Свадебный туалет для невесты изготовил в русском стиле знаменитый Ив Сен-Лоран: сарафан, кокошник, ленты в волосах, украшенные драгоценностями. Молодые венчались в русской церкви Св. Александра Невского в Париже, дорогу из церкви устилали розы, а гостям играл на свадебном обеде ансамбль из пятидесяти скрипачей.
В январе 1990 года Ростроповичу и Вишневской вернули советское гражданство. Они приехали на родину.
Прямо из аэропорта супруги отправились на Новодевичье кладбище, на могилу Шостаковича: ему предназначался первый поклон... Два концерта в Москве дополнились двумя концертами в Ленинграде, где Вишневская успела съездить в родной Кронштадт, на могилу бабушки...
В парижской квартире Ростропович установил спутниковую антенну, чтобы смотреть телепередачи из Москвы. Утром 19 августа 1991 года Мстислав Леопольдович узнал об антиправительственном путче в СССР и сразу же решил ехать в Москву. Жену и детей предупреждать не стал — в час дня он был уже в самолете.
Этот шаг стал переломным для Ростроповича. Он поверил, что страна готова к переменам. Мстислав Леопольдович произнес яркую речь на российском телевидении. Музыкант провел в Белом доме без малого трое суток, и когда напряжение спало, возвратился к своим делам, концертам, к семье с мыслью, что должен помогать России более активно.
В марте 1992 года Большой театр к сорокапятилетию творческой деятельности Вишневской посвящает ей большой концерт, певице символически возвращается пропуск в родной театр. Галина Павловна учреждает фонд для помощи ветеранам сцены, в который она вносит все деньги, полученные за русский перевод ее книги «Галина», изданной в пятнадцати странах.
Ростропович и Вишневская продолжают заниматься благотворительными проектами. Они основали свой фонд, находят деньги на лечение больных детей, за что от всех россиян низкий поклон.
В декабре 2001 года в сердце музыкального Рима,
концертном зале Санта-Чечилия, началось чествование 75-летнего Ростроповича, а
завершились торжества в Лондоне. Газеты писали: «Ростропович — гений»,
«Ростропович —волшебник». В дни юбилея на родине маэстро в Баку открылся
Дом-музей отца и сына Ростроповичей — Леопольда и Мстислава.
 «Мне
в жизни ничего не давалось легко, — говорит знаменитая итальянская актриса Софи
Лорен. — Мои дети, мой брак, моя карьера — все было результатом упорной борьбы.
И думаю, что именно тяжкий труд и верность поставленной цели приносили мне
высшее счастье в жизни».
«Мне
в жизни ничего не давалось легко, — говорит знаменитая итальянская актриса Софи
Лорен. — Мои дети, мой брак, моя карьера — все было результатом упорной борьбы.
И думаю, что именно тяжкий труд и верность поставленной цели приносили мне
высшее счастье в жизни».
Софи Шиколоне (Лорен) родилась в 1934 году в римском госпитале для неимущих и была дочерью Ромильды Виллани, неудавшейся актрисы. В пятнадцать лет Софи начинает участвовать в конкурсах красоты. Позднее пришло увлечение кино. При подписании контракта с киностудией «Чиночитта» продюсер придумал ей более звучное имя — Лорен. Так на свет появилась актриса Софи Лорен. Правда, она сомневалась, что ей удастся стать кинозвездой: «Я была слишком высока, слишком широка в бедрах, имела слишком длинный нос и слишком широкий рот. И при этом никаких связей и никакого актерского образования. Да к тому же у меня был неаполитанский акцент. Актерское будущее рисовалось мне в черных цветах».
Однажды вечером Софи с друзьями сидела в кафе, с веранды которого открывался прекрасный вид на Колизей. Она даже не знала, что в программу вечера входил финал конкурса «Мисс Рим». Вдруг к их столику подошел один из организаторов и попросил Софи принять участие. Девушка отказалась. Однако через некоторое время он вернулся и сказал, что членами жюри являются известные кинодеятели и один из них, продюсер Карло Понти, обратил на нее внимание и лично просит, чтобы она приняла участие...
На этот раз Софи согласилась. Подумала: если к тебе расположен член жюри, можно и победить... Лорен присудили второе место, а Карло Понти пригласил ее на разговор. Они ходили по саду, мило беседовали. Наконец продюсер сказал: «Я наблюдал за вами. У вас интересное лицо и естественное выражение. Я думаю, что у меня неплохой глаз. Я смог помочь Джине Лоллобриджиде, Алиде Валли и многим другим. Приходите завтра ко мне в офис, и мы сделаем пробные снимки».
Карло Фортунато Пьетро Понти родился в 1910 году. Он вырос в городке Маженти под Миланом. Получив университетское образование на факультете права, Карло устраивается на работу в кинокомпанию и вскоре становится ее вице-президентом. Свой первый фильм он выпустил в 1939 году. Понти был в числе тех, кто восстанавливал итальянское кино после войны...
Рассказывает Софи Лорен: «...операторы говорили, что они не могут снять меня достаточно привлекательным образом.
Карло не отказывался от меня. Он спокойным голосом говорил: "Подожди пять минуточек..." Хотя тогда между нами ничего не было. Мне только что исполнилось шестнадцать лет, а ему тридцать восемь. У него была жена и двое детей...»
Карло Понти изменил ее образ жизни, вкусы, манеры, даже косметику. Он помог Лорен избавиться от неаполитанского акцента, научил вести беседы с самыми разными людьми, приобщил к чтению, открыв ей мир Бальзака, Стендаля, Томаса Манна, Бернарда Шоу, Толстого и Чехова. Продюсер отрабатывал с Лорен все, вплоть до походки. Она должна была, например, ходить по коридору между двумя рядами столов с открытыми дверцами и покачиванием то одного, то другого бедра закрывать их.
Карло Понти, этот грузный и лысоватый господин, без устали, подобно Пигмалиону, творил миф о Софи Лорен, не жалея ни денег, ни таланта предпринимателя.
В Италии первую настоящую роль ей дал режиссер Витторио де Сика, снявший Лорен в ленте «Золото Неаполя». У них образовался блестящий и редкий для кино творческий союз, подаривший мировому киноискусству фильмы, вошедшие в «золотой фонд»: «Вчера, сегодня, завтра», «Чочара», «Брак по-итальянски», «Подсолнухи». Прозорливый Карло Понти заключил с де Сикой контракт, по которому режиссер должен был снимать ежегодно по фильму с участием Лорен.
Понти был на двадцать сантиметров ниже Софи и на двадцать лет старше ее. «Карло верил в меня и любил меня. Я знала об этом. Мое чувство к нему медленно росло. Однажды он послал мне маленькую коробочку. Внутри было обручальное кольцо...»
Однако роман Понти и Лорен был отмечен и драматическими коллизиями: Карло был женат на Джулии Фиастри. Они вместе прожили девять лет и имели двух сыновей — Джулиано и Джузеппе. Впоследствии мальчики получили экономическое образование в Миланском университете, жили всегда с матерью, а с Лорен никогда не встречались. Да и она не стремилась приблизить их к себе.
В дни, когда Софи и Карло мечтали о совместной жизни, а их преследовали, он признался: «Дорогая, единственный мой грех состоит в том, что я хочу с тобой обвенчаться...» Как известно, католическая церковь выступает против разводов. В 1957 году Лорен и Понти все-таки зарегистрировали брак в Мексике.
Софи же полюбила Карло всем сердцем и была счастлива, что после множества неурядиц все встало на свои места. Можно сказать, он завоевал супругу добротой, щедрыми подарками и заботой, которых Лорен была лишена с детства. Во всяком случае, на вопрос, почему она обвенчалась с человеком намного старше ее, актриса призналась: «Да потому, что в прошлом я всегда чувствовала себя беззащитной».
В Италии многие были на их стороне. Против выступали только власти и Церковь. По итальянским законам Карло становился двоеженцем. На католических соборах появились обращения к верующим, чтобы они забыли имена Лорен и Понти. Их фильмы были запрещены.
Карло Понти нашел выход из сложившегося положения. Он обратился к французским друзьям и коллегам, надеясь с их помощью получить французское подданство, тем более что жена уже взяла его.
Через некоторое время подданство ему было предоставлено за заслуги перед Францией в области культуры. Карло Понти пообещал, что все его фильмы обязательно будут идти во французском кинопрокате. В 1962 году он наконец-то развелся с Джулией Фиастри.
Союз Карло Понти и Софи Лорен оказался счастливым в личной и творческой жизни обоих. В 1966 году они еще раз официально оформили свои отношения.
И все-таки тяжелые сомнения не раз посещали Софи Лорен. Много тревожных, беспокойных часов и дней она провела наедине с собой, обращаясь к Богу... Как истинная женщина, Софи мечтала о ребенке. Оставалось един ственное неосуществленное желание. Трижды в совместной жизни с Карло Понти эта мечта, тяжело раня душу Софи, неожиданно обрывалась... Несмотря ни на что, Лорен не теряла самообладания.
«На этот раз я должна родить любой ценой», — сказала Софи, когда ее положили в клинику на пятом месяце беременности. Врачи не верили в благоприятный исход, но ничего не говорили ей.
Через пять месяцев Софи Лорен родила мальчика. Карло-младший появился на свет в 1969 году в женевском роддоме. Его рождение стало мировой сенсацией. В палату, где лежала счастливая мать, проникла толпа фотокорреспондентов... Взгромоздясь друг на друга до самого потолка, они снимали младенца и Софи Лорен.
На этом актриса не остановилась. Второй сын, Эдуардо, родился в 1973 году без особых страданий.
Большая разница в возрасте не оказывала влияния на их сердечные взаимоотношения. Когда актрису просят дать хотя бы два определения своему мужу, она отвечает: интеллигентный; с большим чувством юмора.
Когда успех фильмов с участием Лорен начал ослабевать, Карло Понти убедил жену написать автобиографию «Живя и любя». Говорят, не без участия Понти появилась и книга А. Хотчинер «Софи: история ее жизни и любви», на основе которой Джоан Кроуфорд написала телепьесу, а режиссер Мэл Стюарт снял фильм «Софи Лорен: ее история», причем сама Лорен сыграла две роли — своей матери и себя...
В феврале 1991 года Софи Лорен получила почетную премию «Оскар» за вклад в киноискусство. И конечно же на церемонии присутствовали ее муж и двое сыновей. Карло Понти-младший, окончив один из калифорнийских университетов, получил ученую степень бакалавра музыки. Эдуардо пробовал себя в кинорежиссуре.
В одном из интервью, рассказывая о супруге, Софи Лорен отметила: «Я в жизни знала многих мужчин. Но по сравнению с моим Карло все они похожи на плоские деревянные фигуры. Живым среди них был только он...»
На вопрос, что для нее в жизни важнее — любовь
или карьера, и мучает ли ее эта вечная проблема, возникающая у творческих людей,
Софи Лорен с присущим ей достоинством отвечала: «Могу сказать всем, кто не верит
в любовь. Я всегда любила. И всегда верила в любовь. Иначе в жизни не может быть
счастья. Любовь, семья — единственное, что является для меня важным. Ничто, даже
получение "Оскара", не принесло мне такого счастья и удовлетворения, как
материнство. Это главная роль в моей жизни, перед которой все меркнет. Возможно,
обо мне скажут, что это несовременно. Ну что ж, пусть считают, что я
несовременна...»
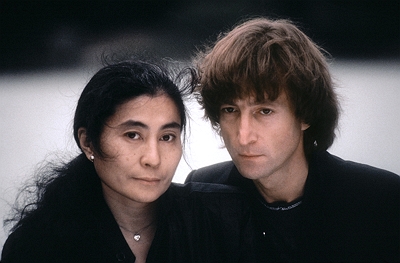 Джон
Уинстон Леннон родился 9 октября 1940 года в Оксфордском родильном доме
Ливерпуля. Его отец Альфред — моряк на торговых судах — покинул семью вскоре
после рождения сына. Мать Джулия оставила Джона на попечение своих сестер.
Джон
Уинстон Леннон родился 9 октября 1940 года в Оксфордском родильном доме
Ливерпуля. Его отец Альфред — моряк на торговых судах — покинул семью вскоре
после рождения сына. Мать Джулия оставила Джона на попечение своих сестер.
Леннон был трудным ребенком — сообразительным, самостоятельным, непослушным. Джон с ранних лет научился играть на пианино, аккордеоне и гитаре. Успех пришел к нему после знакомства с Полом Маккартни и образования ансамбля «Битлз».
У Леннона было много поклонниц. Фортуна улыбнулась Синтии Пауэлл: в нужный момент она забеременела и превратилась в миссис Леннон. Несмотря на рождение сына Джулиана, счастья в семье не было. Преданная жена Синтия была глубоко несчастна. «Наш разрыв начался тогда, когда разрушительное действие конопли и ЛСД вторглось в нашу жизнь», — вспоминала она. Синтия готовила еду, к которой Джон не притрагивался, пыталась говорить с ним, хотя и не получала ответа.
9 ноября 1966 года, как раз в тот день, когда продюсер Брайан Эпстайн публично заявил о том, что «Битлз» прекращают свою гастрольную деятельность, Джон Леннон познакомился с японкой, одетой во все черное. Ее звали Йоко Оно («Дитя океана»), и была она художницей-модернисткой. Их встреча стала началом самой яркой и самой шумной любовной истории эпохи рок-н-ролла.
Йоко была на семь лет старше Леннона. Ее отец — преуспевающий японский банкир, мать происходила из очень знатной семьи. Йоко окончила один из лучших американских колледжей и занималась современным искусством. В двадцать три года она вышла замуж за композитора Тоси Итиянаги, но сделала это против воли родителей, за что была лишена наследства. Брак продлился семь лет. Ее вторым мужем стал художник Тони Кокс. У них родилась дочь Киоко. В 1966 году Коксы прибыли в Лондон.
Йоко Оно, тщетно пытавшаяся добиться признания в артистических кругах, устроила в лондонской галерее «Индика» претенциозную выставку «Картины и предметы». Джон Леннон получил приглашение на предварительный просмотр.
Словесная пикировка в «Индике» длилась считанные минуты, но и Йоко, и Джон почему-то долго вспоминали мимолетное знакомство: «Это было так славно!»
Йоко попыталась снова увидеть Джона и убедить его финансировать другую выставку, но ей не удалось проскочить мимо охраны. Другой ее шаг оказался более удачным. Она послала Леннону книгу «Грейпфрут», написанную три года назад. Почти каждый день Йоко отправляла Джону открытки с шутливыми наставлениями: «Дыши», или «Смейся целую неделю», или «Стукнись головой об стену». Она считала себя равной Джону во всем и требовала равных с ним прав.
В апреле 1968 года Леннон, воспользовавшись отъездом жены на отдых в Грецию, пригласил Йоко Оно к себе в гости.
Когда Синтия вернулась в Уэйбридж, она обнаружила, что Джон и Йоко удобно устроились в ее доме и в ее постели. «Как будто меня больше не существовало», — возмущалась Синтия.
После апрельской ночи Оно и Леннон стали неразлучны. Когда Пол, Джордж и Ринго собрались в студии для работы, то в изумлении обнаружили Йоко, которая сидела за пультом, слушала, наблюдала, отпускала нелестные замечания. Джон, уверовав, что прежняя жизнь душит его, уже не мыслил будущего без японки. Стоило ей приболеть, как он требовал, чтобы ее кровать перенесли в студию, где он записывался.
Леннон развелся с Синтией на основании своей супружеской измены, выплатив ей сто тысяч фунтов.
В декабре 1968 года Джон и Йоко выпускают пластинку «Двое девственников». Разыгрывается грандиозный скандал. На конверте Джон и Йоко изображены нагими.
Маккартни страшно возмутился. Мало того, что альбом нарушал правила приличия, он мог еще нанести значительный вред новой пластинке «Битлз» под названием «Белый альбом». Но это вовсе не трогало Леннона. Маккартни пришел в ужас, но он был бессилен помешать этому. Пол попытался поговорить с Ленноном, но у него ничего не вышло. С самого начала Пол отнесся к этой странной японке как к обычному очередному чудачеству Леннона. Он даже не особо возражал, когда Джон, нарушив основное правило «Битлз», привел ее в студию звукозаписи на Эбби-роуд. Но Йоко надолго вошла в жизнь Джона.
Леннон искал подходящее место для женитьбы на Йоко с февраля 1969 года, с того момента, когда с Виргинских островов пришло от Кокса свидетельство о разводе. В марте в Гибралтаре Джон и Йоко оформляют свои отношения. Шафером у них был Питер Браун.
Молодожены начинают знаменитую кампанию под названием «В постели против агрессии во Вьетнаме», сначала в амстердамском отеле «Хилтон», затем перед кафедральными соборами Англии, и, наконец, снова в «Хилтоне», но на сей раз в канадском городе Торонто.
Они решили превратить свой медовый месяц в «паблисити за мир», как говорил Леннон. «Генри Форд знал, как продавать автомобили с помощью рекламы. Я и Йоко "продавали" мир. Многим это казалось смешным, но многие начинали задумываться», — вспоминал впоследствии Леннон.
В 1970 году «Битлз» выпускают свой последний альбом — «Эбби-роуд». Он был записан в рекордно короткий срок. Работа спорилась, как в далекие годы гармонии и расцвета. Но как только работа над «Эбби-роуд» закончилась, Джон Леннон объявил потрясенным друзьям: «Мне скучно. Я подаю на развод». Вместе с Йоко он собирался обосноваться в США.
Но администрация президента Никсона рассматривала Джона Леннона как внутреннего врага. Приближалась очередная избирательная кампания, а в администрации знали, что вскоре Леннон отправится в антивоенное турне. В том, что оно станет антипрезидентским, не сомневался никто. Против певца и его подруги было затеяно дело о депортации.
Йоко Оно была жесткой женщиной. Лучшие адвокаты страны, бесконечные судебные заседания, участие в респектабельных благотворительных концертах... В течение четырех лет Леннон и Оно вели изнурительную борьбу против насильственной депортации из Америки. Шум, поднятый в мировой печати, грандиозная популярность Леннона и виртуозное искусство его адвоката Леона Уайлдса помешали иммиграционным властям депортировать певца из Америки.
На вопрос, стоило ли бороться с иммиграционными властями, Джон Леннон отвечал, что стоило, и в качестве оправдания кивал на сына. Шон Леннон родился 9 октября 1975 года — в тот же день, что и его знаменитый отец. «Мы с ним близнецы», —говорил Леннон-старший. Потом Джон с улыбкой скажет, что именно так он и планировал.
Иметь сына было навязчивой идеей Джона и Йоко. Врачи говорили им, что это невозможно, что частые преждевременные роды и аборты Йоко и увлечение Джона наркотиками и алкоголем подорвали их здоровье. Долгое время все их усилия оказывались тщетными, пока судьба наконец не смилостивилась над ними.
Супруги хотели, чтобы малыш родился дома, на глазах у Леннона, но жизнь распорядилась иначе — ослабевшую Йоко забрали в больницу, сделали кесарево сечение и почти две недели продержали в палате.
В течение пяти лет — с рождения сына и почти до самой смерти — Леннон полностью отошел от всяких дел. Как писал ведущий американский музыкальный критик Джим Миллер, «Леннон стал первой и пока что последней, единственной суперзвездой, которая добровольно отказалась от своего звездного статуса».
Ленноны были странной семьей: с присущим ей напором Йоко вращалась в деловых кругах, а молодой отец вел домашнее хозяйство. Для сына Джон купил ферму в часе полета от Нью-Йорка: «Мальчик должен расти в естественных условиях среди животных».
Йоко вела его дела, руководила граммофонными и издательскими компаниями «Эппл»и «Маклин», занималась помещением капитала и приобретением недвижимости, участвовала в скотоводческих торгах и в совещаниях с юристами...
В 1980 году Леннон вышел из своего заточения. У него было много творческих планов. 9 октября Джон говорил: «Мой новый альбом о сегодня и завтра. Я как бы веду беседу с поколением, выросшим и мужавшим вместе со мной. Я как бы окликаю его: я — о'кей, а как идут ваши дела? Как вы прошли сквозь все это? Да, тяжелыми были семидесятые, как отрава. Но ничего, мы выжили. Давайте же сделаем восьмидесятые прекрасными! В конце концов это от нас зависит, какими они будут...»
«Я никогда не видел Джона таким счастливым, как в последний день его жизни», — вспоминает продюсер Леннона Дэвид Геффен. Работа спорилась в этот декабрьский день на «Фабрике пластинок», где Леннон и Оно записывали свой второй диск — «Молоко и мед». Джон был в приподнятом настроении, строил планы на будущее. Он говорил, что собирается совершить кругосветное путешествие с «Двойной фантазией», а затем записать «с натуры» еще один альбом песен и передать весь гонорар от него в пользу престарелых граждан.
На следующий день Джон и Йоко собирались лететь в Сан-Франциско, чтобы принять участие в демонстрации протеста, которую должны были провести рабочие азиатского происхождения, требующие равной оплаты труда.
Последняя песня, которую записали в тот декабрьский день Джон и Йоко на «Фабрике пластинок», прежде чем отправиться домой в готическую «Дакоту», называлась «Тонкий лед»...
Жена предложила поужинать где-нибудь в городе, но усталый Леннон решил ехать прямо домой. Лимузин студии подвез их к «Дакоте», старому роскошному дому на пересечении 72-й стрит и авеню Сентрал-парк Вест, где живут многие известные представители артистического мира Нью-Йорка.
Леннон вышел из машины и направился к подъезду — массивным витым железным воротам, когда кто-то окликнул его: «Мистер Леннон!»
Джон оглянулся. Раздались выстрелы. Первый пробил навылет грудную клетку и левое легкое жертвы. Затем последовало еще три выстрела.
Вызванные швейцаром полицейские не стали дожидаться «скорой помощи», уложили в свой автомобиль истекающего кровью Леннона, усадили рядом с ним бившуюся в истерике Йоко Оно и помчались в Госпиталь имени Рузвельта. Но Леннон скончался по дороге.
Ровно два месяца назад — 9 октября 1980 года — Джону Леннону исполнилось сорок лет...
Суд установил имя покушавшегося. Им оказался некто Марк Дэвид Чэпмен, двадцатипятилетний частный детёктив.
На шестой день после кремации Джона Леннона его почитатели по всему миру объявили в память о погибшем музыканте десять минут молчания. Певец и композитор Элтон Джон дал концерт в Мэдисон Сквер Гардене, посвященный Леннону.
После смерти все состояние Леннона досталось Йоко
Оно. Арт-галереи проводили выставки Йоко, но интерес к ним падал с каждым годом.
Йоко утешала себя, покупая меха от Фенди (а ведь когда-то Оно заставила Джона
стать активистом движения «зеленых») и драгоценности от Картье (в свое время
дети цветов восставали против буржуазности). Когда расходы выходят за рамки
запланированных, Йоко распродает вещи Джона...
 О
том, как она познакомилась с Владимиром Высоцким, французская актриса Марина
Влади рассказала в своей исповедальной книге «Владимир, или Прерванный полет».
О
том, как она познакомилась с Владимиром Высоцким, французская актриса Марина
Влади рассказала в своей исповедальной книге «Владимир, или Прерванный полет».
«На сцене неистово кричит и бьется полураздетый человек. От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Сцена наклонена под углом к полу, и цепи, которые держат четыре человека, не только сковывают пленника, но и не дают ему упасть. Это шестьдесят седьмой год. Я приехала в Москву на фестиваль, и меня пригласили посмотреть репетицию "Пугачева", пообещав, что я увижу одного из самых удивительных исполнителей — некоего Владимира Высоцкого. Как и весь зал, я потрясена игрой, отчаянием, необыкновенным голосом актера. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени. Все, кто был в зале, аплодируют стоя.
На выходе один из моих друзей приглашает меня поужинать с актерами, исполнявшими главные роли в спектакле. Мы встречаемся в ресторане ВТО — шумном, но симпатичном. [...]
Краешком глаза я замечаю, что к нам направляется невысокий, плохо одетый молодой человек. Я мельком смотрю на него, и только светло-серые глаза на миг привлекают мое внимание.
Но возгласы в зале заставляют меня прервать рассказ, и я поворачиваюсь к нему. Он подходит, молча берет мою руку и долго не выпускает, потом целует ее, садится напротив и уже больше не сводит с меня глаз. Его молчание не стесняет меня, мы смотрим друг на друга, как будто всегда были знакомы. Я знаю, что это — ты. Ты совершенно не похож на ревущего великана из спектакля, но в твоем взгляде чувствуется столько силы, что я заново переживаю все то, что испытала в театре. А вокруг уже возобновился разговор. Ты не ешь, не пьешь — ты смотришь на меня.
"Наконец-то я встретил вас". Эти первые произнесенные тобой слова смущают меня, я отвечаю тебе дежурными комплиментами по поводу спектакля, но видно, что ты меня не слушаешь. Ты говоришь, что хотел бы уйти отсюда и петь для меня».
Остаток вечера они провели у Макса Леона, корреспондента «Юманите». Высоцкий сидел у ног Марины и пел под гитару. Он объяснил Влади, что театр — его ремесло, а поэзия — его страсть. И тут же, безо всякого перехода признался актрисе в любви.
На следующий день знакомство Высоцкого и Влади продолжилось в пресс-баре гостиницы «Москва», где проходил заключительный банкет. Владимир без конца приглашал французскую гостью танцевать и на протяжении всего вечера никому из присутствующих не позволял отнять у него партнершу.
Но они должны расстаться. Марина Влади возвращается во Францию, где у нее работа и дети.
Высоцкий посвятил ей проникновенные строки:
Не сравнил бы я любую с тобой —
Хоть казни меня, расстреливай.
Посмотри, как я любуюсь тобой, —
Как Мадонной Рафаэлевой.
В дальнейшем таких поэтических признаний будет немало.
Проходит время. Влади получает нежное письмо из Москвы. Потом в ее квартире раздается телефонный звонок. «Я слышу теплый тембр твоего голоса и русский язык, напоминающий мне об отце, которого я обожала, — и от всего этого у меня ком в горле. После разговора я кладу трубку и реву». "Ты влюблена, моя девочка", — говорит мама. Я стараюсь найти другое объяснение — много работы, устала, но в глубине души понимаю, что она права: я жду не дождусь встречи с тобой».
В июне 1968 года Марина Влади вступает в коммунистическую партию Франции и вскоре приезжает в Москву для участия в фильме Сергея Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа».
Высоцкий в это время снимается в Сибири. Вернувшись в столицу, он сразу находит Марину и без предисловий заключает ее в объятия. Однажды он посмотрел фильм «Колдунья» с участием Влади и сразу в нее влюбился. Когда в 1965-м она приехала на фестиваль в Москву, Владимиру не удалось с ней встретиться. По несколько раз в день он ходил в кино смотреть хронику, чтобы увидеть Марину хотя бы на экране. Он и представить себе не мог, что однажды не только увидит ее совсем близко, но и заключит ее в свои объятия. Из всей этой мистической истории Высоцкий делает вывод: «Во всяком случае, теперь-то я знаю, что ты станешь моей женой». Он говорит Марине, что жизнь без нее для него не имеет смысла.
К этому времени Влади побывала замужем, и не один раз, родила троих сыновей. Владимир впервые женился во время учебы в Школе-студии МХАТ на студентке Изе Жуковой. Его второй супругой стала киноактриса Людмила Абрамова. Она родила ему сыновей Аркадия и Никиту...
Высоцкий и Влади много времени проводят вместе. Наконец происходит решительное сближение. Однажды вечером Марина просит гостей оставить их одних.
«Закрыв за ними дверь, я оборачиваюсь и смотрю на тебя. В луче света, идущем из кухни, мне хорошо видно твое лицо. Ты дрожишь, ты шепчешь слова, которых я не могу разобрать, я протягиваю к тебе руки и слышу обрывки фраз: "На всю жизнь... уже так давно... моя жена!"
Всей ночи нам не хватило, чтобы до конца понять глубину нашего чувства. Долгие месяцы заигрываний, лукавых взглядов и нежностей были как бы прелюдией к чему-то неизмеримо большему. Каждый нашел в другом недостающую половину. Мы тонем в бесконечном пространстве, где нет ничего, кроме любви. Наши дыхания стихают на мгновение, чтобы слиться затем воедино в долгой жалобе вырвавшейся на волю любви.
Нам по тридцать лет, у нас большой опыт жизни — несколько жен и мужей, пятеро сыновей на двоих, профессиональные успехи и неудачи, взлеты и падения, слава. А мы очарованы друг другом, как дети, впервые узнающие любовь.
Ничто и никогда не сотрет из памяти те первые минуты бесконечной близости. На третий день на рассвете мы уходим из этого доброго дома. Мы вместе отныне и во веки веков».
Они перебрались к матери Высоцкого Нине Максимовне, в ее двухкомнатную квартирку в Новых Черемушках. Мама работает архивариусом, уходит из дома очень рано и приходит только вечером. Влюбленные наконец одни.
Марина готовит, убирает, стоит на холоде в очередях за продуктами. У Владимира много приятелей среди директоров гастрономов, которые оставляют ему дефицит: парное мясо, копченую рыбу, свежие фрукты...
Высоцкий много работает: утром уезжает в театр на репетицию, днем снимается или дает концерт, вечером играет спектакль, а ночью пишет стихи и под утро читает их Марине. Со сцены он бросает ей знаменитые слова из спектакля «Послушайте!» Маяковского: «Нам тридцать лет, полюбим же друг друга...»
Но Марине пора возвращаться в Париж. Она покидает Москву, прожив здесь около года.
Как только Влади приезжает к себе в Мэзон-Лаффит, звонит телефон. Это Высоцкий. Он читает ей стихи:
Мне каждый вечер зажигает свечи,
И образ твой окуривает дым,
И не хочу я знать, что время лечит,
Что все проходит вместе с ним...
В начале июля 1969 года в Москве проходил очередной Международный кинофестиваль. Марина Влади, совместив приглашение на фестиваль, дубляж фильма по Чехову и туристическую поездку, получила вид на жительство на несколько недель. Владимир безмерно счастлив.
Но в один из фестивальных дней сопровождавшего Влади Высоцкого бдительный контролер не пустил в автобус с артистами. Он остался один на тротуаре...
Домой он вернулся поздно ночью совершенно пьяный. А ведь друзья предупреждали Марину: не давай ему пить, иначе будешь кусать себе локти.
Вспоминая события того дня, Влади пишет: «Через некоторое время, проходя мимо ванной, я слышу стоны. Ты нагнулся над раковиной, тебя рвет. Я холодею от ужаса: у тебя идет кровь горлом, забрызгивая все вокруг. Спазм успокаивается, но ты едва держишься на ногах, и я тащу тебя к дивану».
Влади тут же вызывает врачей, но те, приехав и обследовав Высоцкого, наотрез отказываются увозить его с собой. «Слишком поздно, слишком большой риск», — говорят они. Но Влади в ответ грозит врачам устроить международный скандал. Этот аргумент оказывается решающим.
Высоцкого привозят в Институт скорой помощи имени Склифосовского и тут же направляют в операционную. Влади шестнадцать часов ждет в коридоре, прежде чем доктор скажет ей: «Было очень трудно. Он потерял много крови. Если бы вы привезли его на несколько минут позже, он бы умер. Но теперь — все в порядке».
Марина еще не раз будет спасать возлюбленного. Где бы ни находилась — в Париже, Москве, — она бросала все дела и мчалась туда, где Владимир «входил в пике». Об этом Влади пишет в своей книге: «А иногда мне звонят из другого города, откуда-нибудь из дальнего уголка Сибири или из порта, где стоит корабль, на котором ты оказался. Если, несмотря на то что я — иностранка, мне туда можно приехать, я еду. Если нет — я жду, пока твои приятели привезут тебя. И вот тогда начинается самое трудное: я запираюсь с тобой дома, чтобы отнять тебя от бутылки».
В Москве они снимают комнату в районе станции метро «Аэропорт». На какое-то время Высоцкий приходит в душевное и физическое равновесие, старается писать.
Жизнь налаживается. Владимир щеголяет в модной одежде, по три раза в день меняет куртки. И главное — он просто упивается музыкой: Марина привезла проигрыватель. Они без конца ставят «Порги и Бесс», Армстронга и Эллу Фитцджеральд.
1 декабря 1970 года Высоцкий и Влади официально оформили свои отношения в ЗАГСе, причем расписались в кабинете заведующей. Сразу после бракосочетания они отправились на теплоходе «Грузия» в свадебное путешествие по маршруту Одесса — Сухуми — Тбилиси.
В начале совместной жизни Высоцкий мечтал о ребенке. Но Марина была против: «Наше положение, и без того трудное, было бы совершенно невыносимым, если бы между нами было маленькое существо. Он был бы не связью, а препятствием, он воплотил бы в своем существовании все противоречия, которыми мы болели. Мотаясь между Востоком и Западом, он никогда не смог бы найти своих настоящих корней».
Благодаря жене он побывал во многих странах, увидел мир. В США на устроенной в его честь вечеринке присутствовали голливудские знаменитости: Минелли, Де Ниро, Хадсон, Ньюмен, Пек...
В Москве Высоцкий и Влади купили кооперативную квартиру на Малой Грузинской. Но прежде чем въехать в нее, супругам пришлось пожить в квартире друга Высоцкого и его коллеги по театру Ивана Дыховичного (он тогда только что женился на дочери члена Политбюро Дмитрия Полянского).
Вскоре Высоцкий начинает принимать наркотики. К старой болезни прибавится новая — еще более страшная и неизлечимая.
В апреле 1977 года Высоцкого положили в Институт Склифосовского. Положение его было настолько серьезным, что он не узнал приехавшую жену. Доктора сказали ей, что если Высоцкий еще раз «сорвется» подобным образом и не умрет, то на всю жизнь останется умственно неполноценным человеком.
Между тем отношения Высоцкого и Влади заметно ухудшились. На смену любви и искренности, которые были характерны для них обоих в первые годы супружества, пришли усталость и раздражение от общения друг с другом. Об этом пишет Влади: «Я отношу твое охлаждение ко мне за счет усталости, обычной для супружеской пары, прожившей вместе больше десяти лет. Я не знала тогда, что это — из-за морфия. И главное — ты, очевидно, отчаялся выжить, и это было как бы высшим отказом существа, готовящегося уйти из жизни. Я узнаю — потому что все в конце концов узнается — о твоих многочисленных изменах. Просто больная от ревности, я не понимаю того, что все это — отчаянные попытки уцепиться за жизнь, доказать себе самому, что ты еще существуешь. Я не слышу того, что ты пытаешься мне сказать. Это — тупик. Ты кричишь о главном, я вижу лишь то, что на поверхности. Ты стонешь о своей любви, я вижу только измену».
Сценарист и писатель Эдуард Володарский говорил в интервью: «Марина стала его угнетать. Он уже изнемогал от властности ее натуры. В том, как они вели себя раньше и потом, была большая разница. Раньше они все время старались быть вместе — прикоснувшись друг к другу. Стоило ему на минуту исчезнуть, как она начинала шарить глазами — где он? И он вел себя так же. В последние годы он мог ее не встретить из Парижа. После домашних разборок приезжал к нам ночью в разорванной рубашке. Была еще одна причина — появилась другая женщина, и он о ней думал больше, чем о Марине».
1979 год начался для Высоцкого с гастролей по США — его пригласил выступить у себя ряд колледжей. В Нью-Йорке во время знаменитой передачи Си-би-эс «Шестьдесят минут» Владимир Семенович говорил: «Уехать из России? Зачем? Я не диссидент, я — артист... Я работаю со словом, мне необходимы мои корни, я — поэт. Без России я — ничто. Без народа, для которого я пишу, меня нет. Без публики, которая меня обожает, я не могу жить. Без их любви я задыхаюсь. Но без свободы я умираю».
30 мая 1980 года Марина Влади, которая только несколько недель назад узнала от Высоцкого, что он принимает наркотики, забирает его на юг Франции, в домик своей сестры. Но уже 11 июня он улетает в Москву. Живым своего мужа Влади больше не увидит.
23 июля состоялся последний телефонный разговор супругов. Он говорит, что «завязал», что скоро они вновь увидятся и он уже купил билет на 29 июля.
Владимир Высоцкий умер ранним утром 25-го. Его похороны прошли при огромном стечении народа, несмотря на то что во время Олимпиады Москва была закрытым городом. Актер Валерий Золотухин утверждает, что Марина Влади хотела забрать его сердце с собой во Францию...
Марина Влади после смерти Высоцкого и одного из
сыновей несколько лет жила одна. Затем вышла замуж за известного врача-онколога
Леона Шварценберга...
 Хиллари
Клинтон называют самой влиятельной хозяйкой Белого дома в истории Соединенных
Штатов. Друзья Хиллари подчеркивают: «Она знает, чего хочет и как этого можно
добиться».
Хиллари
Клинтон называют самой влиятельной хозяйкой Белого дома в истории Соединенных
Штатов. Друзья Хиллари подчеркивают: «Она знает, чего хочет и как этого можно
добиться».
Хиллари и ее муж Билл Клинтон вместе вкладывали средства в профессиональную карьеру. Они дополняют друг друга по характеру. Без поддержки супруги Билл Клинтон никогда бы не выставил свою кандидатуру на президентских выборах. Во время предвыборной борьбы 1992 года он говорил: «Если меня выберут президентом, то между супругой и мной будет беспримерное партнерство, еще более сильное, чем это было между Франклином Делано Рузвельтом и Элеонорой Рузвельт».
Хиллари Родэм родилась 26 октября 1947 года в Чикаго. Ее родители — выходцы из Англии и Уэльса. Отец, Хьюго Родэм, продавец из Чикаго, который основал потом небольшое текстильное предприятие. Мать, Дороти Родэм, воспитывала троих детей.
В 1965 году Хиллари поступила в женское высшее учебное заведение — Веллесли-колледж и окончила его в числе лучших. Изучая юриспруденцию в Йельском университете, Хиллари была сторонницей демократической партии. Профессора вспоминают о ней как об интеллигентной, умной и прилежной студентке.
В один из вечеров 1970 года Хиллари, как обычно, сидела в библиотеке над книгами. Вдруг она заметила студента, пристально смотревшего на нее. В конце концов Хиллари не выдержала и сказала ему: «Послушай, если ты не перестанешь пялиться на меня, я повернусь к тебе спиной. Или, может быть, нам стоит познакомиться? Меня зовут Хиллари Родэм». Студента это так ошеломило, что он забыл назвать свое имя. Это был Билл Клинтон.
Когда он впервые увидел ее, она была для него «сумасбродкой на двух ногах». Хиллари, отвечая на вопрос, что привлекло ее в нем, сказала: «Он меня не боялся».
Уильям Джефферсон Блайт родился 19 августа 1946 года в Хоупе, Арканзас. Еще до его рождения в результате несчастного случая погиб его отец. Через четыре года мать вышла замуж за торговца автомобилями Роджера Клинтона, фамилию которого пасынок официально принял в 15-летнем возрасте. Билл был честолюбив и хорошо учился. Он стал спикером учеников и руководителем школьного джаз-оркестра (играл на саксофоне).
Ключевым событием в его жизни стала встреча с президентом Джоном Кеннеди, когда он как делегат национальной молодежной организации в июле 1963 года удостоился чести пожать руку президенту в Вашингтоне. По признанию Клинтона, это посещение Белого дома произвело на него глубокое впечатление и способствовало решению самому стать политиком.
Билл учился в престижном католическом университете Джорджтаун в Вашингтоне. Стипендия Роде позволила ему продолжить образование в Оксфордском университете (Англия). По возвращении в США Клинтон поступил в юридическую школу Йельского университета. Здесь и произошло его знакомство с Хиллари Родэм.
В 1972 году, еще студентами, они поехали в Техас, чтобы возглавить предвыборную кампанию демократа Джорджа Мак-Гавена. Эта работа сблизила молодых людей.
Через два года Хиллари переехала в Вашингтон. Она работала в юридической комиссии палаты представителей, которая готовила обвинительный акт против президента Ричарда Никсона, замешанного в деле «Уотергейт».
Билл вернулся в Арканзас, где безуспешно добивался места в конгрессе. Он предложил Хиллари приехать к нему. Прежде чем дать ответ, Родэм объездила юридические фирмы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Чикаго, чтобы определить, сколько она потеряет, если не будет сотрудничать с известными юристами. Потери будут незначительными, так решило ее сердце. В 1974 году она переехала в Арканзас. Вначале преподавала право в университете Арканзаса, а затем перешла в юридическую фирму «Роуз Лоу Фирм».
11 октября 1975 года Клинтон и Родэм поженились. Биллу было в то время 29 лет, Хиллари — 28. На церемонии венчания присутствовало человек двадцать, но на свадебное торжество собралось более ста гостей. В свадебное путешествие молодая пара отправилась в Акапулько, в Мексику.
Вскоре супруги переехали в столицу Арканзаса, Литл-Рок, где Билл стал генеральным прокурором штата. Его необычайная энергия и выдающиеся интеллектуальные способности стали основой блестящей политической карьеры. В 1978 году Клинтон успешно баллотировался на пост губернатора Арканзаса. В возрасте 32 лет стал самым молодым губернатором в истории Соединенных Штатов. Хиллари сопровождала его в поездках вовремя предвыборной гонки, изъездив Арканзас вдоль и поперек. Супруги вместе разрабатывали стратегию предвыборной кампании.
В 1980 году Хиллари родила «гениального ребенка», как она обычно говорила. Челси Виктория появилась на свет на три недели раньше срока, после кесарева сечения. Хиллари утверждала, что преждевременные роды наступили лишь потому, что она как адвокат была слишком эмоциональна на процессе о праве опеки.
Но рождение ребенка не могло заставить Хиллари отказаться от карьеры юриста. Она вошла в число ста самых влиятельных юристов Соединенных Штатов.
Хиллари старалась как можно больше времени уделять воспитанию Челси. Признанием ее общественной деятельности было звание «Молодая мать года», которого она удостоилась в 1984 году в Арканзасе.
Свободное время Клинтоны любят проводить на кухне или у рояля. Все трое владеют инструментом, но, как говорит Хиллари, «ни один из нас не преуспевает в этом». Охотно они играют в карты. Отпуск Клинтоны обычно проводят все вместе.
Когда 3 октября 1991 года Клинтон выставил свою кандидатуру на пост президента, он уже создал себе имя одного из лидеров «новых демократов». Хиллари вошла в узкий круг его советников. Республиканцы так язвительно атаковали Хиллари, что Билл Клинтон открыто заявил: «Можно подумать, что Джордж Буш борется за пост "первой леди" Америки».
Челси Клинтон училась в восьмом классе школы, когда ее отец победил на президентских выборах. Родители старались избавить ее от забот предвыборной гонки. Это время она провела у дедушки и бабушки, которые ограждали ее от назойливой прессы.
Президент поручил своей жене руководство рабочей группой, ответственной в Белом доме за реформы здравоохранения, и отвел ей этим самую важную и влиятельную функцию, которую когда-либо официально осуществляла «первая леди».
Супруги начали устанавливать свои порядки в Белом доме. Во всех помещениях было запрещено курить. Клинтоны никогда не курили. Французскую кухню сменила не такая изысканная американская. Хиллари вновь ввела брокколи: «Мы любим брокколи. Мы вообще охотно едим овощи и фрукты».
Клинтонам нравилось обедать на кухне. К этому они привыкли в губернаторской резиденции в Литл-Роке. Когда этот обычай они хотели ввести в Белом доме, персонал заволновался.
Воспитывая Челси, Хиллари не забывала совет Жаклин Кеннеди: «Держите всех подальше от жизни своих близких». В период скандалов вокруг четы Клинтонов Челси внесла свою лепту в умиротворение отношений, появляясь на людях в образе милого пухлого кудрявого ребенка. Хиллари старалась быть заботливой матерью: делала с дочерью домашние задания, брала с собой за покупками, сама отвозила ее в школу, разрешала встречаться с друзьями. Клинтоны использовали любую возможность, чтобы познакомить Челси с миром. Так, она сопровождала отца в президентских поездках в Африку и Индию.
В первые недели президентства Клинтона Хиллари прозвали вездесущей. Летом 1993 года Америку развеселил следующий анекдот: «Президент Клинтон дал Хиллари дополнительную охрану. Зачем? А если она падет жертвой покушения, то ему придется стать президентом Соединенных Штатов».
В начале президентства Билла Клинтона повсюду ходили слухи о семейных разногласиях президентской четы. Одни рассказывали, что Хиллари бросила в мужа вазу, другие утверждали, что это была Библия, но упоминали и пепельницу. Якобы во время этого семейного скандала кто-то из охраны президента встал перед Хиллари и сказал ей: «Президента мы должны защищать и от вас».
Недоброжелатели не раз обвиняли Хиллари в том, что она оказывает «сильное воздействие» на своего супруга и вмешивается в государственные дела. В ответ «первая леди» говорила, что все решения принимает президент США, а она лишь по возможности помогает ему.
Несмотря на различные споры вокруг ее персоны, миссис Клинтон принимала активное участие во второй предвыборной кампании мужа. В августе 1996 года она присутствовала на съезде демократической партии в Чикаго.
Билл Клинтон победил соперника от республиканской партии Боба Доула и 20 января 1997 года был приведен к присяге на новый срок. За последующие четыре года брак Клинтонов был не раз проверен на прочность. Некая Пола Джонс предъявила президенту иск. Она обвиняла Билла в сексуальных домогательствах по отношению к ней в бытность Клинтона губернатором штата Арканзас. Затем пришла очередь практикантки Белого дома Моники Левински, которая рассказала во всех подробностях об интимных отношениях с президентом. Скандал едва не привел к отставке Билла Клинтона.
Выступая в мэрилендском Гоучер-колледже, Хиллари сказала: «Все обвинения в адрес моего мужа абсолютно лживые. Это очень трудно и больно наблюдать, когда человек, которого ты любишь, о котором заботишься, которым восхищаешься, подвергается столь безжалостным обвинениям... По причинам, которые мне не совсем понятны, в определенных кругах президента считают угрозой определенным идеологическим и политическим позициям. Предпринимаются объединенные усилия подорвать его легитимность как президента, подорвать все то, чего он достиг, атаковать его лично, не сладив с ним политически...»
После скандала с Левински многие из числа «добропорядочных американцев» призывали «первую леди» подать на развод. В ответ Клинтоны купили дом в западном пригороде Нью-Йорка, где собирались вместе жить после переезда из Белого дома.
12 октября 2000 года Клинтоны отметили серебряную свадьбу в одном из самых фешенебельных отелей Нью-Йорка «Ле Сирк». Торжественное мероприятие стало грандиозной рекламной акцией в преддверии выборов в сенат (Хиллари баллотировалась от штата Нью-Йорк).
В ноябре 2000 года она одержала победу на выборах в сенат конгресса США в штате Нью-Йорк. Впервые в истории США супруга главы государства добилась избрания в верхнюю палату парламента. Билл первым поздравил Хиллари с победой, заявив, что «безмерно горд» и что эта победа «одержана в честной борьбе».
В 2001 году Билл Клинтон покинул президентское кресло и Белый дом — «служебную квартиру», в которой он со своим семейством прожил восемь лет. Очередные споры и диспуты об этике разгорелись из-за того, что Клинтон решил увезти с собой подарки, к которым по недоразумению были причислены некоторые предметы из интерьера Белого дома. По окончании разбирательства Клинтоны вернули ковры, диваны и другую мебель. Кресло главы страны занял новый президент, а Белый дом обрел нового хозяина.
Тем временем дочь Клинтонов Челси окончила Стэн-фордский университет в Калифорнии по специальности «История » и начала учиться в Оксфордском университете по специальности «Международные отношения». Она поступила на работу в нью-йоркское отделение крупнейшей британской фирмы McKinsey and Company, занимающейся консалтингом в области менеджмента.
А ее родители предались воспоминаниям. Первой
выпустила мемуары Хиллари. Они назывались «Живая история». И все-таки
воспоминания ее мужа пользовались большей популярностью. Билл Клинтон не обошел
стороной и скандальную историю с Моникой Левински. Экс-президент рассказал, как
им с Хиллари удалось в этой непростой ситуации сохранить семью.
 31
августа 1997 года мировые агентства новостей передали экстренное сообщение: в
автокатастрофе погибла принцесса Диана. Ее смерть потрясла Англию — площадь
перед Букингемским дворцом утопала в цветах, горели поминальные свечи. Тысячи
людей выстаивали по семь часов, чтобы только расписаться в книге
соболезнований...
31
августа 1997 года мировые агентства новостей передали экстренное сообщение: в
автокатастрофе погибла принцесса Диана. Ее смерть потрясла Англию — площадь
перед Букингемским дворцом утопала в цветах, горели поминальные свечи. Тысячи
людей выстаивали по семь часов, чтобы только расписаться в книге
соболезнований...
Леди Диана Френсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года. Она была третьей дочерью виконта Олторпского, графа Спенсера, который был конюшенным в королевской свите. Мать Дианы также происходила из знатного рода.
У графа Спенсера имелось несколько поместий в Англии, самым престижным считалось владение в Сэндрингеме, поскольку находилось рядом с королевской резиденцией. Там Елизавета с семьей обычно встречала Рождество.
Когда Диане было семь лет, родители развелись. Именно в это время девочка стала страдать булимией — гипертрофированным чувством голода.
Чтобы оградить детей от излишних потрясений, их определили в частную школу-пансионат. Потом Диана училась в престижной школе Вест-хит в городке Севеноукс к югу от Лондона. Она увлекалась музыкой и танцами. По окончании заведения получила награду за старание на поприще милосердия и благотворительности.
Менее успешными были два года, проведенные Дианой в швейцарском колледже. Ей совсем не давался французский язык. Зато она прекрасно танцевала, была отменной чечёточницей — в 1976 году выиграла танцевальный конкурс.
Вернувшись в Англию, она по случаю совершеннолетия получила от отца 50 тысяч фунтов, на которые приобрела в престижном районе Лондона Эрлзкорт четырехкомнатную квартиру, сдав в аренду три комнаты подругам по 18 фунтов в неделю — деньги тогда немалые. Молодость не мешала ей быть практичной. К тому же отец дал знать, что теперь она должна сама зарабатывать на жизнь.
Она нанялась «приходящей домработницей» в несколько семей, работала воспитательницей в детском саду.
Как любая девушка, Диана мечтала удачно выйти замуж. Ей было шестнадцать лет, когда она познакомилась с принцем Чарлзом. Поначалу наследник английского престола ухаживал за старшей сестрой Дианы, Сарой Спенсер.
Чарлз Филипп Артур Георг родился 14 ноября 1948 года в семье принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбэттенского, отпрыска немецко-греческой династии. Чарлз стал наследником 6 февраля 1952 года, когда на трон взошла Елизавета II.
Чарлз учился в закрытой школе в Шотландии и в Кембридже. Он окончил университет с дипломом бакалавра по истории, после чего служил во флоте. Получив звание капитана минного тральщика «Бронингтон», он пилотировал истребители в британских ВВС, совершил несколько прыжков с парашютом.
В начале 1970-х годов Чарлз увлекся Камиллой Паркер Боулз. Она была замужем за армейским офицером и имела двоих детей. Поместье Камиллы находилось по соседству с загородной резиденцией принца Хайгроув. Как и Чарлз, она любила охоту и прогулки на лошади.
Принц уже около пяти лет состоял в интимной связи с Камиллой, когда в 1977 году по настоятельному совету отца стал оказывать знаки внимания Диане во время охоты на лосей в поместье лорда Спенсера в графстве Нортгемптоншир.
Спустя несколько месяцев они увиделись в Сэндрингеме. Там Диана выступила в роли наставницы принца, показав, как надо исполнять модный «степ-танец». В августе 1980 года в Балморале они условились о бракосочетании. Тогда у них обнаружилось общее увлечение — рыбалка.
В марте 1981 года Чарлз и Диана впервые предстали перед фотокамерами в Букингемском дворце. В газетах особо отмечался подарок принца невесте: обручальное кольцо с крупным овальным сапфиром в обрамлении 14 бриллиантов.
«Прыжок от воспитательницы детского сада к принцессе Уэльской кружит голову, но, имея принца рядом с собой, я знаю, что все будет в порядке», — заявила Диана репортерам.
Женитьба была для Чарлза лишь исполнением долга перед родителями, перед нацией. «Мне надлежало принять правильное решение — найти человека, с которым мы были бы прежде всего хорошими друзьями. А уж из дружбы постепенно выросла бы и любовь...», — признавался он.
На следующий день «Дейли мейл» вышла под огромным заголовком: «Они любят друг друга!» Серьезные газеты были не менее восторженными. Диана на вопрос журналиста, действительно ли она и Чарлз питают друг к другу сильные чувства, ответила: «Разумеется!» Чарлз был не столь категоричен: «Все зависит, что понимать под любовью...»
Правительство, Маргарет Тэтчер, Букингемский дворец, пресса, телевидение — все объединились в стремлении придать свадебной церемонии блистательный характер.
29 июля 1981 года Диана Спенсер шла к алтарю собора Св. Павла. На церемонии присутствовало более двух с половиной тысяч приглашенных. Среди них — короли Норвегии, Швеции, Бельгии, королевы Дании, Нидерландов, принцесса Грейс из Монако, президенты Франции и ФРГ, премьер Австралии, супруга президента США Нэнси Рейган.
Церемония в соборе длилась 70 минут под аккомпанемент фанфар и духовных гимнов. Не обошлось без накладок. Произнося имя будущего супруга, Диана выговорила имя его отца. Чарлз вместо традиционного «обещаю разделить с тобой все, что мне принадлежит», сказал «разделить с тобой все, что тебе принадлежит». (Кто-то из родственников принца съязвил: «Уж тут-то он не оговорился».) Эти оговорки многие впоследствии принимали за пророчества.
Перед фотокамерами супруги выглядели самыми счастливыми людьми на свете, но их мало что объединяло. Чарлз был на двенадцать лет старше жены и любил верховую езду, охоту, поло, книги. Диана предпочитала танцы. Она чаевничала с прислугой и сплетничала с горничными.
Диана нуждалась в моральной поддержке. Но принц Чарлз был воспитан по-другому. Автор книги о Диане Э. Мортон пишет о том, как прошло для принцессы начало января 1982 года. Она находилась на третьем месяце беременности и чувствовала себя отвратительно, страдала от тошноты, заговаривала даже о самоубийстве. Принц выказывал безразличие, его больше занимали верховые прогулки на лошади.
И вот в один из таких дней Диана с верхней площадки деревянной лестницы бросилась вниз и распласталась на полу. Прибывшую первой королеву-мать затрясло от ужаса. Вызвали врачей. А Чарлз как ни в чем не бывало отправился на прогулку. К счастью, плод у Дианы не пострадал.
Врачи установили у нее состояние хронической депрессии, но принцесса отказывалась от препаратов, ссылаясь на то, что они могут повредить ребенку, которого носила.
Роды были трудными. Врачи подумывали о кесаревом сечении. Все обошлось. 21 июня 1982 года на свет появился сын Уильям.
Его появление стало великим событием для Британии. Монархии было обеспечено еще одно поколение. Все улицы перед госпиталем были запружены людьми, пришедшими «поболеть» за свою любимицу Диану, и когда наконец Англию облетела весть о рождении мальчика, огромная толпа взорвалась криками радости.
После недолгих семейных споров наследнику дали имя Уильям Артур Филипп Луис. Юный Уильям стал наиболее «английским» наследником со времен самой Елизаветы I.
Чарлз обожал сына и отказывался от прогулок, чтобы лично его искупать. А когда Уильям подрос, отец прощал ему шалости, хотя при этом Чарлз ухитрялся оставаться сторонником железной дисциплины и строгости.
15 сентября 1984 года родился второй сын — Гарри. Реакция отца была необъяснимой: «Значит, еще один мальчик, да еще рыжий!»(Фамильная черта Спенсеров.) С этими словами принц удалился играть в поло, а у Дианы, как она признавалась, что-то внутри оборвалось.
Принц отмечал психическую неуравновешенность супруги. Принцессу мучили постоянные приступы булимии, ее тошнило по несколько раз в день, что делало Диану раздражительной.
Чарлз продолжал встречаться с Камиллой Паркер Боулз. Он все чаще приходил домой позднее обычного, иногда вообще не являлся.
Несмотря на стресс, вызванный неверностью супруга, Диана успешно справлялась с обязанностями принцессы Уэльской. Переломным было первое заморское турне с Чарлзом по Австралии и Новой Зеландии вскоре после рождения второго сына. Все фотокамеры были нацелены на нее. «Я здесь, очевидно, за тем, чтобы держать букеты», — бурчал принц.
Публика увидела новую Диану. «Она отправилась в турне девочкой, а возвратилась зрелой женщиной», — писал Э. Мортон. Прошло немного времени, и она стала самой популярной представительницей королевского семейства.
К 1987 году разлад в королевской семье стал достоянием общественности. Чарлз и Диана были не в силах скрывать взаимной неприязни. Официальные приемы, на которых они должны были по этикету присутствовать, отнимали у них массу нервной энергии.
Примерно в это же время Диана сблизилась с майором Джеймсом Хьюиттом, который давал ей уроки верховой езды. В течение трех лет они очень тесно общались. Но после того как они расстались, Хьюитт с помощью журналистки Анны Пастернак опубликовал книгу, где в подробностях рассказывал о своих отношениях с принцессой. Для Дианы появление этой книги было страшным ударом. А «болтливый любовник», как его окрестила пресса, на заработанные на скандальной книге деньги купил дом и открыл конно-спортивную школу.
Во второй половине 1992 года в ходе встреч в замке Балморал Чарлз и Диана договорились о жизни порознь без формального развода: он отправляется в поместье Хайгроув в 160 километрах от Лондона, она с детьми — в апартаменты Кенсингтонского дворца в центре Лондона. За воспитанием Уильяма и Гарри они обязались следить совместно.
В конце декабря Букингемский дворец официально объявил о том, что Чарлз и Диана будут жить отдельно.
Чарлз хотел «тихого» развода: по-английскому законодательству супруги, пять лет прожившие врозь, считаются разведенными. Многие надеялись на примирение: ведь разведенный принц терял шанс стать когда-нибудь королем.
20 ноября 1995 года Диана выступила в одной из самых популярных передач Би-би-си «Панорама ». Оказалось, она с самого начала знала о романе принца с Камиллой Паркер Боулз, который продолжался даже после замужества. «В этом браке нас всегда было трое, — заявила Диана. — Это слишком много».
Принцесса раскритиковала характер Чарлза и сделала прозвучавший сенсационным вывод о его непригодности к занятию престола. Она упомянула о своем старшем сыне Уильяме как достойном наследнике.
После этого выступления развод стал неизбежен. Диана удовлетворилась предложенными условиями развода: выплатой ей 17 миллионов фунтов стерлингов.
Церемония вынесения решения Верховным судом Англии о разводе Дианы и Чарлза состоялась 28 августа 1996 года и заняла лишь несколько минут. Диана появилась перед судьями в бриллиантах, преподнесенных Чарлзом в «медовую пору» брака.
После развода Диана посвятила себя благотворительной деятельности и воспитанию детей. Она выступала за запрещение противопехотных мин и, чтобы привлечь внимание мировой общественности к этой проблеме, посетила Боснию. В июне 1997 года она распродала коллекцию своих платьев — вырученные три миллиона долларов были перечислены в различные благотворительные фонды.
Летом 1997 года в газетах появились сенсационные снимки Дианы в объятиях ее нового возлюбленного — сына египетского миллиардера 42-летнего Доди аль-Файеда. Фотографы гонялись за влюбленными, стараясь запечатлеть счастливое лицо принцессы. Диана улыбалась и в тот день, когда последний раз садилась в машину вместе с Доди. 31 августа 1997 года принцесса и ее жених погибли в автокатастрофе.
После трагической гибели Дианы отношения Чарлза и
его возлюбленной Камиллы стали еще более открытыми...
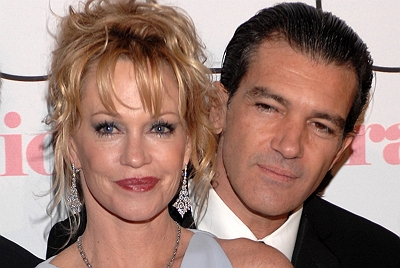 Его
появление в Голливуде в 1992 году некоторые кинокритики сравнивают с вторжением
в Америку испанских конкистадоров. Столь стремительно, как испанец Антонио
Бандерас, редко кто покорял столицу кинематографа.
Его
появление в Голливуде в 1992 году некоторые кинокритики сравнивают с вторжением
в Америку испанских конкистадоров. Столь стремительно, как испанец Антонио
Бандерас, редко кто покорял столицу кинематографа.
Он родился в I960 году в Малаге. Семья была скромного достатка: отец, Хосе, — полицейский, мать, донна Ана, — учительница. В четырнадцать лет Антонио устроился на работу в местный театр. Окончив в 1980 году Национальную школу драматического искусства, он уехал из тихой Малаги в Мадрид.
Бандерас работал официантом, продавцом, бесплатно участвовал в экспериментальных постановках. Наконец его приняли в труппу Национального театра Испании. Здесь он играл все, что предлагали, — от классики до Брехта и американской драмы. В 1982 году после спектакля за кулисы к Антонио заглянул молодой режиссер Педро Альмодовар. Так было положено начало многолетнему сотрудничеству, благодаря которому оба стали звездами мирового кино.
Бандерас уже имел славу донжуана, когда к нему пришла настоящая любовь. Ее звали Ана Леса, она была актрисой. Антонио дарил ей цветы, писал стихи и даже сочинял песни. К радости родителей, они вскоре поженились.
В 1988 году фильм Альмодовара «Женщина на грани срыва» был удостоен чести открывать фестиваль в Каннах. Бандерас сразу стал национальным героем, хотя он сыграл небольшую роль. Картина получила «Оскара », и на церемонии вручения премии Антонио познакомили с Мелани Гриффит, которую раньше он видел только в кино. «На ней было белое платье с жемчугом. Почему-то это отпечаталось в памяти. Но она прошла дальше, а я стал опять глазеть на других звезд. Странное, странное было чувство».
Прошел год. Американский режиссер Глимчер пригласил Бандераса на пробы для картины «Короли мамбо» о братьях-музыкантах с Кубы. Антонио тут же нанял репетитора, чтобы поставить английское произношение.
Он с удовольствием снимался в Америке, с каждым днем все больше влюбляясь в эту страну. И чем успешнее складывалась его карьера в Голливуде, тем больше менялась его жизнь. Сначала Ана Леса повсюду следовала за ним, но один проект сменялся другим, и скоро ей надоела кочевая жизнь. К тому же Америка девушке совсем не нравилась, и она вернулась домой.
Бандерасу предстояло сниматься в фильме «Двое — это слишком» вместе с Мелани Гриффит. «Я с нетерпением ждал новой встречи», — говорил позже Бандерас, подчеркивая, что в течение съемок их отношения с актрисой оставались платоническими.
В 1995 году карьера 38-летней Гриффит шла на убыль, а самое главное — Мелани была уверена, что многочисленные сплетни о ее бурной жизни помешают Бандерасу относиться к ней серьезно. Но горячий испанец сразу влюбился в свою партнершу.
Мелани родилась в актерской семье Питера Гриффита и Типпи Хедрен. Она начала зарабатывать деньги буквально с пеленок, появившись на телеэкранах в рекламе детских товаров в возрасте девяти месяцев. В Голливуде Мелани дебютировала еще подростком. За бьющую через край сексуальность ее прозвали Лолитой.
Первый муж актрисы, Дон Джонсон, любил разгульную жизнь. Второй супруг, Стивен Бауэр, тоже оказался большим любителем наркотиков и алкоголя. Многие в Голливуде прочили конец актерской карьере Гриффит. Неудачи она переживала тяжело — алкоголь, наркотики, нервные срывы...
Однажды актриса едва не попала под машину. После этого чудесного спасения она начала новую жизнь: прошла курс лечения, родила сына Александра. Бауэр же не захотел избавиться от наркотиков, и супруги расстались.
Тогда Гриффит вспомнила о своем первом муже, Джонсоне. Они возобновили отношения. Мелани произвела на свет вторую дочь, Дакоту. Но Дон не остепенился, он по-прежнему уходил в загулы, изменял жене, а дома устраивал безобразные скандалы. Джонсон не был создан для тихой семейной жизни.
Мелани считает, что ей удалось преодолеть свой творческий и личный кризис только благодаря тому, что она встретила Антонио.
Во время съемок «Двое — это слишком» Дон Джонсон навещал жену, а к Антонио приезжала Ана. Бандерас надеялся, что их с Мелани взаимное влечение пройдет, когда фильм будет закончен. «Но этого не произошло. После съемок мы часто перезванивались, потом опять встретились, и вот тут я понял, что по-настоящему влюблен». Об их романе так быстро распространились слухи, что многие посчитали это рекламной уловкой для создания ажиотажа вокруг фильма «Двое — это слишком».
Устав от сплетен, они предстали перед камерами на вручении наград за лучшие видеофильмы в июне 1995 года. «Именно в тот день мы решили, что пора расставить все по местам, иначе пресса с ее домыслами превратит нашу жизнь в полный кошмар», — говорил Бандерас. Они вместе появились на публике, держались за руки и все время целовались.
Фильм «Убийцы» с участием Бандераса снимался в Сиэтле. Как-то в выходные, когда Антонио с Мелани спали вместе, раздался стук в дверь. На пороге стояла Ана — сама обида и гнев. Она умоляла мужа не зачеркивать прожитых вместе лет, говорила, что их связывают кровные узы, что ничего у него с Мелани быть не может. Она умоляла Антонио вернуться в лоно семьи.
Получив выговор за бестактный визит, Ана не собиралась сдаваться. Она заявила испанским журналистам, что ни за что не даст развода. Как раз в это время Бандерас собирался приехать в Испанию и познакомить своих родителей с Мелани. Ему хотелось получить их благословение.
Родственники Бандераса едва поздоровались с Мелани, давая ей понять, что она здесь чужая. Антонио был взбешен таким холодным приемом и поклялся, что не бросит Мелани.
Конечно, он понимал, что скандал вокруг его личной жизни очень тревожит продюсеров. Многое зависело от «Десперадо», первого голливудского фильма с Бандерасом в главной роли. К счастью, картина имела коммерческий успех.
А потом состоялся развод Бандераса с Аной. Отныне свое будущее он связывал с Голливудом и Мелани Гриффит.
Следующая роль Бандераса — Че Гевара в экранизации рок-оперы «Эвита». Антонио встречается на съемочной площадке со своей давней почитательницей Мадонной. Ревнивая Гриффит ни на шаг не отходила от возлюбленного.
В мае 1996 года в Лондоне Антонио и Мелани тихо поженились. Церемония заняла всего 15 минут. А через четыре месяца у них уже родилась дочка Стелла дель Кармен. Несмотря на то что у Гриффит это были третьи роды, ее муж очень волновался.
Бандерас купил дом на берегу Средиземного моря в Марбелье, хотя большую часть времени супруги по-прежнему проводили в Лос-Анджелесе. У них появилась квартира и в Мадриде, где со звездной четой обедал глава правительства Испании Фелипе Гонсалес.
Увы, тихой семейной жизни не получилось. Подробности личной жизни Мелани и Антонио постоянно обсуждались в средствах массовой информации. И хотя Бандерас не раз опровергал слухи о многочисленных романах, которые ему приписывали (особенно роман с Мадонной), испанцу не верили.
В первые годы супружества журналисты изображали их союз в духе трагедии Шекспира. Причем в роли Отелло выступала Мелани, а в роли невинной Дездемоны — Антонио. Любящий супруг только и делал, что клялся жене в вечной любви и отговаривал ее от пластических операций, уверяя, что и без хирургического вмешательства она для него лучше всех.
А потом вдруг роли поменялись. Теперь Бандерас, не принимая во внимание хрупкую психику жены, доводит ее до реабилитационных клиник. Мелани, фактически пожертвовавшая карьерой ради семьи, позволила себе сняться в фильме «Заговор», а муж тут же приревновал ее к Тому Беренджеру, партнеру по картине, закатил скандал и ушел из дома. И все это творилось на глазах их 7-летней дочери Стеллы!
Мелани приходится быть настороже, ведь Бандераса не зря прозвали в Голливуде «латинским любовником». Антонио же в интервью сравнивает жену с «феррари» — «это чудесная машина, она быстрая, очень дорогая и легкая в управлении».
Антонио Бандерас придерживается в браке консервативных взглядов и гордится тем, что он преданный муж и превосходный отец.
Самым важным для себя супруги считают правильное воспитание детей. Оба сознают опасность того, что их отпрыскам приходится расти в мире, далеком от реальной жизни. Поэтому своих детей они стараются брать в поездки по миру.
Антонио и в жизни, и на экране человек очень страстный, взрывной. Иногда это приводит к непредсказуемым последствиям. Что их с Мелани действительно держит вместе, несмотря ни на что, — так это настоящая страсть.
Но не боится ли он, что в один прекрасный день страсть пройдет? «Я об этом не думаю, предпочитаю наслаждаться сегодняшним днем, а не тревожиться по поводу завтрашнего, — отвечает Бандерас. — Конечно, я осознаю, что у меня есть определенные обязанности перед Мелани и перед нашей дочерью, которую я обожаю, но кто может предугадать, как сложится жизнь через пять — десять лет? Тем не менее я просто уверен, что мы останемся вместе, что бы ни случилось.
С первой встречи мы почувствовали сильное физическое влечение друг к другу. Потом наши отношения развивались и углублялись, страсть осталась, но появилась еще и нежная привязанность. Самая интересная штука в браке — это суметь сохранить свою страсть к партнеру. С этой проблемой сталкиваются все супружеские пары. Накал страстей постепенно ослабевает. Но если вы хотите поддерживать свои отношения в браке на должном уровне, вы должны позаботиться о том, чтобы сделать свою интимную жизнь интересной, разнообразной и неожиданной. А потом — у супругов обязательно должно быть время побыть только вдвоем, без посторонних любопытных глаз, чтобы в полной мере насладиться обществом друг друга».
Мелани старше мужа на три года. Она строго
выполняет все требования диетологов, каждое утро купается в холодной воде,
делает зарядку и бегает 40 минут трусцой. И мечтает еще об одном ребенке.
 Сборная
Англии по футболу прилетела в Тбилиси на матч с грузинской командой ранним утром
1996 года. В гостинице, по счастью, оказалось спутниковое телевидение. Когда на
экране запрыгали и запели девушки из группы «Спайс герлз», раздались
восторженные возгласы футболистов.
Сборная
Англии по футболу прилетела в Тбилиси на матч с грузинской командой ранним утром
1996 года. В гостинице, по счастью, оказалось спутниковое телевидение. Когда на
экране запрыгали и запели девушки из группы «Спайс герлз», раздались
восторженные возгласы футболистов.
Ведущий полузащитник Дэвид Бекхэм, указав на высокую брюнетку с хищным взором, неожиданно заявил: «Вот она — девушка моей мечты! И она будет моей во что бы то ни стало!» Никто ему тогда не поверил.
Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм родился в 1975 году в Лейстоуне. Сын инженера-химика и школьной учительницы начал гонять мяч с четырех лет. В четырнадцать его заприметил «охотник за талантами» из клуба «Манчестер Юнайтед» и пригласил в юношескую команду. Дэвид никогда не нарушал режим, всегда приходил первым на тренировки и уходил с поля последним, часами отрабатывая штрафные и угловые удары. Удивительно, что при такой нагрузке у Бекхэма еще находилось время для встреч с девушками.
Первый матч за любимую команду Дэвид сыграл 23 сентября 1992 года. Отлично сыграл. И поэтому уже через 4 месяца ему предложили подписать контракт. Все дни напролет он проводил на футбольном поле. Упорство принесло свои плоды: Дэвид стал лучшим игроком сначала клуба, а потом и всей Англии. Дэвид обзавелся собственным агентом, ради забавы коллекционировал газетные «утки» про себя и жил, кажется, вполне счастливо. Его самая заветная детская мечта — играть в «Манчестер Юнайтед» — сбылась.
И вдруг после одного из матчей он увидел Викторию Адаме. Девушка выбралась на футбол вместе с подругой из «Спайс герлз». Заметив Дэвида, она помахала ему рукой. Однако Бекхэм так растерялся, что подойти к девушке не решился. Виктория через пару минут исчезла в толпе...
Виктория Кэролайн Адаме родилась в 1975 году в Хардфоршире в семье оптового торговца электротоварами. Она с детства мечтала стать звездой. Вики училась в театральной школе, любила выступать, но вне сцены была тихой и замкнутой. «В классе я всегда была изгоем, в школе меня не любили. Я плакала по ночам и говорила себе, что быть самой красивой девочкой в школе не самая важная вещь на свете», — вспоминала потом Виктория. Чуть позже она захотела стать певицей и в конце концов оказалась в «Спайс герлз»...
Ее сближала с мужчинами только любовь к футболу. Она говорила журналистам: «Я читаю все, что пишут об английских футбольных командах. Знаю всех игроков и тренеров. Вы ходили когда-нибудь на матч? Это не развлечение, это нечто!» Позже выяснится, что Адаме пришла на матч «Манчестер Юнайтед» только для того, чтобы посмотреть на Дэвида. Этот парень был ей симпатичен. К счастью, Виктория проявила настойчивость, и в марте 1997 года они все-таки познакомились. Это была любовь с первого взгляда, настоящее стихийное бедствие, которое ничто не могло остановить.
О чем они говорили во время первой встречи, Дэвид и Виктория не помнят. «Но ведь это так важно! — горячился Бекхэм. — Первые мои слова и те, что ты сказала мне...»
На следующий день они вместе обедали в ресторане, потом начали встречаться регулярно. Звездная пара переживала серьезные проблемы из-за своей популярности. Стоило им где-нибудь появиться вместе, их начинали осаждать толпы поклонников. Они не могли даже поесть в ресторане. Бекхэм вынужден был заказывать еду в итальянском ресторанчике и ужинать с Викторией дома.
На вопросы журналистов о ее личной жизни Адаме отшучивалась: «Идеальный мужчина должен быть, во-первых, хорошо одет, во-вторых, должен носить дорогую обувь. Хорошо, если при этом у него еще есть немного денег. Вы видите, что Дэвид полностью отвечает моему идеалу».
Яркая и задиристая на сцене, с имиджем роковой, бессердечной красотки, наедине с Дэвидом Виктория становилась мягкой и смешливой. Психологи утверждают, что когда Дэвид смотрит на Викторию, то видит в ней собственное отражение. У них поразительная схожесть в овале лица, в изгибе бровей, линии тонких губ...
Первенец, Бруклин Джозеф Адаме Бекхэм, родился на пять дней раньше срока — 10 марта 1999 года. Сначала мальчика хотели назвать Манхэттеном в честь района Нью-Йорка, где он был зачат, но потом родители решили, что это слишком длинное имя, и назвали сына Бруклином — в честь другого района города. Дэвид сделал себе во всю спину татуировку — ангел, расправивший крылья над именем «Бруклин», и заказал специальные кроссовки с той же надписью. Кстати, младшего сына супруги назвали Ромео. «Я не хочу, чтобы он в пятнадцать лет умер от несчастной любви, как герой Шекспира, — говорит Бекхэм. — Просто это имя нам понравилось».
Через четыре месяца, 4 июля 1999 года, Дэвид Бекхэм и Виктория Адаме сыграли свадьбу. Новобрачные сняли старинный замок недалеко от Дублина и превратили его в декорацию к диснеевскому мультфильму: слуги в ливреях, трубящие в фанфары, шелковые языки пламени, пажи, и все это — под музыку из «Короля-льва» и «Красавицы и Чудовища». Платье невесте шил королевский портной, украшения изготовил королевский ювелир. На свадьбу Дэвид подарил возлюбленной кольцо за 80 000 долларов США и бриллиантовую корону за 100 000 фунтов.
Гостей, а их было 350, доставили в замок на вертолетах. Выяснилось, что оборотистая Виктория за миллион долларов продала эксклюзивные права на съемку свадьбы одному из журналов.
Элтон Джон написал песню специально к их свадьбе и сам исполнил ее. Медовый месяц молодые провели на острове Бора-Бора.
«Он невероятно милый и чуткий, — рассказывает Виктория о муже. — Каждое утро, перед тем как отправиться на тренировку, Дэвид готовит мне завтрак. Потом заливает в мою машину бензин. У меня такое чувство, что наш медовый месяц еще не кончился».
Однако довольно скоро начались неприятности. Семья стала получать письма, в которых неизвестные угрожали похитить Бруклина. Пришлось нанять двух телохранителей для защиты пятимесячного ребенка.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алек Фергюссон считал, что брак не пошел Дэвиду на пользу. Его любимец стал опаздывать на тренировки, не высыпался и все свободное время говорил по телефону с женой. К тому же Дэвид старался не пропускать концертов «Спайс герлз», где бы они ни проходили.
А когда влиятельная спортивная газета предположила, что в неудачах Бекхэма виновата его молодая жена, ненависть болельщиков тут же переключилась на Викторию. Когда она появлялась на матчах с участием Дэвида, в ее адрес летели оскорбления. Она старалась не обращать внимания на злобные выпады болельщиков.
В октябре 1999 года супруги купили дом. Это было поместье с семью спальнями в десяти минутах ходьбы от дома ее родителей. Когда Бруклину исполнилось десять месяцев, британские полицейские раскрыли заговор, целью которого было похищение малыша и его мамы для получения выкупа в 1 миллион фунтов.
Неудивительно, что после этих ужасов Виктория не могла спать и всего боялась.
Виктория носила сына с собой на репетиции, в магазины и даже в косметические салоны. Когда Виктория выходила на сцену, ее мама сидела в зрительном зале с Бруклином на руках под защитой охранника. Не помогали ни успокоительные, ни сеансы психоаналитиков. Наконец один из них посоветовал Дэвиду: «Ваша жена должна описать свои страхи. Может быть, тогда она от них избавится».
16 сентября 2001 года в продажу поступила автобиография Виктории Адаме «Учусь летать». За книгу Виктория получила гонорар в миллион фунтов стерлингов. После этого Виктория стала гораздо спокойнее. Она по-прежнему много работает. «Иногда я мечтаю о том, как встречу жену в аэропорту, мы поужинаем вместе, а потом посмотрим телевизор и ляжем спать. Но это невозможно», — говорит Бекхэм.
Дэвид сделал жене подарок на Рождество — купил звукозаписывающую студию стоимостью более миллиона фунтов! Гари Барлоу, отличный композитор, согласился поработать с Викторией.
На презентации своего первого сингла Адаме светилась от счастья. «Пришло столько людей, — говорила она маме. — Раньше, на концертах "Спайс герлз", мне казалось, что они пришли посмотреть не на меня — на Эмму, на Джери. Но теперь-то я знаю — меня тоже любят!»
Согласно опросу, Дэвид Бекхэм и Виктория Адаме были признаны самой популярной супружеской парой Великобритании. Дэвид Бекхэм, британский футболист номер один, и Виктория Адаме, солистка самой популярной девичьей группы. Викторию сравнивали с леди Ди — после смерти принцессы таблоиды именно солистку «Спайс герлз» выбрали своей новой героиней. Сына Бруклина фотографировали больше, чем любого другого ребенка на планете.
Под влиянием супруги Дэвид стал уделять повышенное внимание внешности, меняя прически, стиль одежды. Правда, сам Бекхэм объясняет это своим увлечением китайской философией фэн-шуй.
В 2003 году Дэвид Бекхэм перешел в богатейший клуб Европы — мадридский «Реал».
В конце 2003 года он получил орден Британской империи из рук королевы Елизаветы. Церемония награждения проходила в Букингемском дворце. В ней помимо самого Бэкхема приняли участие его жена Виктория, а также дедушка и бабушка. Получая почетную награду, растроганный Дэвид признался, что посвящает ее родному клубу «Манчестер Юнайтед».
«Вся моя семья — это настоящие герои для меня, —
не без пафоса говорит Бекхэм. — Отец, мама, Виктория, Бруклин, Ромео...»