
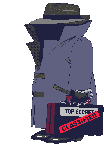
Сергей Устинов - Криминальные повести
1994 г

Сергей Устинов родился в 1953 году в Москве. После окончания филологического факультета Московского государственного педагогического института стал журналистом, спецкором газеты «Московский комсомолец». Автор судебных очерков, статей на морально-нравственные и милицейские темы. В детективном жанре начал работать с 1984 года. Известность ему принесли повести «Можете на меня положиться», «Неустановленное лицо», опубликованные в журнале «Смена».
От автора
Порядочный детектив должен писаться точь-в-точь как «краткий курс истории ВКП(б)». Авторская фантазия бурлит, и по мере развития сюжета в предыдущие главы все время вносятся исправления и добавления, возникают новые герои, а кое-какие старые персонажи, в будущем оказавшиеся ненужными и даже вредными, наоборот, бесследно исчезают. Однако после того как в детективе поставлена точка, отлита последняя строка набора, сброшюрован каждый экземпляр, он, как всякое произведение, становится нетленным памятником. Кратким курсом истории современности. Впрочем, если кто-то возьмется учить наше время по этим учебникам, ему следует смотреть не только за тем, что на страницах есть, но и за тем, что там отсутствует.
Свою первую, как тогда говорили, стараясь избегать буржуазного слова, «остросюжетную повесть» я трепетными руками отнес в самый лучший, самый модный, знаменитый древними традициями и тонкими вкусами молодежной литературы журнал. Спустя месяц мне позвонили оттуда и сообщили, что, во-первых, вещь понравилась, во-вторых, ее будут печатать, а в-третьих, надо прийти, чтобы обсудить кое-какие замечания. И, честно сказать, я настолько ошалел от счастья, что не придал этому третьему пункту никакого значения, просто не обратил на него внимания. А зря.
В отделе прозы меня встретила очаровательная молодая женщина. Уделив минуты три на похвалы творчеству начинающего автора, она перешла к делу. Услышав, что сейчас мне будут преподнесены соображения не только ее собственные, но и редколлегии, я пододвинул к себе лист бумаги, занес над ним ручку и замер, весь — внимание. Этот исписанный дрожащими каракулями листок до сих пор хранится на дне моего архива, и каждый раз, когда он попадается мне на глаза, я не могу глядеть на него без содрогания.
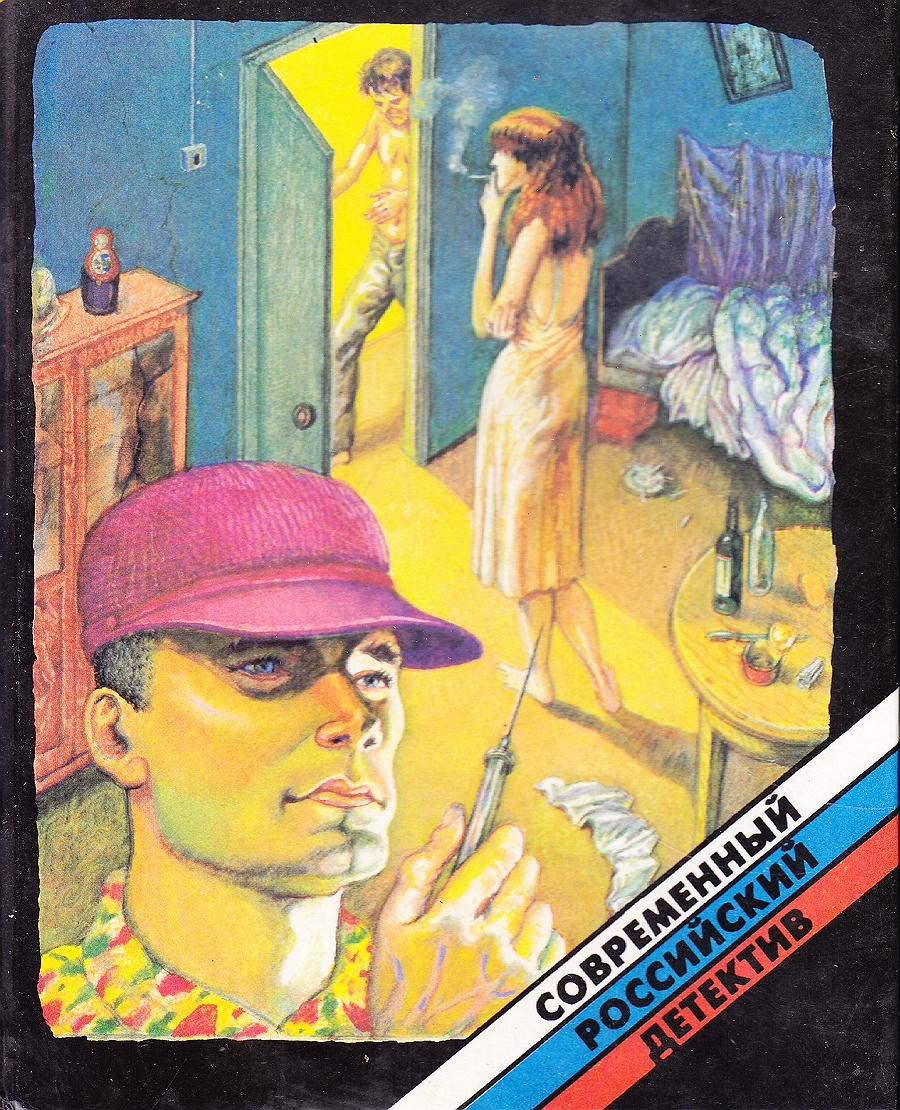
Итак...
Автомобильные гонки со скрипом покрышек по московским улицам придется убрать. Для образцового коммунистического города, как, впрочем, и для журналиста столичной газеты, такие ралли нехарактерны.
Драка в подъезде не годится никуда. Что это за зверские крики, страшные удары ногами, пинки под зад! Драку надо или кардинально переписывать, или, еще лучше, от нее избавляться вовсе. Поверьте, она абсолютно ничего не добавляет вашей в целом неплохой повести.
Сцена в ресторане. М-мм... А нельзя ли без нее? Все-таки речь идет о журналистах из молодежной газеты! Что, если это будет кафе? А еще лучше — пусть они сходят в кино! Подумайте над этим.
Выпивка. Все сцены, связанные с принятием алкоголя, следует убрать железной рукой. И заодно просмотреть текст на предмет сведения к минимуму эпизодов с курением. У нас же молодежная аудитория, нельзя про это забывать ни на миг!
И наконец, последнее. Как говорится, последнее по счету, но не по значению. Главный герой разводится с женой. Это плохо, очень плохо. Этого надо избежать. Или пусть не разводится, или сделайте так, будто они у вас не супруги, а друзья, которые поругались.
— Но почему? — спросил я, чуть не плача. И то, что только теперь я в первый раз задал этот вопрос, прекрасно, мне кажется, характеризует и меня, и эпоху.
Мне ответили. Дело в том, что в будущем году в журнале уже намечена к публикации повесть, где герой разводится. Есть серьезная опасность создать в сознании нашего читателя этакий перекос, неправильное представление о жизни.
Я сдался. Забрал свой листок и вышел на улицу, понимая, что жизнь рухнула.
Самое поразительное, что по дороге из редакции я на полном серьезе прикидывал, как можно половчее собственными руками искалечить свое дитя, чтобы приблизить его к необходимому идеалу. И только добравшись в совершенно расстроенных чувствах до дому, выпив для успокоения коньяку и закурив сигарету, я осознал, что в журнале, который когда-то ввел в нашу литературу Аксенова, Гладилина и Войновича, со мной беседовали не о моем стиле, не о характерах персонажей, не о завязке, кульминации и развязке! Со мной вообще не говорили о том, что должно быть в повести. Речь шла исключительно о том, чего там быть не должно. Год стоял на дворе тысяча девятьсот восемьдесят четвертый, от начала же революции шестьдесят седьмой...
Однажды, примерно в это же время, в газете, где я тогда работал, у меня стоял в номере материал про ветерана воздущно-десантных войск, назывался он в тогдашнем розовом, стиле «Воздушный человек». И вдруг под вечер вызывает меня к себе дежурный редактор и категорически требует заголовок поменять. Привычный ко многому, я был поражен: здесь-то какая крамола?! И мне было строго разъяснено политически более грамотным товарищем: в те дни умирал от астмы генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко, его держали на кислородных подушках, и наш заголовок мог быть воспринят как нехороший намек.
Почему я вспомнил об этом? Потому что всё мы — реликтовые создания, вроде рыбы латимерии. Мы родились в другую историческую эпоху, и уже нашим детям не всегда легко будет представить, в какой мертвой воде мы плавали, из какого тухлого болота происходим. Относится это и к тому, как мы жили, и к тому, что мы делали. В моем случае — к сочинению детективов. Хорошо или плохо, но могу сказать, как комсомолец двадцатых: я рос вместе со страной.
Когда-нибудь даже кремлевские кислородные подушки становятся бессильными. И вот в косых неверных лучах холодного мартовского солнца забрезжила новая небывалая эра. С замирающим сердцем латимерии узнали, что кроме гниющей бесформенной хляби есть где-то суровая манящая твердь. В другом журнале к погоням, дракам и ресторанным сценам (которые, конечно, ничего не добавляли детективу сами по себе, но были неотторжимой частью сюжета, его поворотными пунктами) отнеслись гораздо снисходительней. Но для первой публикации еще предстояло одолеть в буквальном смысле многоголовую гидру, имя которой было — Цензура.
На самой заре своей журналистской карьеры мне пришлось недолго работать в многотиражке Московского авиационного института. Там все было страшно секретным — в половину корпусов и лабораторий корреспондента просто не пускали, всюду на дверях были кодовые замки и шифры. Но одним из самых, кажется, секретных считался здоровенный ангар с аэродинамической трубой. Когда я уже увольнялся, мне по секрету рассказали, что эту самую трубу соорудили нам американцы в 1935 году...
Глубокая тайна была основой существования нашей империи. А Главное управление по охране тайн в печати (Главлит) — одним из ее столпов. Тайным могло оказаться нечто такое, что вы не предполагали и в страшном сне. Например, название завода, на котором работает половина жильцов вашего дома, известное всей округе. Или фамилия знаменитого писателя, именно сейчас за какую-то провинность временно впавшего в немилость, — ее и его произведения нельзя упоминать ни в каком контексте. Или рейд по тылам противника героической Зои в сорок первом — другой рейд, не тот, в котором она погибла, о чем поведал простодушный ветеран: об этом нельзя писать, ибо это не вписывается в каноническую Легенду.
Всего не упомнишь. Да и не требуется. В секретной комнате уполномоченных Главлита стояли целые полки с секретными нормативными документами. Имелось кое-что, в частности, и для тех, кто собрался сочинить что-нибудь на криминальную тему.
Иногда во время интервью наивные иностранцы удивляются некоторой пресности наших доперестроечных детективов. И тогда я по памяти стараюсь воспроизвести хотя бы те пункты из толстенных главлитовских талмудов, с которыми приходилось сталкиваться мне самому.
О чем нельзя было писать в любых подготовленных для печати (неважно, в жанре журналистики или беллетристики) произведениях?
Об организованной преступности в любых формах, о мафии, о коррупции.
О наркомании, наркоманах. Не разрешалось упоминать названия наркотиков, описывать способы их изготовления и применения, регионы произрастания сырца и места промышленного производства.
О проститутках и проституции.
Об ограблении сберкасс и банков.
О похищении людей — детей и взрослых — с целью шантажа или получения выкупа.
О рэкете.
Об изготовлении фальшивых денег.
О терроризме — уголовном и политическом.
О наемных убийствах.
О гомосексуализме.
Об аморальном поведении работников правоохранительных органов в быту.
О структуре органов внутренних дел и КГБ.
О черт знает чем еще.
Отдельную часть составляли общие рекомендации. Запрещалось, например, описывать способы совершения преступлений. То есть в каждом конкретном случае решение оставлялось на усмотрение цензора. Скажем, просто разбить окно и залезть в квартиру вор еще мог, но изготовить специальное приспособление для открывания форточек он не имел права. Не в жизни, разумеется. В литературе. Я как-то попытался описать историю проникновения шайки воров в помещение через дырку в потолке: они просунули туда зонт, раскрыли его, и дальше в него сыпались куски штукатурки, пока они расширяли отверстие. Меня тогда смешали с грязью и чуть не уволили, а много позже из милицейского словаря блатных слов и выражений я узнал, что такой способ с дореволюционных времен так и назывался: «сделать зонтик».
Категорический запрет лежал и на методах раскрытия преступлений. Слежка, прослушивание разговоров, агенты (по-простому, сексоты и стукачи), негласное проникновение в жилище, разного рода спецтехника и вообще вся так называемая оперативная работа не допускались к упоминанию. Как-то раз мне пришлось с бессильным сочувствием наблюдать за метаниями бедного сочинителя, который принес детектив, весь построенный на засылке сыщика из уголовного розыска в преступную банду — и не в нэповские времена, не в первые послевоенные, а в наши светлые, радостные дни. С ним даже не разговаривали — молча указывали на мусорную корзинку...
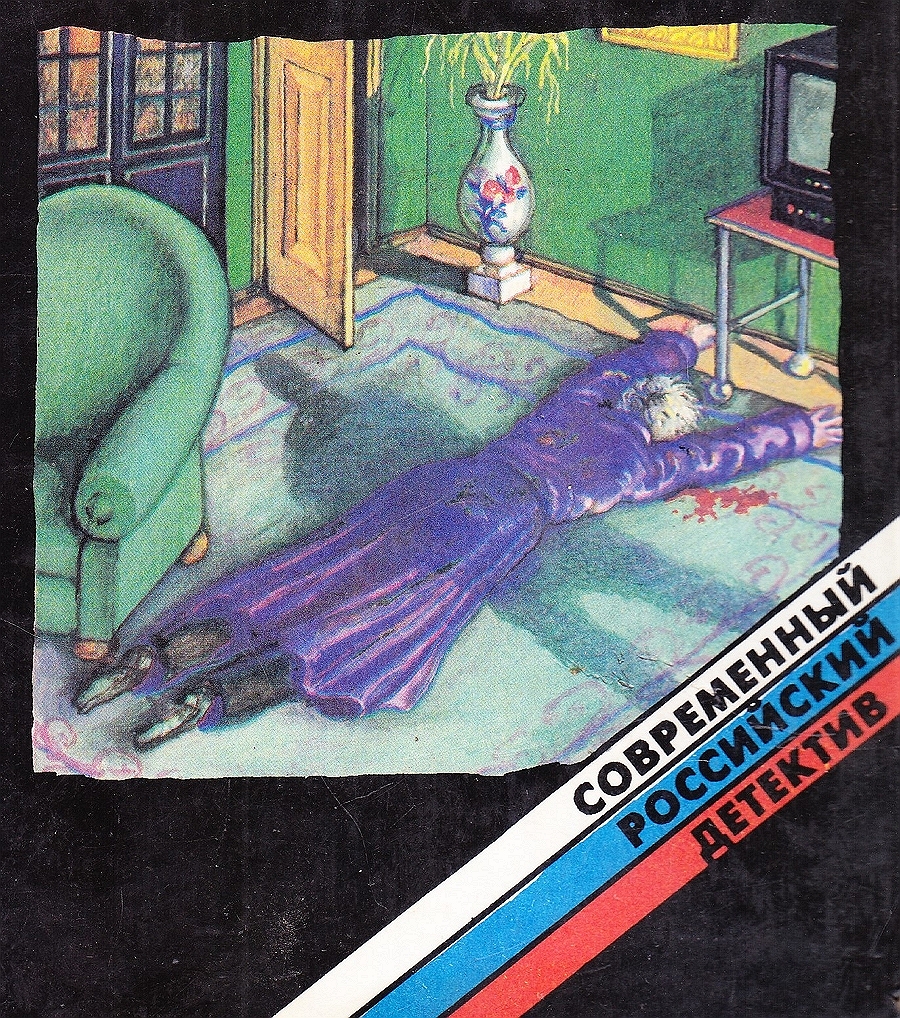
Мало? Тогда добавьте сюда указание не разглашать технические способы получения доказательств, то бишь всю деятельность научно-технических отделов милиции, ее криминалистических лабораторий — от химических и биологических анализов до исследования поддельных документов — и вы получите более или менее полную картину. А если быть точным, полное этой картины отсутствие.
И все-таки главное я приберег напоследок. Государственные цензоры не взяли бы из ваших рук и странички, написанной на криминальную тему, до тех пор, пока вы не вырвали разрешение на публикацию у цензуры ведомственной.
В КГБ вас не пускали дальше приемной, рекомендовали общаться с помощью эпистолярного жанра.
У военных был другой порядок: звонишь из проходной, к тебе спускается офицер, забирает материал или рукопись, потом ее таким же образом возвращает — с запечатанным конвертом на имя уполномоченного Главлита.
И только в милиции царила демократия — в пресс-бюро Министерства внутренних дел тебя принимали лично. Лично меня в первый раз таскали по кабинетам МВД месяца четыре.
Знаменитый детективный писатель с горечью вспоминал однажды, как заместитель министра внутренних дел брежневский зять Чурбанов своей рукой (великая честь!) вычеркивал из его новой повести описание неказистой внешности участкового инспектора. Литература вам не жизнь, тут не то что преступных или там аморальных — некрасивых милиционеров быть не должно!
Со мной занимались чиновники рангом пониже. Вымарывали слово «мент» в устах уголовника. Боролись и за чистоту речи советского оперативника. Но глубинную причину того, почему столько времени меня мытарили, не решаясь дать «добро» на публикацию, я понял не сразу. Их, чиновников, страшное мучение состояло в том, что главный герой моей повести был не сыщик из МУРа, не следователь прокуратуры, не опер из КГБ, а какой-то журналист, фактически частное лицо. А частное лицо — значит, частный детектив. И это уж, знаете ли, не наше, это откуда-то оттуда, из-за бугра, не лезет ни в какие ворота. С одной стороны, конечно, нигде не написано, что нельзя. А с другой — разве щенибудь написано, что можно?!
Рукопись гуляла из кабинета в кабинет, а времена тоже не стояли на месте. За холодным мартом наступил солнечный апрель, текло с крыш, вылетали из своих кресел министры. Менялись люди и мнения.
— Поздравляем! — сказал мне на пятый месяц гордый собственной смелостью очередной чиновник в очередном кабинете. — Вы написали первый частный детектив.
Мне было и грустно, и смешно. О том, что со следующей повестью у меня наверняка будут неприятности, я знал заранее. Готовился к бою: ведь там у меня фигурировали и проститутки, и наркотики — вместе с их изготовлением, употреблением и местами произрастания. Но сотрудник пресс-бюро МВД в ответ на мой вопрос сказал по телефону с усмешкой:
— Прочел я твой опус. Большой ты баловник... Заезжай, я штампик-то уже поставил...
Мой последний детектив не цензурировал и не визировал никто. Его просто взяли и напечатали.
В коротком предисловии к одной из своих книг я однажды написал:
«У каждого жанра есть свои периоды упадка и расцвета.
Мы живем в необычайно остросюжетное время, и стоит ли удивляться, что сейчас спрос на новый сюжет, на невиданную доселе тему?.. Теперь, начав открыто говорить не об ошибках уже — о преступлениях недавнего прошлого и настоящего, едва ли кому из пишущих на современную тему с легкостью удастся избежать хотя бы криминальных атрибутов. Язвы общества пока только названы, да и то, пожалуй, не все.
Время детектива? Скажем так: и его в том числе».
Пожалуй, я и сейчас подпишусь под этими словами.
СЕРГЕЙ УСТИНОВ