

Литература от античности до XVIII века
Надежный путеводитель по миру знаний
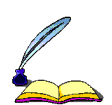 Литература
— совокупность зафиксированных на письме и имеющих общественную значимость
текстов. Произведения великих мастеров слова позволяют прикоснуться к
Прекрасному, постичь то, что волновало человечество на протяжении столетий. В
этой книге представлена история развития мировой литературы от «Книги пирамид»
Древнего Египта до эпохи Про
Литература
— совокупность зафиксированных на письме и имеющих общественную значимость
текстов. Произведения великих мастеров слова позволяют прикоснуться к
Прекрасному, постичь то, что волновало человечество на протяжении столетий. В
этой книге представлена история развития мировой литературы от «Книги пирамид»
Древнего Египта до эпохи Про
Научное определение литературы (от лат.
litteratura — «написанное», от лат. littera — «буква») — совокупность зафиксированных на письме и имеющих общественную значимость текстов. В более узком смысле только художественная литература — вид искусства.
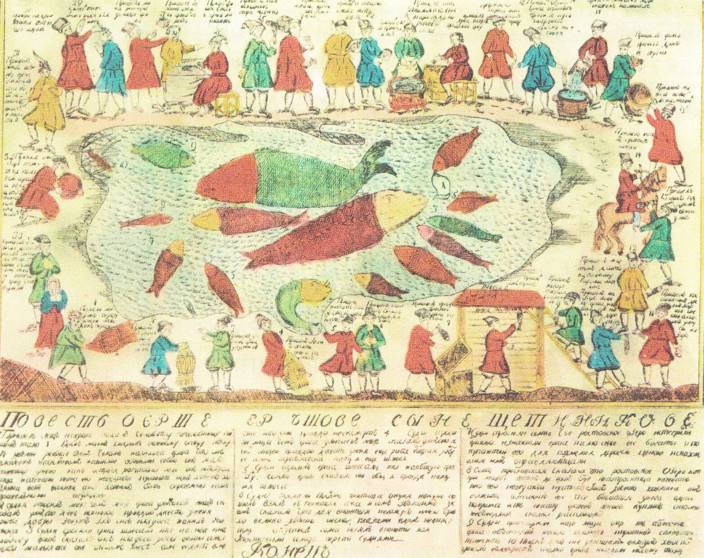
К литературе относятся тексты, материалом которых являются исключительно слова
человеческого языка, и не относятся тексты синтетические и синкретические, т. е.
такие, в которых словесный компонент не может быть оторван от музыкального,
визуального или какого-либо иного. Песня или опера сами по себе не являются частью литературы.
Если песня написана композитором на уже имеющийся текст, написанный поэтом, то
проблемы не возникает; в XX веке, однако, вновь приобрела широкое
распространение древняя традиция, согласно которой один и тот же автор создает
сразу словесный текст и музыку и (как правило) сам исполняет получившееся
произведение. Вопрос о том, насколько правомерно извлекать из получившегося
синтетического произведения только словесный компонент и рассматривать его как
самостоятельное литературное произведение, до сих пор остается открытым.
какого-либо иного. Песня или опера сами по себе не являются частью литературы.
Если песня написана композитором на уже имеющийся текст, написанный поэтом, то
проблемы не возникает; в XX веке, однако, вновь приобрела широкое
распространение древняя традиция, согласно которой один и тот же автор создает
сразу словесный текст и музыку и (как правило) сам исполняет получившееся
произведение. Вопрос о том, насколько правомерно извлекать из получившегося
синтетического произведения только словесный компонент и рассматривать его как
самостоятельное литературное произведение, до сих пор остается открытым.
 Развитие
литературы происходило волнообразно. На определенных стадиях в понятие
литературы включаются зафиксированный на письме фольклор, религиозные,
философские, эстетические, документальные, научные и другие тексты. Древнейшей
на Земле может считаться литература Шумера и Вавилонии. В конце IV - начале III
тыс. до н. э. появляются первые из известных текстов. Это документы учета,
хозяйственные перечни; списки богов; записи гимнов, пословиц и поговорок. Самый
известный памятник, относящийся к этой культуре, — сказание о Гильгамеше,
датируемый XXII в. до н. э. (некоторые ученые называют еще более позднюю дату —
XVIII в. до н.
Развитие
литературы происходило волнообразно. На определенных стадиях в понятие
литературы включаются зафиксированный на письме фольклор, религиозные,
философские, эстетические, документальные, научные и другие тексты. Древнейшей
на Земле может считаться литература Шумера и Вавилонии. В конце IV - начале III
тыс. до н. э. появляются первые из известных текстов. Это документы учета,
хозяйственные перечни; списки богов; записи гимнов, пословиц и поговорок. Самый
известный памятник, относящийся к этой культуре, — сказание о Гильгамеше,
датируемый XXII в. до н. э. (некоторые ученые называют еще более позднюю дату —
XVIII в. до н.
В данной книге рассматриваются основные направления развития мировой литературы от III тыс. до н.
э. до XVIII столетия.
Когда думаешь о Древнем Египте, в сознании возникают пирамиды и молчаливое солнце, зеркало песков и четкие силуэты путешественников, поднимающих ногами тучи пыли. В прохладе пирамид — мумии фараонов, жрецы, что-то ведающие о тайне смерти и обладающие огромной властью над жизнью. Загадочные иероглифы будто оставлены неутомимым жуком-скарабеем. Черная земля вечности беседует с луной и покорно слушает солнце.
После того как француз Шампольон в начале XIX в. расшифровал иероглифы, перед человечеством предстала неизвестная новым народам богатая культура древних египтян.
|
В папирусе Нового царства, относящемся к концу II тыс. до н. э., содержится знаменитое [«Прославление писцов»], ставшее прообразом оды Горация «Exegi monumentum» (23 до н. э.) и, следовательно, стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836). В папирусе говорится: «Мудрые писцы // Времен преемников самих богов, // Предрекавшие будущее, // Их имена сохранятся навеки. // Они ушли, завершив свое время, // Позабыты все их близкие. // Они не строили себе пирамид из меди // И надгробий из бронзы, // Не оставили после себя наследников, // Детей, сохранивших их имена. // Но они оставили свое наследство в писаниях, // В поучениях, сделанных ими. // Писания становились их жрецами, // А палетка для письма - их сыном. // Их пирамиды - книги поучений, // Их дитя - тростниковое перо, // Их супруга - поверхность камня. // <...> Книга нужнее построенного дома, // Лучше гробниц на Западе, // Лучше роскошного дворца, // Лучше памятника в храме» (пер. А. Ахматовой).В IV - II вв. до н. э. был создан «Герметический свод». Сохранилось 15 трактатов, из которых последний составлен из трех разных текстов. Он приписывался египетскому богу мудрости Тоту (или мудрецу, жившему задолго до библейского Моисея), которого по-гречески именовали Гермес Трисмегист («Трижды величайший»). Тексты появились в начале нашей эры в Александрии Египетской на греческом языке на основе соединения традиций древнегреческой философии, иудаизма, христианского гностицизма, восточных мифологий. В герметическом учении большую роль сыграла египетская эзотерика. В самом известном сочинении «Изумрудной скрижали» есть положение: «Что внизу, то и вверху» - закон Великой аналогии. |
|
|
|
Фрагмент папируса «Книга мертвых» |
К ПАМЯТНИКАМ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА (III тыс. до н. э.) относятся «Книги пирамид» — надписи на древнеегипетском языке в погребальных помещениях пирамид, адресованные покойному, сообщающие ему магические формулы и указывающие на те действия, которые он должен совершить в загробном мире. Уже в этих первых текстах обозначилась главная тема и назначение древнеегипетской литературы (и — шире — искусства): культ мертвых, борьба со временем, преодоление смерти и достижение вечной жизни. Анализ текстов обнаруживает в них фольклорные (устойчиво-канонические — см. Своеобразие фольклора) художественные средства: повторы, сохранение архаизмов, параллелизм, аллитерации (об ассонансах судить невозможно, так как гласные не записывались и их звучание неизвестно).
Традиция этих текстов была продолжена в «Книгах саркофагов» (Среднее царство, на среднеегипетском языке) и в «Книге мертвых» (XV в. до н. э., Новое царство, на новоегипетском языке). В последней важное место отводится оправдательным речам умершего перед судом загробного царства во главе с богом Осирисом. В предназначенных для произнесения формулах нет последовательного движения от главного к неглавному и, наоборот, нет определенной сгруппированности (типологизации) грехов; есть повторы, близкие по смыслу формулы. В обширной дидактической литературе тот же материал выступает в виде предписаний.
Из различных текстов можно судить о том, как представляли себе древние египтяне человека и окружающий мир. Живой фараон отождествляется египтянами с богом Гором, а мертвый — с Осирисом.
Человек воспринимается как совокупность сах (тела), шуит (тени), рен (имени) ах, ба, ка. Ах («блаженный, просветленный») — загробное воплощение человека, в ах превращается фараон после смерти («Книги пирамид»). Для достижения вечной жизни важно сберечь сах (отсюда искусство мумификации) , не потерять ка, но особенно важно сохранить рен
— имя. Чтобы отомстить врагу, египтяне могли, например, стереть его имя со статуи и написать другое — это полностью уничтожало противника. Вот почему труд писцов считался таким почетным. Среди великих писцов в папирусе называется имя Имхотепа (XXVIII в. до н. э.). Однако пока трудно идентифицировать какие-либо тексты, составленные им.Из дошедших до нас памятников нельзя получить ясное представление о мифологии египтян. Сама эта мифология не сложилась в стройную систему. Однако можно выделить центральный миф — миф об Осирисе, умирающем и воскресающем боге (вообще, это наиболее распространенный мифологический мотив — мифологема).
В литературе Древнего Египта можно найти истоки и других жанров — путевых записок («Путешествие Ун-Амуна в Библ», своего рода отчет о путешествии, совершенном около 1066 г. до н. э.), басни (басни о животных, относящиеся к периоду так называемой демотической литературы, VIII в. до н. э. — III в. н. э.) и др. Влияние египетской литературы обнаруживается в текстах Библии, в диалогах Платона (возможно, изложенное им сказание об Атлантиде — египетского происхождения), в произведениях Апулея и т. д.
Мы включаем в обзор древних литератур характеристику великих религиозных книг Древнего Востока — Авесту, сложившуюся в Иране, и первую часть Библии (Ветхий Завет), родиной которой был Израиль. До сих пор они почитаются как священные миллионами людей планеты. Мы не станем затрагивать вопросы веры, оставаясь в рамках характеристики этих книг как явлений литературы. Но и здесь нельзя не отметить их огромное значение: образы, сюжеты, язык этих книг сыграли беспрецедентную роль в развитии мировой литературы.
|
Почитание верховного божества Ахуры Мазды отражено в древнеперсидских летописях. Если самая древняя надпись летописного характера, сделанная в 530 г. до н. э. на гробнице основателя государства Ахеменидов Кира Великого, предельно лаконична: «Я Кир - царь Ахеменид», то уже в надписях его преемников - Дария I, Ксеркса I, Артаксеркса II! - содержится не только сообщение от первого лица о титулах, одержанных победах, великих деяниях, но и о верности Ахуре Мазде. |
|
«Сильные фраваши праведных // Прилетают на помощь // Подобно птицам быстрокрылым». Зороастрийцы верили, что фраваши - духи-покровители, давшие жизнь и видимые очертания всему на земле: человеку, зверям, лесам, озерам, горам, - всегда помогут им и защитят от злых сил.
|
ОСНОВНОЙ ПАМЯТНИК древнеперсидской (иранской) литературы — Авеста — сложился между IX и VI вв. до н. э. и связан с проповедями пророка Заратуштры, основателя зороастризма — религии древних иранцев. К VII в. до н. э., когда эта религия была упразднена как государственная (хотя до сих пор у нее находятся последователи), текст Авесты состоял из 21 книги.
В редакцию (вариант рукописи, созданной одним или несколькими переписчиками), дошедшую до нас, входят четыре книги: «Вендидад» (или «Видевдад», т. е. «Кодекс против дэвов»), включающая диалоги Заратуштры с богом Света и Добра Ахурой Маздой с указаниями, как противостоять силам зла, предводительствуемым богом Мрака и Зла Ангра-Манью (единственная книга, дошедшая полностью и включающая 22 главы); «Висперед» (или «Виспред», «Гении благих существ»), включающая тексты молитвенных песен; «Ясна» («Моление», «Ритуал»), включающая молитвы и обращения к богам; «Яшт» («Почитание», «Восхваление»), включающая гимны светлым силам Добра.
Из текста Авесты вытекает религиозная концепция двоемирия: силам Добра, которыми руководит Ахура Мазда, противостоят силы Зла, которыми предводительствует Ангра-Манью. Между ними идет непрерывная борьба, и неизвестно, кто победит. Поэтому каждый последователь зороастризма должен дать клятву верности Ахуре Мазде. В книге «Ясна» (12-я глава, содержащая символ веры зороастризма, текст которого составлен сравнительно поздно) закреплены формулы приобщения к миру Света и Добра. Действительно, почитатели Ахуры Мазды приписывали своему божеству все свои самые значительные достижения.
Первоначально весь текст Авесты, по-видимому, был ритмизован, что впоследствии во многих местах памятника утратилось.
Авеста стоит у истоков текстов гностиков (от греч.
gnouisis — «знание»; гностицизм — религиозно-философское учение первых веков н. э., представителей средневековой альбигойской ереси. Некоторые элементы гностицизма можно усмотреть и в готическом романе (романе ужасов, возникшем в XVIII в.), и в «Мастере и Маргарите» М. А. Булгакова, и в получившем ныне огромную популярность жанре «хоррор» (англ. horror; современные романы и фильмы ужаса).
|
За Пятикнижием в Ветхом Завете следуют древние хроники («Книга Иисуса Навина», «Книга Судей Израилевых», «Книга Руфь», 1 - 4 «Книги царств», 1 - 2 «Книги Паралиломенон»), книги Ездры, Неемии, Есфирь, Иова, «Псалтирь», «Книга притчей Соломоновых», «Книга Екклезиаста, или Проповедника», «Книга Песни Песен Соломона», книги великих пророков VII - V вв, до н. э. Исайи, Иеремии (с книгой «Плач Иеремии»), Иезекииля, пророка II в. до н. э. Даниила и книги 12 «малых пророков» (Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии).
Страница из латинского издания «Библия Пайтеона» (Х II в.; хранится в Ватикане). Четыре сцены из Ветхого Завета (сверху вниз): путешествие Иакова и его семьи в Египет; Моисей и израильтяне возводят скинию; левиты несут ковчег Завета; Моисей посвящает своего брата Аарона в первосвященники.
|
Еще больше повлиял на мировую культуру величайший памятник древнееврейской литературы — Библия (первая часть, получившая название Ветхий Завет). Тексты Ветхого Завета, написанные на древнееврейском и частично арамейском языках, канонизированы иудаизмом и христианством и почитаются как Священное Писание. Они относятся к XII
- II вв. до н. э. Древнейшая часть — «Тора» (или «Пятикнижие»), по преданию, написанная пророком Моисеем (однако повествующая о нем в третьем лице), — включает в себя книги «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие», за которыми следуют другие древние книги, включенные в Библию.Книги Ветхого Завета сыграли колоссальную роль в развитии религиозного сознания, мировой культуры, всемирной литературы. Они стали основой для Нового Завета, в котором история смерти и воскресения Иисуса Христа, изложение его учения постоянно имеют отсылки к этим текстам. Они не признаются священными, но почитаются мусульманами. Таким образом, миллиарды людей на протяжении трех тысячелетий смотрели на мир сквозь призму этих текстов. Слова Библии заучивались наизусть начиная с младенчества, формируя тем самым характер мышления, способ изложения, образные ассоциации применительно ко всем сторонам жизнедеятельности огромного числа людей, целых народов. Писатели всех континентов вольно или невольно, бессознательно использовали литературные формы, разработанные в библейских текстах (жанры молитвы, притчи, псалмы, хроники, пророчества, афоризмы и др., библейские образы Адама, Евы, Каина, Авеля, Авраама, Исаака, Иосифа, Ноя, Моисея и др.
Одна из древнейших литератур мира — китайская. Вероятно, китайцы — старейший народ на Земле. Китайская культура до сих пор несет на себе отпечаток той первозданной культуры, которая сложилась в этом регионе пять тысячелетий назад, а может быть, и раньше. В иероглифах китайцев отразился иной способ мышления, восприятия мира, чем у европейцев. Понять культуру, литературу этого народа очень сложно, так же сложно, как выучить китайский язык. Но многие достижения Китая стали частью мировой культуры, составляют ее нетленные ценности.
НАЧАЛО КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ теряется в глубине тысячелетий. С древнейшей гадательной практикой связана одна из первых книг человечества — «И цзин» (или «Чжоу и», на русский язык обычно переводится как «Книга перемен»). Она значима для Китая в той же мере, как Библия для Запада. Легенда утверждает, что содержащиеся в книге гексаграммы (рисунки из шести черт, одни из которых непрерывны, другие — с пробелом) были чудесным образом нанесены на панцирь огромной черепахи, всплывшей на поверхности моря. Время возникновения книги исследователи определяют по-разному: от XXI в. до н. э., приписывая ее легендарному императору Фу-си, до VI в. до н. э., считая ее создателем Конфуция. Выдающийся русский исследователь культуры Древнего Китая Ю. К. Щуцкий считал, что книга «И цзин» сложилась в VIII - VII вв. до н. э., а в VI - V вв. до н. э., постепенно превратилась из мантического (от греч.
mantike — «искусство гадания, прорицания») в философский текст. 64 гексаграммы «И цзин» призваны описать все без исключения ситуации, из которых складывается судьба человека.
|
В «Ши цзин» заметное место занимают песни дидактического содержания, например: «Просила я Джуна: «Не лазай через мою околицу, // Не обламывай моих ракит!» // Ну как мне любить его? // Боюсь я отца с матерью. // Мил мне Джун, // Но и отца с матерью // Я тоже боюсь». (И еще два куплета, построенных аналогично, с изменением деталей, - пример импровизационной техники фольклорного характера.) |
||
|
|
|
|
|
Наносить надписи можно: на камни, на панцирь черепахи (как на ил. слева - предсказание, написанное 3300 лет назад); на «листы» из бамбука, скрепленные веревочкой (как у монаха на изразцовой плитке III в. до н. э. - на ил. в центре), глину, дерево. |
В руках Конфуция «Пять канонов». |
Конфуций читает «Книгу перемен». |
ДРЕВНЕЙШАЯ КИТАЙСКАЯ ПОЭЗИЯ (XII - VII вв. до н. э.) вошла в книгу «Ши цзин» («Книга песен»). В ней представлены различные песенные жанры. Есть единственный пример трудовой песни, тотемные (обращения к священному животному — тотему), похоронные, песни-заклинания и т. д. Легко заметить характерные для фольклора повторы, параллелизмы (сходное расположение фрагментов речи — частиц, слов и словосочетаний — в смежных частях текста, что создает ритм), аллитерации (повторения согласных) и ассонансы (повторения гласных).
В исполнении этих песен сохранялся синкретизм (от греч.
synkrёtismos — «соединение) первобытного искусства. В первом китайском трактате по поэтике — «Большое предисловие к «Ши цзин» (II в. до н. э.) указывается: «Ши [песни] рождаются душевным волнением. <...> Чувства возникают внутри, а форму обретают в словах. Слов не хватает — вздыхают, вздохов не хватает — непроизвольно руки начинают делать танцевальные движения, а ноги — притоптывать».Для китайцев нехарактерен антропоцентризм (от греч.
anthropos — «человек» и греч. kentron — «центр»). Это одна из основных причин отсутствия в китайской литературе эпопей. Прекрасное не связано с отдельным человеком, его субъективными чувствами, воспринимается как гармония природы и общества. Две системы мировоззрения возникли на этой основе: конфуцианство (с ориентацией на общество) и даосизм (с ориентацией на природу).Великий мыслитель древности Кун фу-цзы (т. е. «учитель Кун»; латинизированное звучание его имени — Конфуций:
552/551 - 479 до н. э.) имел около 3000 учеников (из них 70 — выдающихся), но обучал их устно. До нас дошел свод сочинений, записанных несколькими поколениями учеников Конфуция, получивший название Конфуцианский канон, или Тринадцатизаконие («Ши сань цзин»). В него входят 13 книг, в том числе «Лунь юй» («Изречения»), «Мэнцзы», «Великое учение», «Учение о середине», в которых содержатся записанные учениками мысли Конфуция, а также не созданные, а лишь отредактированные Конфуцием книги: «И цзин», «Ши цзин», «Ли цзи» («Записки о правилах благопристойности») и др.В книге «Лунь юй» чувствуется, что учитель лишь недавно заменил жреца: в диалоге ученик может лишь спрашивать, а учитель произносит непререкаемые истины. Тем не менее диалог становится первым жанром, в котором развивалась философская мысль. Позже разовьется жанр прозопоэтических произведений «фу», которые получили название «ханьские оды», еще позже — жанр биографии.
|
В «Ши цзин» и других памятниках отразились мифологические представления древних китайцев. Можно выделить миф о хаосе, миф о потопе и некоторые другие. Однако для китайской мифологии характерна эвгемеризация - представление о мифических событиях как об исторических. Датировка их условна, например, устанавливаются даты жизни мифического царя золотого века Яо: в переводе на современное летоисчисление 2357 - 2256 гг. до н. э., хотя, по мифу, отец его - красный дракон, а мать родилась из камня во время грозы. Собственно, миф занимает подчиненное место, уступая ведущую роль культам: камней, горы, плодородия, дракона (отражено в «Шань хай цзин» - «Книге гор и морей», III - I вв. до н. э., и др.). Из культа горы родилось представление о мире как воплощении равновесия, взаимодействия ян и инь. Ян - первоначально светлый, южный склон горы - символ мужского начала, юга, света, жизни, неба, Солнца, нечетных чисел. Инь - первоначально теневой, северный склон горы - символ женского начала, севера, тьмы, смерти, Земли, Луны, четных чисел. Культы связаны с поклонением природе. |
||
|
|
|
|
|
Как следует жить. Сцена из нравоучительной повести. IV в. н. э. |
Символ дао - единство взаимно противоположных начал мироздания |
Китайское моралите IV в.: живи не суетясь, трудись, прислушивайся к природе. |
ГЛАВНОЕ ПОНЯТИЕ УЧЕНИЯ КОНФУЦИЯ - дао (правильный путь), следуя которому человек приобретает дэ — добродетель. Конфуций пессимистически замечает: «Мне не приходилось встречать такого, кто любил бы добродетель [дэ], как любят женскую красоту». Сосредоточив внимание на правильном устройстве общества, Конфуций противопоставляет цзюнь-цзы (благородного мужа) и сяо жень (малый люд, чернь).
О последнем мыслитель мало заботится («Трава клонится, куда дует ветер», — метафорически трактует он ничтожность сяо жень), зато для цзюнь-цзы создает целую систему требований. Цзюнь-цзы должен обладать пятью добродетелями: и — долг, справедливость, исполнение обязанностей младшим по отношению к старшему и наоборот; жэнь — гуманность, чувство родства, почтительности; ли — благопристойность, знание ритуала, чувство меры; синь — благонадежность, доблесть, способность защищать добродетель даже ценой жизни; чжи — разумность, понимание(но не природы, а только знание пяти добродетелей: «знать — значит знать людей»).
КОНФУЦИАНСКОМУ КАНОНУ противостоит литература даосизма. Произведение, определившее специфику этого учения, ориентирующегося не на общество, а на приро
ду. — «Даодэцзин» («Книгаодао [пути] идэ [благойсиле]», чаще это произведение именуется по указанию создателя — «Лао-цзы») — содержит 5000 иероглифов и 81 главу. Оно приписывается основателю учения Лао-цзы (VI - V вв. до н. э.), хотя, по-видимому, написано позже. Полный свод даосских канонических текстов «Дао цзан» («Сокровищница даосских писаний») складывался веками и был впервые опубликован в 1019 г. объемом в 4565 томов. В противовес вниманию Конфуция к правильности поступков даосы развивают концепцию недеяния, слияния с природой. Однако это не восхваление лени: «Дао ничего не делает, но нет ничего несделанного».
После внезапной и загадочной гибели протоиндийской цивилизации на полуостров Индостан пришли арии (XV в. до н. э., по мнению некоторых индийских ученых, — XXV в. до н. э.). Они принесли с собой мифологию, фольклор, традиции и обычаи, которые легли в основу одной из величайших литератур мира — литературы Древней Индии.
ВАЖНЕЙШИЙ ПАМЯТНИК ЛИТЕРАТУРЫ АРИЕВ - Веды (санскр.
veda — «знание»), возникновение и запись которых занимает не менее тысячелетия (с XII по II в. до н. э.). Они — основа Веданты, одного из наиболее распространенных религиозно-философских учений в Индии.Веды включают в себя два типа текстов. Первый тип — шрути («услышанное», что указывает на первоначальную устную форму бытования) — тексты, рассматриваемые как священные. В них входят четыре самхиты (т. е. сборники): Ригведа (веда гимнов), Самаведа (веда песнопений), Яджурведа (веда жертвенных изречений), Атхарваведа (веда заклинаний). Каждая из этих самхит играла определенную роль в ритуале жертвоприношения, в котором участвовало четыре жреца:
хотар, читавший гимны (должен был знать Ригведу);
утгатар, сопровождавший жертвоприношение пением (должен был знать Самаведу);
адхварью, непосредственно приносивший жертву (должен был знать Яджурведу);
брахман, следивший за правильностью всего ритуала (позже, когда появился текст Атхарваведы, в его обязанности вошло знание магических формул этой самхиты). Тексты самхит написаны в основном стихами, самый разработанный жанр — гимн (в Ригведе содержится 1028 гимнов богам). В шрути входят также брахманы (теологические тексты, объясняющие содержание ритуала), араньяки («лесные книги» для лесных отшельников), упанишады (название от санскритского «сидеть около», т. е. сидеть около ног учителя, внимая его наставлениям).
|
Из рассказа Саньджаи в «Бхагавадгите» выясняется, что перед сражением Арджуной овладели сомнения, которыми он делится с Кришной: «Увы, как странно, что мы готовимся совершить великий грех; движимые желанием насладиться радостями царствования, мы полны решимости убить наших близких. Лучше мне, безоружному, быть убитым сыновьями Дхритараштры, не сопротивляясь». В ответ на это Кришна разворачивает целую систему доказательств правильности участия в битве: «Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Никогда не было так, чтобы не существовал я, или ты, или все эти цари; и никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование. Точно так же, как душа переселяется из детского тела в юношеское и из него в старческое, так и при смерти она переходит в другое тело. <...> Тот, кто родится, обязательно умрет, и после смерти обязательно вновь родится. Поэтому не следует предаваться скорби, исполняя свой долг. <...> Что же касается твоего долга кшатрии, то знай, что нет лучшего для тебя занятия, чем сражаться во имя религиозных принципов. |
|
Агни - бог огня.
Фрагмент «Махабхараты», описывающий беседу Арджуны с Кришной перед битвой, получил название «Бхагавадгита» («Книга о том, кто обладает всеми богатствами»). Эту беседу передает слепому Дхритараштре, беспокоящемуся о судьбе своих сыновей, его секретарь Саньджая, которому боги даровали священную способность мыслью переноситься в любые, самые отдаленные уголки земли, видеть и слышать то, чего не могут видеть и слышать другие. Это одно из первых в мировой литературе представлений поэта, сказителя как вездесущего демиурга (творца). |
ТОРОЙ ТИП ВЕДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ — смрити («запоминаемое») — не носит священного характера. К смрити относятся «веданги» («части вед»), состоящие из сутр (сутра — «нить», «краткое правило»). Сутра — популярный афористический жанр древнеиндийской литературы; в сутрах излагаются вопросы ритуала, а также других областей знания (фонетики, грамматики и т. д.).
Вершина древнеиндийской литературы — две поэтические эпопеи: «Махабхарата» и «Рамаяна». Первая из них (название можно перевести как «Великое [сказание о потомках] Бхараты») складывалась в X - IV вв. до н. э. и была записана около IV в. н. э. Эта огромная героическая поэма фольклорного происхождения состоит примерно из 200000 строк (в восемь раз больше древнегреческих «Илиады» и «Одиссеи»), В поэме развитой сюжет, в основе которого — противостояние пяти сыновей царя Панду (пандавов) и их двоюродных братьев по отцу — 100 сыновей царя Дхритараштры (кауравов). Старший из пандавов, Юдхиштхира, должен стать царем, но благодаря проискам кауравов престол незаконно занимает старший из кауравов — Дурьйодхана. Центральный эпизод эпоса — великая битва войск пандавов и кауравов на религиозном поле Курукшетра, длящаяся 18 дней. На стороне пандавов выступает в качестве возничего Арджуны (третьего сына Панды) двоюродный брат по матери Кришна — воплощение Вишну, одного из трех главных богов индийского пантеона (Брахма — творец мира, Вишну сохраняет Вселенную, Шива ее разрушает). Пандавы выигрывают битву, и Юдхиштхира многие годы счастливо правит страной, а перед смертью вместе с братьями и их общей женой Драупади восходит на космическую гору Меру, чтобы вступить в царство богов.
Вторая великая древнеиндийская поэма — «Рамаяна» — повествует о злоключениях царя Рамы, отстраненного от престола на 14 лет, о его скитаниях, в которых его сопровождают брат Лакшмана и жена Сита, о победе Рамы над царем ракшасов (демонов) Раваной. Авторство этого героического эпоса, возникшего около II в. до н. э., приписывают мифическому поэту Вальмики. В поэме чувствуется воля единого создателя в достаточно стройной композиции, детализированных описаниях (впервые встречаются, например, развернутые описания времен года), в единстве настроения (горечь разлуки), разрушении традиционных формул повествования и т. д. (хотя, вероятно, такую форму она приобрела при записи в III - IV вв. н. э.). Так как Рама был объявлен аватарой (воплощением) бога Вишну, «Рамаяна» почитается как полугероический-полусвященный текст.ДРУГОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ УЧЕНИЕ, сформировавшееся на территории Древней Индии и в настоящее время являющееся одной из мировых религий, — буддизм. Литература, связанная с учением Сиддхартхы Гаутамы (другое имя — Шакьяыуни: 623 - 544 до и. э.) из царского племени шакьев в Северной Индии, получившего имя Будда (санскр. и пали
buddha — «просветленный»), сложилась в V - II вв. до н. э. в буддийский канон Типитака («три корзины»). Он состоит из трех сводов текстов («корзин») — Виная-питака, Сутта-питака, Абхидхамма-питака. Тексты можно разделить на две группы: к одной относятся жанры высокой (ученой) поэзии (например, сутта, или сутра, — «нить», повествование о беседах Будды во время странствий, построенное в виде диалога учителя с учениками), к другой — жанры литературы для непосвященных, например джатака. В основе этого популярного жанра лежит поучительная притча о каком-либо событии, происшедшем с Буддой в одном из его прошлых рождений, с обязательной стихотворной вставкой. 547 джатак вошли в Сутта-питаку.Концептуальной основой текстов стало учение Будды о «четырех благородных истинах»: существуют страдание, его причина, состояние освобождения — нирвана — и путь к нему. Типитака отражает миропонимание буддизма — одной из мировых религий.
Большое место в жизни индийцев занимала и литература несобственно религиозного содержания. Мировую известность получил сборник назидательных рассказов и стихов «Панчатантра» («Пятикнижие»), составленный в IV в. Во вступлении к сборнику сообщается, что «Панчатантру» написал брахман (жрец) Вишнушарман для глупых сыновей царя Амаракашти. Чтобы поучение было для них доступно, он прибег к образам животных — льва, быка, совы и т. д. Сборник делится на пять книг, в каждой есть рассказы и стихи (например, в первой — 17 рассказов и около 180 стихов). Произведение было популярно во многих странах в течение столетий, повлияло на формирование жанров басни, новеллы, рамочной новеллы и т. д. В нем осуществлено одно из самых удачных в мировой литературе соединений дидактического содержания и развлекательной формы.
|
Кришна в «Бхагавадгите» призывает Арджуну во всех делах отказаться от выгоды, желаний, любых чувств (так как все это майа - иллюзия, каковой является материальный мир) и исполнять свой долг. Чтобы окончательно убедить Арджуну, Кришна предстает перед ним в своей вселенской форме: «Арджуна увидел в той вселенской форме бесчисленные рты. бесчисленные глаза, бесчисленные удивительные видения. Господь в этой форме был украшен неземными драгоценностями и потрясал божественным оружием. Он был облачен в божественные одеяния и украшен гирляндами. Он благоухал многочисленными ароматическими маслами, покрывающими Его тело. Все это было дивно, сияюще, безгранично, всепокрывающе». |
|
|
|
|
|
Рама с братьями и друзьями празднует победу над царем демонов Раваной. |
Кришна - пастух. |
ПЕРВЫМ ВЕЛИКИМ ИНДИЙСКИМ ПИСАТЕЛЕМ, о творчестве которого можно говорить как об авторском, был драматург и поэт Калидаса (ок. V в.), который, видимо, жил при дворе правителя Гуптской империи на Севере Индии Чандрагупты
II (380 - 414). Не сохранилось достоверных сведений о жизни Калидаса. Легендарная биография превращает его в бедного невежественного пастуха, женившегося на принцессе, получившего мудрость и поэтический дар от умилостивленной им богини Кали (откуда его имя «раб Кали») и погибшего от зависти придворных; здесь — обычное в средневековых биографиях Запада и Востока объединение сказочных «бродячих сюжетов» вокруг известной личности. В центре поэтического внимания Калидаса — внутренний мир далеких от житейских забот избранных счастливцев; сила его поэзии в изображении бесчисленных оттенков установленных индийской теорией драмы четырех основных поэтических настроений, в любовании красотой человеческого тела и природы, в величавых или нежных, но всегда идеализованных помыслах и чувствах дружеской или страстной приязни. Его драмы - связанный сказочным романтическим сюжетом ряд лирических сцен, его эпос — смена насыщенных лирической эмоцией описаний природы и пышных картин изысканного быта.Из многочисленных произведений, приписываемых ему, безусловно подлинными являются: эпические поэмы «Рождение Кумары» — бога войны и «История рода Рагху», лирическая поэма «Облако-вестник» и три драмы — «Признанная (по кольцу) Шакунтала» (сохранилась в двух версиях), «Добытая мужеством Урвапш» и «Малявика и Агнимитра». Сюжеты произведений Калидаса частью заимствованы из древних мифов и пуран, частью являются достоянием поэта.
Изучение античной мифологии позволяет понять эволюцию тезауруса (от греч. thesauros — «запас»; словесно-понятийный перечень) древних греков и римлян на протяжении многих столетий. Мифология составляет основу античной культуры, в том числе литературы на всем протяжении ее развития даже с учетом изменения отношения к мифу как к предмету безусловной веры, появления на определенном этапе развития культуры скептического к нему отношения.
ТЕРМИН «АНТИЧНОСТЬ» (от фр. и лат. antiquus — «древность»; это обозначение появилось в XV в. и первоначально расширительно обозначало явления искусства ранних исторических периодов) характеризует культуру Древней Греции и Древнего Рима.
АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА опиралась на развивавшееся на протяжении веков устное народное творчество и переняла от него как некоторые внешние черты — формульность фольклора, — так и определявшую его содержание мифологичность. Древние римляне, имевшие собственные верования (от них остались лишь отдельные следы), не позже VI — начала V в. до н. э. начали заимствовать греческую мифологию, присваивая греческим богам имена римских божеств. Параллельно разрабатывался «римский миф» — легенды о создании Рима Ромулом, об Энее, о битве Горациев и Куриациев, о самоубийстве Лукреции, о сожжении руки Муцием Сцеволой, о гусях, спасших Рим, и т. д. «Римский миф» в наиболее общей форме предстает у Вергилия как идея о предназначении Рима справедливо править миром, усмиряя дерзких и щадя покорных (сюда же можно отнести обожествление римских императоров).
АНТИЧНУЮ ТЕОГОНИЮ (от греч. theos — «бог» и goneia — «рождение»; происхождение богов) можно свести к следующей схеме: из хаоса (греч. chaos — «зев», «бездна»; позже — беспорядок, неразбериха) возник упорядоченный мир — космос (греч. kosmos — «порядок», «мир», «украшение», «красота»), первые боги: Гея (Земля), Никта (Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна), Эрос (Любовь). От Геи родились Уран (Небо) и Понт (Море). Эти боги не имели внешней персонифицированной формы, ассоциировались со стихиями. Хотя здесь представлены три этапа рождения богов (Хаос — Гея — Уран и Понт), неопределенность этих сил настолько велика, что весь начальный период теогонии можно рассматривать как одно поколение.
|
Рассматривать поколения богов и героев можно не по отцовской, а по материнской линии, тогда отнесение к поколениям будет иным. Некоторые соответствия греческих и римских богов: Эрос - Амур, Крон - Сатурн, Ника - Виктория, Пан - Фавн, Тихе - Фортуна, Эос - Аврора, мойры - парки, музы - камены, хариты - грации; герои: Геракл - Геркулес, Одиссей - Улисс. |
||
|
|
|
|
|
Капитолийская волчица, вскормившая, согласно легенде, основателей Рима Ромула и Рема (V в. до н. э:). |
Артемида - богиня охоты, луны и плодородия. |
А. Мантенья.«Парнас» (1497). |
СТРОЙНАЯ СИСТЕМА античных мифов — на самом деле некая иллюзия. В разные периоды и в разных областях античного мира существовали различные мифологические представления. Единая древнегреческая мифология складывалась на протяжении многих веков из культов местных божеств и превратилась в стройную систему к VIII - V вв. до н. э.
В III в. до н. э. Эвгемер предложил рассматривать всех мифологических персонажей как реально живших людей, а мифологические события — как реальные события истории. По его имени историзация мифов получила название «эвгемеризм». Завершение систематизации всей античной мифологии относится к VII в. н. э. и связывается с трудами Ватиканских мифографов.
Уже на ранних этапах развития человечество хотело запечатлеть наиболее важные события своего прошлого. Этой цели служила эпическая поэзия, которая являлась своеобразной мифологизированной историей. Поэтому в строгой системе жанров античной литературы эпос занимал высшую ступеньку. Античный эпос существовал в виде поэм, написанных стихами, поскольку считалось, что стихотворная форма лучше позволяет сохранить в памяти подлинную словесную ткань устного предания. Поэмы декламировались рапсодами, певцами, сочинявшими песни и исполнявшими их во время пиров и народных торжеств.
ВЕЛИЧАЙШИЕ ПАМЯТНИКИ древнегреческой культуры — героические поэмы «Илиада» и «Одиссея» — связывались в сознании древних греков и последующих поколений с именем слепого поэта Гомера, которого легенда изображает странствующим певцом. Семь городов — Смирна, Хиос, Колофон, Саламин, Родос, Аргос, Афины — спорили за честь называться его родиной.
Поэмы были записаны в VI в. до н. э. по распоряжению афинского тирана Писистрата. Время жизни Гомера определялось по-разному: от XII до VII в. до н. э.
Тема «Илиады» — Троянская война, идея — закономерность победы в этой войне греков, поддержанных олимпийскими богами, несмотря на временные неудачи. При превращении темы в сюжет Гомер впервые использует одно из важнейших свойств литературы, позволяющей ей в ограниченном объеме текста отражать многообразие действительности и связанные с жизнедеятельностью человека представления — метонимичность (от греч.
metonymia — «переименование»; обозначение предмета или явления по одному из его признаков, замена предмета его частью). Гомер выбирает лишь один эпизод 10-го года многолетней войны у стен Трои (Илиона): гнев главного героя греков Ахилла, у которого предводитель греческих войск Агамемнон отбирает военную добычу — пленницу Бризеиду («Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына // Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал» — первые строки, в которых сразу обозначено главное событие сюжета). Обе сюжетные линии — земная и небесная, две связанные с ними системы образов — людей и богов — тесно сплетаются и немыслимы друг без друга.Эпическая природа поэмы сказывается в позиции рассказчика (всезнающего и вездесущего), объективной, обстоятельной манере повествования, описательности (огромное количество деталей, например в знаменитом описании щита Ахилла), соотнесенности с мифологической системой, известной читателю (слушателю), монументальности образов. Преобладание общего над индивидуальным, внешнего над внутренним является важной стилевой особенностью поэмы.
|
В античности сомнений в авторстве Гомера почти не возникало. Ему также приписывались так называемые «Гомеровские гимны», поэма «Маргит», «Киприи» и другие произведения. Небольшая группа филологов («хоризонты» - «разделители») настаивала на том, что слепому аэду - певцу, врачу и заклинателю - принадлежит только «Илиада». В XVII в. аббат д’Обиньяк предложил рассматривать «Илиаду» как механическое сцепление малых поэм, написанных разными авторами. |
||
|
|
|
|
|
Ахилл и Аякс играют в кости. Фрагменты росписи амфоры (530 - 525 до н. э.). |
Одно из возможных изображений Гомера. |
Иллюстрация Д. Бисти к «Илиаде» Гомера. |
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА отмечена связью с фольклорными средствами: в поэме присутствуют повторы, постоянные, нередко двусоставные эпитеты (волоокая о Гере, розовоперстая о богине зари Эос и т. д.), развернутые сравнения. В «Илиаде» много архаизмов. Поэма состоит из 15 695 стихотворных строк, написанных гекзаметром (шестистопный дактиль без рифмовки), хорошо переданном И. И. Гнедичем, современником А. С. Пушкина, в переводе на русский язык. Позднейшие редакторы разделили «Илиаду» на 24 песни.
Вторая гомеровская поэма «Одиссея», также позднее разделенная на 24 песни, несколько меньше по объему (12 110 строк), но обширнее по сюжету (10-летнее возвращение Одиссея после победы греков над троянцами на родной остров Итаку к жене Пенелопе и сыну Телемаку, чему препятствует бог морей Посейдон, но помогает покровительствующая герою Афина, и месть Одиссея дерзким женихам Пенелопы). Во многом характеристика, данная «Илиаде», приложима и к «Одиссее». Однако во второй поэме значительно больше места отведено мифологическим существам: помимо олимпийских богов здесь появляются смертоносные прекрасноголосые сирены, чудовищные Скилла и Харибда, одноглазый киклоп Полифем, волшебница Кирка (Цирцея), нимфа Калипсо и т. д. Одиссей показан героем, способным с помощью острого ума противостоять богам и чудовищам. Замечательно перевел «Одиссею» на русский язык выдающийся поэт-романтик В. А. Жуковский.
Древние приписывали Гомеру первую комическую поэму «Маргит», от которой дошло лишь вступление. Ее герой — Маргит, недотепа и болван, который «много знал, но все плохо». Существование этого произведения ставит под сомнение правомерность утверждения, что пародирование героического эпоса связано с его закатом. Возможно, правильнее говорить о «священном смехе» как параллели героическому восприятию мира.
|
В поэме «Труды и дни» Гесиод излагает праисторический взгляд на существование человечества и выделяет «золотое поколение» (при Кроне, когда люди жили безмятежно и спокойно умирали, «как будто объятые сном», «недостаток был им ни в чем не известен»), затем поколения «серебряного», «медного» веков, поколение «героев» времен Троянской войны. Самое несчастное - пятое поколение «железного века», к которому поэт относит и себя: «Если бы мог я не жить с поколением пятого века! // Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться», - восклицает он, вводя личное чувство в эпический пласт повествования (пер. В. В. Вересаева). Поэма «Батрахомиомахия» рассказывает, как из-за гибели мышонка Крохобора, сына мышиного царя Хлебоеда, по вине властителя лягушек Вздуломорда между мышами и лягушками начинается однодневная битва, так что даже богам приходится удалиться в безопасное место, чтобы за ней наблюдать; только молния, брошенная Зевсом по совету Арея, прекращает страшное побоище. При всем сходстве с гомеровским эпосом «Энеида» - авторское произведение, что отражается в композиции (расчетливое введение вставных эпиллиев - своего рода стихотворных новелл), в демонстрации высокой образованности автора, в отработанности гекзаметра, появлении психологической мотивировки деятельности героев (особенно в описании любви к Энею и гибели карфагенской царицы Дидоны). |
|
Рисунок Д. Бисти к «Энеиде» Вергилия.
|
ПЕРВЫМ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИМ ПОЭТОМ, о жизни которого достоверно известно, считается Гесиод (конец VIII — начало VII в.), автор эпических поэм «Труды и дни» и «Теогония». В первой из них, поводом для создания которой стал судебный процесс автора с братом-персом из-за раздела земли, доставшейся им в наследство после смерти отца, Гесиод описывает труд земледельца, его верования и суеверия, его отношение к жизни. Во второй поэме, «Теогония», повествуется о происхождении космоса из хаоса, генеалогии богов. Это первое в античности систематическое изложение теогонических мифов. Обе поэмы написаны эпическим стихом — гекзаметром.
Поэма «Труды и дни» рассматривается как первый образец дидактического эпоса, поэма «Теогония» — как религиозно-философское эпическое произведение, источник философского эпоса.
Поэма «Батрахомиомахия» («Война лягушек и мышей»), в которой пародируется гомеровский эпос: начальное обращение к музам за поэтическим вдохновением, сопоставление двух сюжетных линий — земной и олимпийской, зажигательные речи предводителей войск перед боем, схема описания поединков, стих — торжественный гекзаметр. «Батрахомиомахия» — самый яркий из дошедших до нас образцов жанра героико-комической поэмы. Она возникла предположительно в конце VI в. до н. э. и необоснованно приписывалась некоему Гомеру и Пигрету Карнасскому.
В РАМКАХ ДИДАКТИЧЕСКОГО ЭПОСА в VI в. до н. э. зарождается жанр философской поэмы, разные образцы которого дошли до нас лишь в отрывках. Философские поэмы с одинаковым названием «О природе» писали Ксенофан, Парменид и Эмпедокл.
Ксенофан из Колофона — древнегреческий поэт и философ — бежал от персов из Колофона в Элею (Южная Италия), стал первым представителем элейской философии, создателем философского эпоса, у истоков которого была «Теогония» Гесиода. Согласно Ксенофану, бог — не человекоподобное существо, а мировой дух, пронизывающий Вселенную. Он критикует антропоморфные представления
о богах: «Черными мыслят богов и курносыми все эфиопы, // Голубоглазыми их же и русыми мыслят фракийцы»; «Что среди смертных позорным слывет и клеймится хулою, // То на богов возвести ваш Гомер с Гесиодом дерзнули».Реформатором древнегреческого эпоса в IV в. до н. э. стал поэт Антимах из Колофона, автор поэмы «Фиваида», где он стремится разрушить сложившиеся литературные штампы и вернуться к подлинной гомеровской традиции, в частности включая в текст воспринимавшиеся уже как архаизмы слова и выражения из поэм Гомера.
Перу римского поэта и философа Лукреция Кара принадлежит философская поэма «О природе вещей» (издана посмертно Цицероном ок. 54), в которой излагается материалистическая философия греческого мыслителя Эпикура (IV - III вв. до н. э.). Лукреций уверен, что знание природы вещей избавляет человека от суеверий и страха смерти. Поэтому он в первых трех книгах поэмы излагает учение об атомах, из которых состоит мир (по представлениям Демокрита и Эпикура), а дальше подробно повествует об астрономии, геологии, истории человеческой культуры (выделяя в ней каменный, бронзовый, железный века, что подтвердили археологи XIX в.). Поэма написана гекзаметром, сближается с поэмами Гесиода, но демонстрирует огромный прогресс в человеческих знаниях.
Высшим достижением в области поэтического творчества римлян в «век Августа» (вторая половина I в. до н. э.) стало творчество Публия Вергилия Марона. Жизнь Вергилия еще в античности стала предметом легенды; вместе с тем древние биографы располагали и рядом точных сведений, восходивших к современникам Вергилия, в частности к его другу, эпическому и трагическому поэту Варию. Согласно сообщению античных жизнеописаний, Вергилий вышел из низов свободного населения северной Италии. Отец его, в прошлом не то ремесленник, не то поденщик, владел участком земли около города Мантуи. Здесь и родился Вергилий (15 апреля 70 г.). Первоначальное образование он получил в соседней Кремоне, затем в Медиолануме (Милане), культурном центре северной Италии, а в конце 50-х гг. переехал в Рим совершенствоваться в риторике и науках. Адвокатская карьера, к которой обычно готовились молодые воспитанники риторической школы, не удалась; Вергилий не обладал ораторскими дарованиями. Молодые годы Вергилия проходили под влиянием неотерической поэзии, и он составлял лирические стихотворения в «новом» стиле, которые вошли в сборник «Мелких стихотворений». Другое влияние исходило от широко распространившейся в эти годы эпикурейской школы, сторонники которой проповедовали уход в частную жизнь и довольство малым.
|
«Буколики» Вергилия. Рисунок Д. Бисти
Гекзаметр - (от греч. hexa-metros - шестимерник) - стихотворный размер: шестистопный дактиль с женским окончанием и с цезурой (паузой), обычно стоящей в середине третьей стопы, чаще всего после ударного слога; в первых четырех стопах трехсложная стопа дактиля может заменяться хореем. Например: Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, Грозный, который ахеянам тысячи бедствий содеял...(Гомер, «Илиада». Пер. Н. Гнедича)
|
Первое значительное произведение Вергилия — сборник «Буколики» (42 - 39 до н. э.) состоит из эклог (стихотворений — диалогов пастухов, изложенных гекзаметром, написанных под влиянием древнегреческого поэта Феокрита, создателя жанра). Особо значимой позже оказалась 4-я эклога, которая в Средние века рассматривалась как предсказание пришествия Иисуса Христа. Вергилия рассматривали как одного из предтеч Христа (в «Божественной комедии» Данте) Вергилий сопровождает поэта в его путешествии не только по аду, но и по чистилищу и расстается с ним в земном раю).
«Георгики» (30-е до н. э.) — дидактическая поэма о труде земледельца, по своему характеру и форме (использование гекзаметра) напоминает «Труды и дни» Гесиода. Идеал Вергилия, воплощенный в поэме, патриархален, связан с сельской, а не городской жизнью.
«Энеида» (29 - 19 до н. э., незаконч.) — величайшее произведение Вергилия и, в известном смысле, всей римской литературы. Взяв за образец «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, Вергилий героем поэмы делает не одного из греков, а их противника — троянца Энея, после разгрома Трои подобно Одиссею совершающего путешествие и находящего приют в Италии. Использование этого мифа имело политический характер: император Август выводил свой род от сына Энея Юла. В «Энеиде» Вергилий поэтизирует императорский Рим. На протяжений столетий «Энеида» была образцом для подражания в области эпической поэзии.
Театр занимал особое место в античной культуре. Он был не только средством развлечения, отдыха, но и мощным орудием в воспитании гражданских добродетелей. «Надо сначала о благе отчизны подумать, после о благе семьи и потом уже только — о нашем», — писал в I в. до н. э. римский поэт Луцилий. Показательно, что билеты на театральные представления для неимущих граждан оплачивали власти полиса.
В КОНЦЕ VI - V В. ДО Н. Э. в Афинах на чашеобразном склоне Акрополя возводится театр Диониса: сначала из дерева, в IV в. до н. э. из камня, на 17 000 зрителей — для всего населения города. Начинается проведение ежегодных театральных состязаний в честь Диониса (первоначально в Великие Дионисии — в марте, со второй половины V в. до н. э. и в праздник Леней — в январе). В первый день представлялось пять комедий, во второй, третий и четвертый — по одной тетралогии: участвовало по три драматурга, представлявших тетралогию — цикл из четырех пьес (трех трагедий и завершающей сатировской драмы, где хор изображал сатиров).
Автор сам ставил свои произведения и первоначально исполнял роль протагониста (от греч.
protos — «первый» и agonistes — «актер») — главного героя. Это точно известно относительно Феспида, Фриниха, Эсхила. Так, Софокл добился всенародного признания как выдающийся актер. Десять судей определяли победителя. Сохранились списки таких состязаний за ряд лет.Трагедия состояла из пролога, парода (вступительной песни хора, выходящего на орхестру — круглую площадку перед скеной — зданием, на возвышенной площадке перед которым — проскении — актеры разыгрывали представление) , трех или четырех эписодиев (действий), стасимов (песен хора между эписодиями), эподом (финал с заключительной песней и уходом хора). Парод и стасимы делились на строфы и сходные с ними антистрофы (под них хор двигался по орхестре то в одну, то в другую сторону). В трагедиях также могут быть монологи героя, коммос (совместный плач хора и героя), гипорхема (радостная песнь хора в кульминации, перед тем как разражается катастрофа).
|
Слово «актер» образовано от латинского act-«действие». Примерно в VI в. до н. э. Феспид добавил к хору одного партнера. Его роль часто брал на себя сам автор. Софокл позже настаивал, что в одной пьесе (сколько бы ролей в ней ни было) не должно участвовать в разговоре более трех актеров. Жалованье актерам выплачивало государство. В Греции актеры были свободными людьми, в Риме, как правило, - рабы и вольноотпущенники. Несмотря на общее презрение к занятию актерством, некоторые из выдающихся исполнителей наживали приличные состояния. Костюмами актеров были маски с париками, котурны (от греч. kdthornos - «сапог из мягкой кожи на высокой платформе, напоминавший порой ходули»), кожаный фаллос (для участия в комедиях и сатировских драмах). Роли женщин исполнялись мужчинами. Актеры мастерски владели пантомимой, танцевали, пели и выразительно читали монологи.Уже в дифирамбах (от греч. dithyrambos - «хвалебный призыв «Thriambe Dithyrambe» в честь бога Диониса») Ариона присутствовало трагическое воодушевление, диалог корифея (от греч. koryphrfos - «вождь») и хора (от греч. chords «место для танцев», «группа танцовщиков», позже - поющих исполнителей), одетого козлоногими сатирами - спутниками Диониса. Из дифирамба рождается жанр трагедии (от греч. tragos - «козел» и ōdē — «песнь»).Всего за 240 лет развития жанра трагедии только значительными трагиками было создано более 1500 произведений. Но из сочинений древнегреческих трагиков до нас дошли только семь трагедий Эсхила (в том числе одна трилогия «Орестея»: «Агамемнон», «Хоэфора», «Эвмениды» - 458 до н. э.), семь трагедий и отрывки одной сатировской драмы Софокла, 17 трагедий и одна сатировская драма Еврипида (авторство еще одной трагедии оспаривается). |
|
|
|
Реконструкция афинского театра Диониса. |
ОТЦОМ ТРАГЕДИИ считают Эсхила. Он ввел в представление второго актера (дейтерагониста), привнеся в трагедию черты именно драматического действа с ведущей ролью актера. Позже по примеру Софокла он ввел и третьего исполнителя (тритагониста). С 500 г. до н. э. Эсхил принимал участие в состязаниях трагиков и одержал в них 13 побед. Нам известны по названию 79 его трагедий, семь из которых дошли полностью: «Умоляющие» (ок. 470 до н. э.; далее даты произведений в разделе указаны до христианского летоисчисления), «Персы» (472; о победе афинян над персами при Саламине), «Семеро против Фив» (467; о походе Полиника против родного города, из трилогии об Эдипе), «Молящиеся» (ок. 460; из трилогии о Данаидах), трилогия «Орестея» (458; трагедии «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды» — об убийстве Орестом своей матери Клитемнестры из мести за осуществленное ею убийство своего мужа Агамемнона, суде над Орестом, преследуемым эриниями — богинями мести). «Прометей Прикованный» (дата неизв.) — самая знаменитая из трагедий. Герой, восставший против тирании Зевса, стал вечным образом мировой литературы. Концепция трагического у Эсхила основана на вере в закон мировой справедливости, нарушение которого приводит к несчастьям и гибели. Его герои поразительно цельны, монументальны.
|
Как воин Эсхил был участником битв при Марафоне (490 до н. э.) и Саламине (480 до н. э.) против персов. Предание связывает с последней битвой судьбы трех великих трагиков: тяжеловооруженного ратника Эсхила в числе победителей приветствовал юный Софокл, певший в хоре, а Еврипид, уроженец острова Саламин, появился на свет. |
|
|
|
Аполлон укрывает Ореста в Дельфах. Мотив из «Эвменид» Эсхила. Фрагмент росписи сосуда. |
СОФОКЛ — второй великий греческий трагик, в 486 г. победивший в состязании Эсхила, 24 раза занимавший первое и ни разу не занимавший последнего, третьего места. До нас дошли семь его трагедий («Аякс» и «Антигона», обе - 442; «Трахинянки», год постановки неизвестен; «Эдип-царь» и «Электра», между 430 - 415; «Эдип в Колоне», 401; «Филоктет», 409), 400 стихов из его сатировских драм «Следопыты» и «Похищение коров мальчиком Гермесом», некоторые другие отрывки.
Софокл кроме ввода третьего актера и декораций уменьшил роль хора, пренебрегая трилогической композицией, увеличил законченность каждой трагедии. Его главный персонаж — не бог, а сильный человек, чей характер определяет действие в значительно большей мере, чем у Эсхила. Софокл уделяет пристальное внимание мотивировке поступков героев. На первый план выходит не проблема рока, а проблема нравственного выбора. Так, Антигона в одноименной трагедии, повинуясь нравственному долгу, принимает решение похоронить тело брата, несмотря на запрет властей. Она сама выбирает свою судьбу, что является главным признаком трагического героя.
|
Софокл был соратником Перикла, при котором Афины достигли небывалого расцвета, участвовал в военных действиях в качестве стратега (военачальника). В 420 г. он ввел в Афинах культ бога врачевания Асклепия (обожествленного египетского мудреца, строителя первой пирамиды, врача фараона Имхотепа). Герои и сюжеты трагедий Еврипида лишены эсхиловской цельности, софокловской гармоничности, но он обращается к тайнам человеческой души - запретным и неожиданно обескураживающим страстям (любовь Федры к пасынку в «Ипполите увенчанном»), неразрешимым задачам (отец должен принести в жертву свою дочь - «Ифигения в Авлиде»), неоправданно жестоким поступкам (Медея убивает своих детей, чтобы отомстить охладевшему к ней Ясону. - «Медея»). |
||
|
|
|
|
|
«Эдип: «О свет! Тебя в последний раз я вижу! // В проклятии рожден я, в браке проклят, // И мною кровь преступно пролита». |
Еврипид. |
Медея скрывается на колеснице Солнца. Внизу остается побежденный Ясон. Мотив из «Медеи» Еврипида. Фрагмент росписи чаши. |
САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ ТРАГЕДИЯ Софокла - «Эдип-царь». Аристотель считал эту трагедию наиболее совершенным примером использования трагических перипетий (от греч. peripeteia — «перелом») — переходов от счастья к несчастью и наоборот. В наиболее полном виде реализована идея трагической вины героя.
В трагедии использована ретроспективная композиция: истоки событий лежат не в настоящем, а в прошлом. Герой пытался бороться с судьбой: узнав от оракула о том, что он может убить отца и жениться на матери, он бежал от своих родителей, не подозревая, что они не родные ему. По дороге в Фивы он совершил случайное убийство, а по прибытии в этот город, который он спас от Сфинкса, отгадав его загадку, принял предложение править им и взять в жену царицу-вдову. Только теперь, в рамках сценического времени, он понял: предсказание сбылось. Эдип не может побороть рок, но он может принять нравственное решение и наказать себя.
Младший из трех великих греческих трагиков — Еврипид — получил наибольшее признание в последующие эпохи. Современники его ценили значительно меньше. Из написанных и поставленных им 22 тетралогий только четыре были удостоены первого места (первая в 455). До нас дошла его сатировская драма «Киклоп» и 17 трагедий, из которых наиболее знамениты «Медея» (431), «Ипполит увенчанный» (428), а также «Гекуба» (424), «Андромаха» (427), «Ифигения в Тавриде» (ок. 414), «Троянки», «Электра» и «Орест» (все — 408), «Ифигения в Авлиде» (поставлена после смерти автора).
Если Софокл показывал людей, какими они должны быть, то Еврипид — такими, какие они есть. Он основное внимание уделил психологическим противоречиям, которые заставляют героев совершать неправильные поступки, приводящие их к трагической вине, к несчастьям и гибели. Аристотель считал Еврипида «наиболее трагическим поэтом». Ситуации, в которые попадают его герои, нередко настолько безвыходны, что Еврипиду приходится прибегать к искусственному приему deus ex machina («бог из машины»), когда ситуацию разрешают появившиеся на сцене боги.
Его герои доходят до исступления. Гекуба, потерявшая детей, опускается на землю и стучит кулаками, чтобы ее услышали боги подземного царства. Тесей, проклиная ни в чем не повинного Ипполита, требует от богов исполнить его желание и убить сына. Несомненно, на представлениях трагедий Еврипида зрители в большей степени, чем на представлениях трагедий его предшественников, должны испытать катарсис (от греч. katharsis — «очищение души через страх и сострадание»).
Среди римских авторов трагедий следует выделить Луция Аннея Сенеку Младшего (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.). В его трагедиях (например, «Медея», «Эдип», «Федра») реализовано новое понимание катарсиса (разделение страха и сострадания, закрепление источника этих чувств не за одним персонажем, а за злодеями, с одной стороны, и за невинными жертвами — с другой).
|
Коллективный смех так же объединяет людей, как совместное переживание ужаса и горя. Аристотель связывал истоки комедии с запевалами фаллических песен, прославлявших плодородие и позволявших себе делать острые выпады (инвективы) в адрес известных лиц.
Менандр держит маску юноши, на столе - маски женщины и старика. |
СЛОВО «КОМЕДИЯ» происходит от греческого comos — «веселое шествие», «шумное гуляние», а также «толпа», «рой» и ode — «песнь».
Можно предположить, что целью комедии было достижение комического катарсиса: с помощью смеха (восходящего к священному смеху ритуальных шествий в честь бога Диониса) — очищение без посредства страха и сострадания.
ПЕРВЫМ КОМЕДИОГРАФОМ, чье имя и небольшие фрагменты дошли до нас, был Эпихарм (вторая половина VI — первая половина V в. до н. э.) — родоначальник дорийской (или сицилийской) комедии. Он придал ей законченность, афористичность, бытовой или пародийно-мифологический характер, ввел образ парасита (греч. parasitos — «сотрапезник»; позже — нахлебник). Попав в Аттику, жанр преобразовался, в нем появился хор (которого не было в сицилийской комедии). Постепенно сложилась форма древнеаттической комедии, которая состояла из большого пролога, парода (входа хора из 24 человек), эписодиев, разделяемых песнями хора, агона — спора действующих лиц на важную, актуальную тему, эписодиев после агона, в которых показывались результаты победы одного из споривших. В комедию включалась также парабаса — прямое обращение хора к зрителям с изложением (иногда без связи с сюжетом) взглядов автора на проблемы жизни полиса. Во время исполнения парабасы хор снимал маски. Комедии писались в основном триметром (шестистопным ямбом). Эти черты формы комедии представлены в наиболее развитом виде у Аристофана.
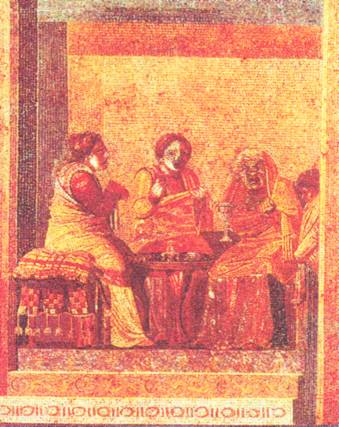 |
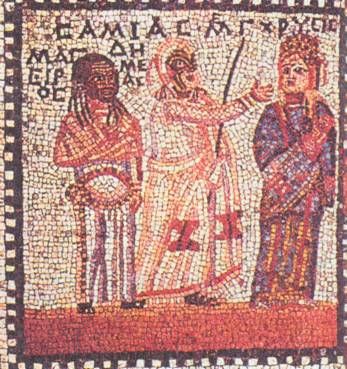 |
|
Мозаичные сцены из «Женщин за завтраком» и «Самиянки» Менандра. Помпеи (ок. 100 до н. э.). |
|
ПЕРВАЯ АТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ была представлена на празднике Великих Дионисий в 486 г. до н. э. Известны имена, а также фрагменты произведений примерно 60 комедиографов V в. до н. э. (древнеаттическая комедия), свыше 50 комедиографов — представителей среднеаттической комедии (404 - 323 гг. до н. э., период кризиса жанра), около 60 комедиографов — представителей новоаттической комедии (эллинистический период). Но только некоторые комедии Аристофана и представителя новоаттической комедии Менандра дошли полностью.
Менандр (342 - 291 до н. э.) вводит пятиактное членение комедии с утрачивающими важную роль партиями хора между действиями, широко применяет сложившийся в предыдущий период принцип комической маски — ограниченного амплуа (от фр. emploi — «закрепленный за актером набор ролей, наиболее подходящих к его внешности, мимике, манере говорить»; привычка воспринимать человека в одном только образе): хвастливый воин, брюзга, злодей, простак, влюбленные, лентяй, авантюрист. Сюжеты Менандра пронизаны перипетиями семейной, личной, а не гражданской жизни. В его творчестве утвердилось написание комедий шестистопным ямбом и восьмистопным хореем.
Аристофан был признан создателем комедии. Из примерно 40 его комедий сохранилось 11. В них Аристофан поднимает актуальные общественные проблемы.
Так, в комедии «Лисистрата» (411) находит неожиданное решение проблема войны и мира: женщины, договорившись между собой, отказывают своим мужьям в ласках до тех пор, пока они не прекратят воевать и не заключат мир. В комедии «Облака» (423) критикуются софисты, обучающие граждан, как с помощью ораторского искусства и ложного философствования обманывать людей, в произведении в смешном виде выведен Сократ (хотя на самом деле мудрец был противником софистов). Аристофан оказал решающее влияние на развитие жанра комедии в античную эпоху, которое продолжает ощущаться вплоть до наших дней.
|
Словом «кйтарсис» называют переживание человеком чувства освобождения от страха и обеспокоенности, жажду жизни. Причем достигается оно неожиданно, в одно мгновение. Страдание и его преодоление вместе с героем вселяет в человека надежду, придает новые силы. Платон считал катарсис ступенью в погружении в лоно божества, соединением всех человеческих добродетелей. Аристотель (в «Поэтике») скорее всего имел в виду тяготение человека к гармонии, спасительной божественной «золотой середине» - auerea mediocritas. Это вызывание у любого человека (царя и раба, ремесленника и торговца, женщины или мужчины, ребенка или старика) ощущение причастности к вечной красоте Земли. Это трудный путь к убежденности в бессмертии души и величии человека. Немецкий драматург XX в. Б. Брехт называл катарсис омовением, которое «совершается непосредственно ради удовольствия». Катарсис - цель любого вида искусства. Это одно из основных понятий эстетики.Аристотель в «Поэтике» (ок. 350) считал, что «комедия <.. .> есть воспроизведение [мимесис] худших людей, однако не в смысле полной порочности, но поскольку смешное есть часть безобразного: смешное - это некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное; так, чтобы недалеко ходить за примером, комическая маска есть нечто безобразное и искаженное, но без выражения страдания» (пер. В. Г. Аппельрота под ред. Ф. А. Петровского). В этом определении (предварительном: часть «Поэтики», посвященная комедии, не сохранилась) Аристотель не говорит о цели комедии. |
|
|
|
|
|
Пародийное изображение сцены из «Женщин на празднике Фесмофорий» Аристофана. |
Молодые солдаты вызывают пением и танцами дух из могилы. Фрагмент изображения на вазе. Ок. 490 до н. э. |
ТИТ МАКЦИЙ ПЛАВТ был, возможно, плясуном-мимом в ателлане — народной италийской комедии (Плавт — по-латински «плосконогий», танцующий в плоской обуви). Из 21 комедии, которые еще в древности были признаны бесспорно принадлежащими Плавту, сохранилось 20 и одна в отрывках. Жанр, который разрабатывал Плавт, — паллиата (комедия из греческой жизни) — вырос из подражания средне- и новоаттической комедии, прежде всего Менандру, и соединился с италийской ателланой. Плавт писал для плебса. Его задача — увлечь и рассмешить простой народ; отсюда грубоватый юмор, источник комического — множество смешных эпизодов, связанных с переодеваниями (в том числе мужчины женщиной в «Касине»), подсматриванием, потасовками. Плавт представляет раба более находчивым и удачливым, чем его господина (в духе народной смеховой культуры), выводит целую галерею персонажей, наделенных пороками: хвастовством («Хвастливый воин»), скупостью («Горшок»), паразитизмом («Куркулион»).
В своих произведениях Плавт для усиления напряженности интриги прибегает к контаминации (соединяет сюжеты нескольких греческих комедий), сочиняет неологизмы из латинских и греческих морфем, широко использует пословицы и поговорки, вместо шестистопного ямба и восьмистопного хорея, которыми пользовался Менандр, вводит разнообразие метров, поставив стих в зависимость от содержания конкретной сцены.
Публий Теренций Афр был рабом, затем вольноотпущенником, написал шесть комедий в жанре паллиаты. В четырех из них первоисточниками были пьесы Менандра. Чтобы найти новые тексты своего кумира, Теренций отправился в Грецию, но по дороге назад погиб в результате кораблекрушения. Теренций отошел от площадного смеха Плавта, его комедии мягче по тону, психологичнее.
Его излюбленный мотив — случайное узнавание («Свекровь», 160). Комедии Теренция написаны простым и правильным стилем, поэтому по ним в Средние века изучали латинский язык.
Возникновение и становление лирической поэзии отразило сложный и долгий процесс выделения человека из рода, освобождения его от норм родоплеменного общества.
|
Греки так объясняли слово «ямб». Деметра после похищения ее дочери Персефоны пребывала в печали, пока ее не рассмешила непристойными шутками служанка элевсинского царя Келея Ямба. В память Ямбы во время Элевсинских мистерий, посвященных Деметре, было принято осмеивать участников процессии. Современная же наука выводит термин из названия музыкального инструмента, которым сопровождалось исполнение ямбов (по названию другого инструмента истолковывается происхождение термина «элегия»). |
ВЫРАЖЕНИЕ «ЛИРИЧЕСКИЙ ПОЭТ» было введено античными учеными из Александрии для обозначения поэтов, которые в отличие от поэтов эпических, использовавших гекзаметр, писали свои стихи другими метрами. По используемому метру древнегреческая лирика делилась на элегию, ямб и мелос. Однако совокупности этих форм (в дальнейшем — жанров, группы жанров) соответствовало общее содержание, противопоставлявшее лирику эпосу: если эпос в основном повествует о прошлом, о богах и героях, то лирика в основном пела о настоящем, в том числе о чувствах поэта. На этой основе впоследствии определилось новое, близкое к современному содержание лирической поэзии.
|
Греческий поэт Гиппонакт (вторая половина VI в. до н. э.) изобрел разновидность ямба - холиямб («хромой ямб» с хореическим окончанием строки), еще больше приближающий поэзию к разговорной речи. Это же обращение к обыденности отмечается и в содержании его стихов: «Я злу отдам усталую от мук душу, // Коль не пришлешь ты мне ячменных круп меру. // Молю не медлить. Я ж из круп сварю кашу, // Одно лекарство от несчастья мне: каша!» (пер. Вяч. Иванова).
Линос обучает искусству стихосложения молодого поэта. |
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, написанные элегейоном — элегическим дистихом (первая строка — гекзаметр, вторая — пентаметр), назывались элегиями. Первым элегиком, имя которого дошло до нас, был Каллин (ок. VII в. до н. э.), уроженец г. Эфеса (Иония, в Малой Азии). От него дошли лишь 23 стихотворные строки. Когда киммерийцы вторглись в Малую Азию, Каллин в элегии призвал юношей Эфеса защитить родину: «Будете спать вы доколе? Когда мощный дух обретете, // Юноши? Даже людей, окрест живущих, и тех // Вы не стыдитесь средь лени безмерной? Вы мните, что в мире // Жизнь провождаете? Нет! — всюду война на земле!» (пер. Г. Церетели). По этим стихам можно понять как содержание первых элегий (так называемые воинственные элегии), так и форму элегейона. Другим автором воинских элегий был Тиртей (вторая половина VII в. до н. э.). В одной из них он писал: «Славное дело — в передних рядах со врагами сражаясь, // Храброму мужу в бою смерть за отчизну принять!» (пер. Ф. Зелинского). Тиртей писал не только элегии. Его эмбатерий (маршевая песня), начинающийся словами: «Вперед, о сыны отцов, граждан // Мужами прославленной Спарты» (пер. В. Латышева), стал прообразом «Марсельезы». Первый из известных авторов другой разновидности элегии — эротической — Мимнерм (вторая половина VI в. до н. э.). В первых же строках одного из его стихотворений обозначается новая тема: «Без золотой Афродиты какая нам жизнь или радость? // Я бы хотел умереть, раз перестанут манить // Тайные встречи меня, и объятья, и страстное ложе. // Сладок лишь юности цвет и для мужей, и для жен» (здесь и далее пер. В. В. Вересаева). Однако еще нельзя говорить об описании личного чувства: в стихах нет ни намека на предмет его любви, которая носит скорее священный характер. Творчество Мимнерма оказало большое влияние на александрийских поэтов (Каллимах), поэтов Древнего Рима (Тибулл, Овидий, Гораций и др.).
Развитие жанровых разновидностей элегии связано с именами поэтов VII - VI вв. до н. э. — Солона (политическая элегия), Феогнида (дидактическая элегия, в частности, в одном из наставлений поэта своему любимцу Кирну, содержащем мотив бессмертия в памяти людей, которое дает поэт, ученые видят один из источников той оды Горация, подражанием и развитием которой стал «Памятник» А. С. Пушкина, 1836), Ксенофан (философская элегия).
Древнейший представитель ямбической поэзии — Архилох (середина VII в. до н. э.).
Аристотель отмечал многообразие созданных им ямбических форм, хотя вслед за Платоном осуждал за грубость нападок в его стихах. Действительно, например, после ссоры с отцом своей возлюбленной Необулы Ликамбом он написал довольно озлобленный ямб: «Что в голову забрал ты, батюшка Ликамб, // Кто разума лишил тебя? // Умен ты был когда-то. Нынче ж в городе // Ты служишь всем посмешищем». Но ямбы Архилоха не обязательно связаны с насмешкой. 15 них нередко проявляются личные чувства, размышления поэта: «О многозлатом Гигесе не думаю, //И зависти не знаю. На деяния // Богов не негодую. Царств не нужно мне: // Все это очень далеко от глаз моих».
Вокальная лирика, в которой поэзия соединялась с пением и танцем, называлась меликой (мелосом — от греч.
melos — «песнь»). Виды мелики различались по типу мелодии, основанной на дорийской гармонии (величественного, мужественного характера), эолийской гармонии (веселого, уверенного, гордого, а также чувственного, нежного характера), ионийской гармонии (торжественного характера с оттенком тревожности, беспокойства, грусти) и некоторых других. Так, эолийский мелос, развившийся на острове Лесбос, был связан с политической жизнью и выражением личных чувств поэтов, представлен именами Алкея, Сапфо. Алкей (конец VII — начало VI в. до н. э.) писал «песни борьбы» о политических распрях и негодном, по его мнению, правителе Питтаке, гимны Аполлону, Гермесу, Афине, Гефесту, Эроту, застольные (воспевающие вино) и эротические песни. Он изобрел так называемую алкееву строфу, состоящую из четырех строк, которую позже заимствовал Гораций. Сохранилось стихотворение Алкея, адресованное Сапфо, с несмелым признанием в любви (пример алкеевой строфы).Сапфо (начало VI в. до н. э.), одна из величайших поэтесс в мировой литературе, принадлежала к кругам лесбосской аристократии, после изгнания Питтаком с Лесбоса жила на Сицилии, вернувшись по разрешению Питтака на Лесбос, основала там «дом, посвященный музам», — школу для обучения девушек наукам, пению и музыке. Любовь к своим ученицам — одна из основных тем поэзии Сапфо. Выдающимся греческим меликом, вызвавшим еще в античности, а затем и в европейской поэзии Возрождения и Нового времени массу подражаний, был Анакреонт (вторая половина VI в. до н. э.; например, «анакреонтика» у Г. Р. Державина и А. С. Пушкина). Излюбленные мотивы его поэзии — любовь, вино, сожаление о старости.
Параллельно личной поэзии, исполнявшейся одним автором-певцом, развивалась хоровая лирика (крупнейшие представители — Симонид, Пиндар, Вакхилид). Ее основателем считается Арион (VII в. до н. э.), ни одно произведение которого не сохранилось, хотя древние знали около 2000 его стихов. Он создал жанр дифирамба как хоровой песни, исполнявшейся в честь бога Диониса. Дифирамб строился как песня запевалы, которой вторил хор (до 50 человек), сопровождался танцем, доводившим исполнителей до экстаза, что вытекает из оргиастического характера поклонения Дионису.
Величайший представитель античной хоровой лирики — Пиндар (ок. 521 - 441 до н. э.). Он написал около 4000 произведений, из которых наибольшее значение имеют сохранившиеся 45 эпиникиев (торжественных од о победе). Эпиникий, который нередко писался на заказ, посвящался прославлению победителя игр — отсюда разделение его од на Олимпийские, Пифийские, Немейские, Истмийские. Пиндар в духе требований к ораторской речи начинает оду с прославления победителя (одна триада), затем излагает какой-либо подходящий к случаю миф (две или три триады) и заканчивает возвращением к герою эпиникия (одна триада). В триаду входят строфа сложного строения (зависящего от мелодии песни), сходно построенная антистрофа и отличающийся от них по ритму, количеству слогов в строке эпод, подводящий итог триаде.
|
Еще в древности александрийские ученые выделили девять выдающихся поэтов: Пиндара, Симонида, Вакхилида, Алкея, Сапфо, Алкмана, Стесихора, Ивика и Анакреонта. Римский ритор Квинтиллиан подтвердил этот выбор, подобно александрийцам назвав Пиндара «первым из девяти лириков». Основоположником жанра идиллии, или буколики (от греч. bukolos - «пастух»), был Феокрит. Идиллии (от греч. eidyllion - «картинка») весьма наглядно и живыми красками изображают жизнь и быт пастухов и их соревнования в пении. Феокрит создал образ томящегося любовью пастуха.Страстное любовное чувство существует у Сапфо как бы не в душе, а в телесном выражении. Следует учитывать, что любовь у греков понималась как нечто сакральное, как служение богам любви, как некий таинственный обряд, приобщающий человека к миру божественного. Поэтому говорить об индивидуальном чувстве Сапфо или какого- либо иного поэта или поэтессы неточно. |
|
|
|
|
|
Публий Овидий Назон. |
Страница поэмы Овидия «Метаморфозы». Рукопись XV в. |
ЛУЧШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ римской лирической поэзии относятся к «золотому веку» древнеримской литературы. Так принято называть I в. до н. э., когда жили и творили Катулл, Вергилий, Овидий, Гораций. Наиболее заметной поэтической группой были неотерики (лат. юношеский, молодой), которых возглавлял Гай Валерий Катулл (ок. 87 — 54 до н. э.). Неотерики, с подозрением относясь к установлению единоличной власти Юлия Цезаря, ушли в сферу интимных чувств, от больших эпических жанров перешли к малым формам поэзии — эпиллиям (малым эпическим поэмам), элегиям, эпиграммам. В сборнике из 116 стихотворений Катулл предстает прежде всего как лирик, воспевающий свою возлюбленную Клодию, сестру трибуна Клодия Пальхра, под именем Лесбия. Покровительствуемый Меценатом, в один из поэтических кружков входил другой поэт Древнего Рима — Квинт Гораций Флакк. Впервые Гораций обратил на себя внимание своими эподами, написанными в подражание Архилоху. Эпод — произведение, написанное в перемежающемся ритме (например, с чередованием дактилических и ямбических диметров). У Горация это стихи, посвященные современности, в которых можно встретить как восхваление (Мецената, Августа), так и резкую критику (например, вольноотпущенников, проникших во власть благодаря хитрости). За сборником из 17 эподов последовало две книги сатир, написанных гекзаметром и по ряду черт сближающихся с диатрибой — жанром, разработанным философами-киниками (живая беседа на философские темы). В сатирах не только критикуются различные пороки, поразившие римское общество (жадность и зависть, мотовство и властолюбие), но и утверждается некий авторский идеал: уход в частную жизнь, общение с природой, которого нельзя найти в городе, патриархальный уклад.
В 23 г. до н. э. выходят три книги «Од» Горация (38 од в 1-й, 20 — во 2-й, 30 — в 3-й); в 13 г. до н. э. Гораций добавил к ним 4-ю книгу (15 од), где, повинуясь императору Августу, воспел подвиги его пасынков — Тиберия и Друза. Особенно важно «Послание к Писонам» (иначе — «Об искусстве поэзии»), где изложена нормативная поэтика Горация, сыгравшая значительную роль при разработке поэтики классицизма.
Традиционно считается, что Средние века начались в 476 г., когда под натиском варваров пала Западная Римская империя. Современная точка зрения совершенно иная: переход от Античности к Средневековью занял несколько веков, примерно с
III по VI в. В свете историко-теоретического подхода стало очевидно, что поздняя античность должна рассматриваться как переходный период в развитии литературы.
|
В поэме Авсония «Мозелла» лирический герой удаляется от мест, где «по равнине лежат, не оплаканы, бедные толпы» и на судне плывет по реке Мозеле (приток Рейна), описывая превосходным гекзаметром все, что видит вокруг: повороты реки, виноградники, запоздалых поселян, безусых гребцов. Несколько страниц он уделяет описанию рыб, плавающих в реке, не забывая сообщить об их гастрономических качествах. Надеясь доставить удовольствие проконсулу Пакату, Авсоний посылает ему сборник «Технопегии» («Шутки ремесла»): «бесполезный плод моего безделья», - где помещены «Стихи, начинающиеся и кончающиеся односложиями, всякий раз одними и теми же», «Стихи, которые только кончаются односложиями», «Молитва ропалическая» (в которой строка состоит последовательно из 1, 2, 3, 4, 5- сложных слов, например в русском переводе: «Бог Отец, податель бессмертного существованья, // Слух склони к чистоте неусыпных молитвословий»), «Свадебный центон» (центон - жанр формальной поэзии: составление нового стихотворения из строк произведения другого поэта). В тюрьме Боэций создал философский трактат в пяти книгах в прозе со стихотворными вставками «Утешение Философией». Философия, «женщина с ликом, исполненным достоинства, и пылающими очами, зоркостью своей далеко превосходящими человеческие, поражающими живым блеском и неисчерпаемой силой», является к нему в тюрьму и призывает его забыть земные блага, которых он лишен, и предаться высшему благу - духовному. |
ПОНЯТИЕ «СРЕДНИЕ ВЕКА» возникло в XV в., когда итальянские гуманисты (Л. Бруни и др.), осознав прошлое как историю, разделенную на периоды, выделили эпоху Античности (древности) и сходную по мироотношению свою эпоху — Новое время, а тысячелетие, лежащее между этими двумя эпохами, назвали
«medium aevum» (лат. «средний век», позже стали говорить «средние века»), С точки зрения гуманистов Возрождения, а позже — просветителей XVIII в., Средневековье — мрачная эпоха гибели высокой античной культуры, эпоха варварства и засилья церкви, настоящий провал в европейской истории. Только в XIX в., во многом под влиянием романтиков, ученые увидели в Средневековье закономерный этап развития общества, а в средневековой литературе и искусстве была обнаружена своя глубина и красота.В первые века нашей эры в литературе существовали нисходящая и восходящая линии. Первая была связана с античной традицией, базировалась на языческой мифологии и античной философии, которые в этот период испытывали жесточайший кризис. В литературе поздней античности это обнаруживается со всей очевидностью в таких проявлениях, как эскепизм (от англ.
escape — «бегство»; уход от общественно важного содержания), формализм (безусловное предпочтение экспериментов с формой разработке нового содержания литературы), риторизм (подчинение литературы риторическим правилам, рассмотрение поэтической деятельности как учебной работы при освоении риторики), комплиментарность (зависимость писателей от властителей и меценатов; восхваление сильных мира сего, отход от собственно эстетической роли писательства). Указанные особенности словесности того времени были в творчестве поэта IV в. периода «серебряной латыни» (в память о «золотой латыни» Вергилия, Горация, Овидия, Цицерона) Децима Магна Авсония (ок. 310 - 394). Самое известное произведение Авсония — поэма «Мозелла» — один из первых образцов жанра описательной поэмы, который возродится лишь в XVIII в. С этой точки зрения Авсоний — несомненный новатор и большой мастер. Но при этом очевидно отсутствие глубокого содержания, постановки вопросов о самых больных вопросах современности. Еще большей изощренностью отличался поэт IV в. Порфирий Оптациан, писавший поэтические квадраты. В стихах этого жанра количество строк соответствует количеству букв в строке. В поэтических квадратах использовались палиндромы (от греч. palindromeō — «бегу назад»; тексты, которые одинаково читаются в обе стороны). Поэтические квадраты Порфирия, преподнесенные им императору Константину в 325 г., намного сложнее: строка в несколько раз длиннее, поэтому составить палиндром было намного труднее. Некоторые буквы Порфирий раскрашивал красной краской, составляя рисунок (павлина в стихотворении «Павлин», фонтана в стихотворении «Фонтан» и т. д.). Причем, если читать только красные буквы, получалось еще одно стихотворение, нередко на греческом языке. При такой формальной усложненности содержание не могло быть значительным.ПОСЛЕДНИМ ПИСАТЕЛЕМ АНТИЧНОСТИ нередко называют Аниция Манлия Торквата Северина Боэция (ок. 480 - 524 или 525), жившего уже не в Римской империи, а ставшего первым сановником и сенатором при дворе правившего в Италии остгота Теодориха. Его переводы с греческого и комментарии (в частности, перевод трудов греческого неоплатоника Порфирия и «Комментарий к Порфирию») в течение более чем 500 лет были для Западной Европы единственным источником сведений об Аристотеле и неоплатониках. Преклонение перед греками сыграло роковую роль в его жизни: по обвинению в государственной измене он был заключен в тюрьму и затем казнен. Будучи христианином, Боэций продолжает опираться на авторитеты античной философии, соединяет библейскую образность с языческой («Ведь Вседержитель — один родитель всего в этом мире. // Он ведь дал Фебу лучи, и рога только он дал Селене»). Философское размышление (а не аргументы веры) приводит его к выводу: «Следовательно, остается в неприкосновенности свобода воли смертных, и справедливы законы, определяющие меру наград и наказаний, так как человеческие желания не связаны необходимостью».
Наряду с нисходящей линией в переходный период между Античностью и Средневековьем развивалась восходящая линия литературы, которой не были присущи названные черты кризиса. Это литература раннего христианства. Ее источник — Новый Завет. Новый Завет в канонической форме, утвержденной (как и канон Ветхого Завета) александрийским епископом Афанасием Великим (295 - 373), сыгравшим выдающуюся роль в мировой культуре, включает в себя четыре Евангелия (благовествования): от Матфея, от Марка, от Луки (синоптических — сходных по тексту) и от Иоанна, а также «Деяния апостолов» (прежде всего Павла), 21 послание (эпистолярная форма поучения): 14 от Павла, два от Петра, три от Иоанна, одно от Иакова, одно от Иуды (не путать с предателем Иудой); завершающее канон произведение — «Апокалипсис (Откровение) Иоанна Богослова».
Еще во II в. епископ Иреней утверждал божественное происхождение Евангелий, а в III в. Ориген и в начале IV в. «отец истории церкви» Евсевий Кесарийский называли их «в лоне церкви необоримыми в поднебесной». Текст Нового Завета, отделенный от апокрифических евангелий и других неканонизированных источников, воспринимался как священный миллионами христиан с IV в. до наших дней. Священными воспринимались разными народами и переводы Нового Завета на сирийский (II - III вв. — «Пешишта»), латинский (коллективный — «Итала» и «Вульгата» Св. Иеронима — конец IV в.), армянский, грузинский (V в.), старославянский (Кирилла и Мефодия, IX в., и последующие славянские переводы), немецкий (М. Лютера и реформатская «Цюрихская Библия», XVI в.), английский («Библия Иакова I», XVII в.), русский (синодальный перевод, 1876 г.) и другие переводы. Сквозь призму образов и языка Нового Завета воспринимался весь окружающий мир. Поэтому влияние Библии на литературу имеет беспрецедентный характер. Новый Завет дал писателям идеи (Христова любовь к ближнему, непротивление злу насилием), систему образов (Иисус Христос, Богоматерь, апостолы, Иоанн Креститель, Понтий Пилат, Иуда, крест, Мария Магдалина, Вифлеемская звезда, число зверя и т. д.), жанровые образцы (притча, житие, видение, проповедь, послание), сюжеты (рождение, крещение, распятие, воскресение, явления Христа, судьба апостолов и т. д.), образ мышления, язык, которому подражали не только религиозные, но и светские писатели.
Апологетами (от греч.
apologeticos — «защитительный») назывались писатели — защитники христианства в период гонений на него во II - III вв. Наиболее известен из них Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан, прозванный Неистовым (160 — после 220). Сохранилось 31 его произведение, в том числе «Защита от язычников». В ней отрицается вся античная философия, литература — культура, основанная на язычестве. В трактате «Против гностика Гермогена» отвергнуты основные идеи гностицизма, утверждавшего двуединство мира, борьбу сил Добра со столь же мощными силами Зла. В «Опровержении еретиков» неправота ересиархов обосновывается тем, что они моложе апостолов и, следовательно, дальше от Христа — источника истины.
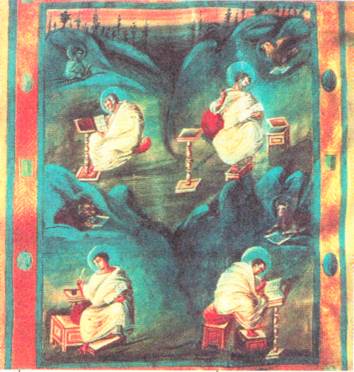 |
 |
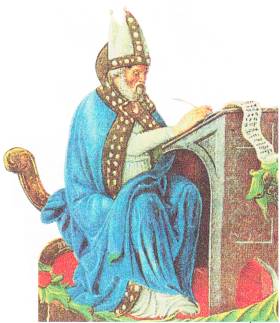 |
|
Четыре евангелиста - Матфей, Иоанн, Марк, Лука. Сокровищница IX в. Аахен. |
Мозаик в куполе баптистерия (помещение для крещения) в Равенне. В центре - крещение Христа, по кругу - фигуры апостолов |
Отец церкви св. Августин. Миниатюра Никколо Полано (ок. 1459). |
АВРЕЛИЙ АВГУСТИН, прозванный Блаженным — наиболее авторитетный из западных отцов церкви. Переходность эпохи, в которую он жил, отразилась в его жизни самым непосредственным образом. Его отец был язычником, мать — христианкой. В юности Августин увлекся античной риторикой и философией, его кумиром стал Цицерон. Многие годы Августин был сторонником манихейства, изучал астрологию. Переехав в Медиоланум (г. Милан), в 387 г. он принимает христианство. Его крестным отцом стал святой Амвросий Медиоланский, соединявший в своих взглядах христианство и неоплатонизм. Под его влиянием Августин осудил манихейство, отверг идею Зла как самостоятельной субстанции и рассмотрел его как отсутствие Добра. Отверг он и астрологию с ее идеей предопределенности, выступил против пелагианства
— одной из ранних христианских ересей. В противоположность пелагиаицам и астрологам Августин выдвинул идею благодати: Бог но своему произволу возвышает одних (посылает им благодать) и низвергает других вне зависимости от добрых или злых дел человеческих. В известном противоречии с этой идеей находится учение. Августина об аскетизме, коорое он изложил в своем главном трактате «О граде Божьем» в 22 книгах, где противопоставлены град земной (империя) и град небесный (души людей, объединенные христианской церковью). «Исповедь» в 13 книгах.
Эпос народов средневековой Европы отражал их единое богатое творческое сознание, в котором фантастическое соседствовало с историческим. В тенистых дубравах и среди каменистых фьордов, в уютных кельях и замках феодалов рождались новые письменность и книжная культура, которые вошли в диалог с античностью.
|
Существует принципиальное отличие фольклорного эпоса от эпоса литературного, прежде всего романа. М. М. Бахтин выделяет три основных отличия эпопеи от романа: «1) предметом эпопеи служит национальное эпическое прошлое, «абсолютное прошлое», по терминологии Гете и Шиллера; 2) источником эпопеи служит национальное предание (а не личный опыт и вырастающий на его основе свободный вымысел); 3) эпический мир отделен от современности, т. е. от времени певца (автора и его слушателей), абсолютной эпической дистанцией». Идея в литературном произведении выражает авторское отношение к изображаемому. В героическом эпосе, где нет индивидуального автора, может быть выражена только общая героическая идея. Рапсод не даетличной оценки изображаемому и по не зависящим от него причинам («абсолютная эпическая дистанция» не позволяет ему обсуждать «первых и высших», «отцов», «родоначальников»), и по личным (рапсод - хранитель сказания). Героизация персонажей или их разоблачение, любовь или ненависть принадлежат всему народу - творцу эпоса. Эта народная оценка: 1) учитывает эпическую дистанцию; 2) достаточно определенна (в эпосе герои четко делятся на положительных и отрицательных; сложных натур еще нет); 3) единична, абсолютна и пряма: не меняется в зависимости от смены позиции, не выражается в подтексте через обратное и т. д. |
|
|
|
|
|
Хермод пришпоривает сказочного коня перед вратами хеля, внутри которого - несчастный Бальдр. |
Хугин (слева, на плече Одина) ворон имя которого означает «мысль», и его брат Мунин (справа), олицетворяющий память |
ПАМЯТНИКИ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, дошедшие до нас в записях ученых клириков (служителей церкви) начиная с X в., принято разделять на две группы: эпос раннего Средневековья (ирландский эпос, исландский эпос, английский эпический памятник «Беовульф» и др.) и эпос эпохи развитого феодализма: французский героический эпос «Песнь о Роланде» (наиболее ранняя запись — Оксфордский список, ок. 1170), немецкий героический эпос «Песнь о Нибелунгах» (записана ок. 1200), испанский героический эпос «Песнь о моем Сиде» (возможно, авторское произведение, но на основе древних германских сказаний; запись ок. 1140).
Каждый из памятников отличается своими особенностями по содержанию. Например, это сохранившиеся только в исландском эпосе космогонические (от греч.
kosmogonia — «происхождение мира») представления северных народов Европы. Есть различия и по форме. Например, сочетание стихов и прозы в ирландском эпосе. Но выделение двух групп памятников связано с более общим признаком — способом отражения в них действительности. В героическом эпосе раннего Средневековья отражается не конкретное историческое событие, а целая эпоха (хотя отдельные события и даже персонажи имели историческую первооснову), в то время как памятники развитого феодализма отражают пусть преобразованное по законам фольклора, но конкретное историческое событие.Системные представления древних северных народов о происхождении мира сохранились только в исландском эпосе. Древнейшая из дошедших записей этого эпоса получила название «Старшая Эдда» по аналогии с «Эддой» — своего рода учебником для поэтов, написанным исландским скальдом (поэтом) Снорри Стурлусоном (1178 - 1241) в 1222 - 1225 гг. и ныне именуемым «Младшей Эддой». В 10 мифологических и 19 героических песнях «Старшей Эдды», а также в пересказах Снорри Стурлусона (1-я часть «Младшей Эдды») содержится богатейший материал по скандинавской космогонии. «В начале времен // не было в мире // ни песка, ни моря, // ни волн холодных, // земли еще не было // и небосвода, // бездна зияла, // трава не росла» (пер. А. Корсуна), — повествуется в песне «Прорицание вельвы» (т. е. пророчицы, колдуньи). Заполнивший бездну иней из Нифльгейма («темного мира») под влиянием искр из Муспелльсгейма («огненного мира») начал таять, и из него возник етун (великан) Имир, а затем и корова Аудумла, которая выкормила его своим молоком. Из соленых камней, которые лизала Аудумла, возник Бури, отец Бора, который, в свою очередь, стал отцом богов Одина (верховного божества древних германцев), Вили и Be. В «Речах Гримнира» сообщается, что эти боги впоследствии убили Имира, и из его плоти возникла земля, из крови — море, из костей — горы, из черепа — небо, из волос — лес, из ресниц — стены Мидгарда (др.-исл. — среднее огороженное пространство, срединный мир, местообиталище человека). В центре Мидгарда растет мировое дерево — Иггдрасиль, соединяющее землю с Асгардом — местопребыванием асов (богов). Асы создают мужчину из ясеня, а женщину — из ольхи. Воины, погибающие в бою с честью, уносятся дочерьми Одина валькириями на небо, в вальхаллу — дворец Одина, где идет непрерывный пир. Благодаря хитрости злокозненного бога Локи — олицетворения изменчивого огня — погибает юный бог Бальдр (своего рода скандинавский Аполлон), между богами начинается распря, горит Иггдрасиль, падает небо, которое поддерживалось его кроной. Гибель богов приводит к возвращению мира в хаос. Христианской вставкой нередко считается повествование о возрождении жизни на Земле, но, возможно, это отражение первоначального представления германцев о цикличности развития Вселенной.
ИСЛАНДСКИЕ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ имеют оригинальную художественную форму. Повествование перемежается прорицаниями, изречениями, диалогическими состязаниями в мудрости и другими жанровыми разновидностями. Стихотворные строки имеют, как правило, по два ударения и связаны аллитерациями (повторениями согласных) попарно. Строфы состоят из восьми строк (эпический размер) или шести строк (диалогический размер). Богато представлены кеннинги (двучленные поэтические обозначения) и хейти (одночленные поэтические обозначения). Так (из «Младшей Эдды»), для обозначения неба используется кеннинг «череп Имира», «земля Солнца», «земля дня», «чаша бурь»; для земли — «плоть Имира», «невеста Одина», «море зверей», «дочь Ночи»; для моря — «кровь Имира», «гость богов», «земля кораблей»; для солнца — «сестра Месяца», «огонь неба и воздуха»; для ветра — «сокрушитель деревьев», «губитель, убийца, пес или волк деревьев, парусов либо снастей» и т. д. Некоторые примеры хейти: для обозначения поэзии — «красноречие», «вдохновение», «прославление», «хвала»; для медведя — «бродяга», «зубастый», «сумрачный», «рыжий», «лесник», «косматый»; для времени — «век», «некогда», «возраст», «давно», «год», «срок» и т. д.ИРЛАНДСКИЙ ЭПОС — это памятники словесности кельтских народов, наиболее древние из сохранившихся сказаний народов Северной Европы. В Уладском цикле (около 100 песен) отражается не конкретное историческое событие (хотя война между Уладом - нынешним Ольстером - и Коннахтом действительно шла со II в. до н. э. по II в. н. э.), а целая историческая эпоха — переход от матриархата к патриархату в его заключительной стадии, когда власть женщин связывалась или с прошлыми временами, или со злым началом. Это можно заключить из того, что доброму королю Улада Конхобару противопоставлена злая волшебница королева Коннахта Медб, насылающая на уладских воинов болезнь с целью беспрепятственно захватить пасущегося в Уладе быка, приносящего благоденствие, а также из того, что главный герой Улада Кухулин и посланный по приказу Медб для сражения с ним его побратим Фердиад учились воинскому искусству у воительницы Скатах, и по другим деталям.
|
Было бы ошибкой считать рапсода нетворческим исполнителем. Сказителю не разрешалась вольность (авторское начало), но при этом и не требовалась точность. Фольклор не заучивается наизусть, поэтому отступление от услышанного воспринимается не как ошибка (что было бы при передаче литературного произведения), а как импровизация. Именно она - обязательное начало в героическом эпосе. В нем иная система художественных средств, чем в литературе. Это мнемоническая система, позволяющая удерживать в памяти огромные тексты и, следовательно, строящаяся на повторах, мотивах, параллелизме, схожих образах и действиях. Постепенная универсализация музыкального мотива (речитатива) приводит к закреплению стиха, систематизация ассонансов и аллитераций порождает сначала ассонансное созвучие или аллитеративный стих, а потом и рифму, повтор начинает играть большую роль в выделении важнейших моментов повествования. К мысли о различии фольклорной и литературной систем художественных средств (правда, не через понятие импровизации) пришел еще в 1946 г. В. Я. Пропп. В статье «Специфика фольклора» он писал: «Фольклор обладает специфическими для него средствами (параллелизмы, повторения и т. д.) <...> обычные средства поэтического языка (сравнения, метафоры, эпитеты) наполняются совершенно иным содержанием, чем в литературе». |
|
|
|
|
|
Отважный бог Тюр надевает на Фернира - волка, рожденного от Локи, - путы, пожертвовав рукой, которую он положил в пасть в знак доверия. |
Амаргина считают одним из ирландских друидов. Ему приписывают авторство «Книги захватов». |
ПАМЯТНИКОМ АНГЛОСАКСОНСКОЙ ЭПИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ является «Поэма о Беовульфе». Она оформилась к VIII в. на основе фольклорных эпических песен. Текст поэмы дошел до нас в рукописи X в. В структуре поэмы большое место занимает описательный элемент. Действие в «Беовульфе» разворачивается неторопливо, чему способствуют многочисленные вставные эпизоды, отступления от основной темы. Исследователи указывают на наличие в поэме ряда исторических фактов и имен. Отмечается сходство некоторых эпизодов поэмы с сюжетами исландских саг (например, рассказ о сражении с двумя подводными чудовищами), что позволяет говорить о древних скандинавских корнях сказания о Беовульфе.
Среди нескольких сотен памятников французского средневекового героического эпоса выделяется «Песнь о Роланде». Записанная впервые около 1170 г. (Оксфордский список), она относится к эпосу развитого феодализма. Реальное историческое событие в «Песни о Роланде» в результате фольклорной переработки выглядит иначе.
Изменения, которыми подверглись в «Песни о Роланде» исторические факты, объясняются стремлением показать превосходство христиан над неверными и подчеркнуть губительность феодального своеволия для «милой Франции». Повторяемость — общий закон поэтики «Песни о Роланде», которому подчиняются все уровни произведения (звуковые, словесные, композиционные и другие повторы). Повторяется главное, то, что требуется подчеркнуть. В сюжете повторяются мотивы битвы, смерти героев, оплакивания героев, мести, ряд «дипломатических» событий (посольство, совет, заговор), феодальные ритуалы (вручение перчатки).
В организации художественного пространства поэмы принцип симметричности соединяется с принципом асимметричности. Примеров симметрии можно привести много (в частности, одинаковое устройство двора Карла и Марсилия, одинаковое вооружение, сходное поведение, сходная организаций советов, посольств и т. д., наконец, общий язык врагов, позволяющий понимать друг друга и на переговорах, и на поле битвы). Однако общее свойство эпического мира определяет тенденция к асимметричности. Эта неоднородность не лишает его гармонии, ибо она не вносит диссонанса. Неоднородность эпического мира проистекает из единственности оценочной позиции, где такой единственной точкой отсчета является позиция самого народа.
Силы в борьбе почти всегда неравны. Героям приходится сражаться с превосходящими силами. 20 000 французов во главе с Роландом сражаются против 400 000 мавров. Карл ведет 10 полков, в которых свыше 350 000 воинов, на полки язычников, в которых свыше 1,5 млн. человек. Роланд в одиночестве сражается с 400 сарацинами. Карл сражается с Балиганом, у которого такое тяжелое копье, что «наконечник мул свезет с трудом»; худощавый Тьерри сражается с огромным Пинабелем и т. д. Но сохраняющие естественные человеческие пропорции герои неизменно оказываются победителями или (если это второстепенные герои) наносят врагу большой урон.
|
В основе «Песни о Роланде» - реальное историческое событие. В 778 г. молодой Карл Великий, задумавший воссоздать Римскую империю, ввел войска в Испанию, с 711 г. захваченную маврами (арабами). Поход был неудачен: за два месяца военных действий удалось только осадить город Сарагосу, но у его защитников были неограниченные запасы воды в крепости, поэтому взять их измором оказалось невозможным, и Карл, сняв осаду, отвел войска из Испании. |
|
|
|
Битва в Ронсевальском ущелье. Миниатюра XIV в. |
Другое проявление неоднородности эпического мира — разная материальная плотность людей и предметов. Можно заметить тенденцию: тело француза обладает большей плотностью, непроницаемостью, чем тело араба. Мавр как бы пуст внутри, поэтому копье легко проходит через него и даже вышибает спинной хребет, меч разрубает мавра пополам. Напротив, тела французов сравнительно непроницаемы. Неуязвимость тела героя и проницаемость тела его врага — очень древняя черта эпического мира (ср. бой Ахилла и Гектора в «Илиаде», Кухулина и Фердиада в Уладском цикле). Особенно важен в этом отношении образ Роланда. Его тело как бы заколдовано для врагов, он «ни разу не задет». Предельной материальной плотностью могут обладать и предметы. Особенно это касается меча Дюрандаля, который не щербится о камень, несмотря на все старания Роланда, не желающего, чтобы его меч попал в руки врага.
В описании гибели героев заметна и аксиологическая (греч. axios — «ценность» и logos — «учение»; шкала ценностей) неоднородность. Оливье был убит в спину, Готье и Турпен — брошенными в них копьями, в Роланда мавры мечут копья и стрелы. Французы же ни разу не наносят удар в спину, не мечут копья и стрелы. Происходит разделение ударов на благородные (сверху — спереди) и неблагородные (сзади и издалека). Неоднородность эпического мира выражается здесь в том, что удар не равен удару, право — праву, бог — Богу, все должно быть испытано на истинность. Гибнущие французы не отрекаются от своего Бога, гибнущие арабы свергают своих богов. Два внешне равноценных права (вассальное и право на усобицу, государственное и родовое) испытываются «Божьим судом». Обнаруживается источник победы героев над сильнейшим противником — правота.
Противоречие двух указанных тенденций (симметричности и асимметричности) снимается за счет особой искаженности эпического мира, в основе которой лежит гиперболизм. В литературе гипербола (греч. hyperbole — «преувеличение») служит для выделения предмета, явления, характера. В народном эпосе же гиперболизировано все, и отдельная гипербола ничего не выделяет, она является лишь знаком общей концепции мира, титанической в своей основе.
Художественные средства в обрисовке отдельного человека еще не развиты в древнем героическом эпосе. Портрет не выделился из описания и оценки; обычно внешность героя слита с его вооружением, с его действием (облачение в доспехи). Предметы, с помощью которых ведется бой, зачастую более отчетливы и выпуклы, чем персонажи. Характеры главных героев — Роланда и Оливье — представляют собой вариации общего типа эпического героя в его идеальном воплощении.
Расцвет испанского героического эпоса пришелся на XI
- XIII вв. Важнейшая тема испанского эпоса — борьба с маврами, которые вторглись в Испанию в начале VIII в. и завоевали значительную часть страны. Широкое народное движение за освобождение Испании (и всего Пиренейского полуострова) от мавров получило название «реконкиста» (от исп. reconquistar — «отвоевывать»). События реконкисты нашли отражение в лучшем памятнике испанского эпоса — «Песни о моем Сиде». Она возникла в середине XII в. на основе народных песен о подвигах Сида. Ныне она известна по единственному списку 1307 г.В «Песни о моем Сиде» проявляются черты, характерные для всего испанского эпоса, — обилие бытовых деталей, отсутствие фантастики, отказ от гиперболизации. Героическая тема переплетается в поэме с семейной.
|
Текст «Песни о Роланде» был опубликован в 1837 г. и сразу привлек к себе внимание своей эстетической значимостью. В конце XIX в. выдающийся французский медиевист Жозеф Бедье решил определить автора поэмы, опираясь на последнюю, 4002-ю строку текста: «Здесь прерваны Турольдовы сказанья». Он нашел не одного, а 12 Турольдов, которым можно было приписать произведение. Однако еще до Бедье Гастон Парис предположил, что это фольклорное произведение, а после исследований Бедье испанский медиевист Рамон Менендес Пидаль убедительно показал, что «Песнь о Роланде» относится к «традиционным» текстам, не имеющим одного автора. Делая вслед за Парисом и Менендесом Пидалем вывод о том, что патриотизм, защита христианской веры и другие идейные достоинства «Песни о Роланде» принадлежат не отдельному автору, а всему народу (Парис) или определенному слою традиционных сказителей (Менендес Пидаль), находится тем самым ключ к решению вопроса об авторской позиции, оценке изображаемого: ее не может быть в «Песни». |
|
|
|
|
|
Воинский рог из слоновой кости. |
Регин перековывает рукоять волшебного меча Сигурда. «Старшая Эдда». |
ВЕРШИНА НЕМЕЦКОГО ЭПОСА — «Песнь о Нибелунгах», окончательно сложившаяся около 1200 г. В ней сюжеты германо-скандинавской мифологии, отразившиеся в «Старшей Эдде», соединились с воспоминанием о гибели в 437 г. германского королевства бургундов, разрушенного гуннами во главе с Аттилой. В «Песни о Нибелунгах» сильны сказочные мотивы (добывание сказочным королевичем клада, плаща-невидимки, сражение с драконом, неуязвимость героя). Под влиянием рыцарского романа происходит изменение героев: сказочный королевич Зигфрид напоминает куртуазного рыцаря, заочно влюбленного в Прекрасную Даму и совершающего подвиг во славу ее; Кримхильда предстает сначала недоступной возлюбленной, с которой влюбленному рыцарю не удается даже увидеться, а затем верной супругой.
Героический характер в немецком эпосе наделен демоническими чертами. Вероятно, отчасти этим объясняется тот факт, что особый интерес к «Песни о Нибелунгах» возник в эпоху романтизма. Романтики увидели в средневековой поэме «немецкую Илиаду».
К сюжету поэмы обращались Ф. де ла Мотт Фуке в его драматической трилогии «Герой севера» (1808
- 1810), К. Ф. Геббель в драматической трилогии «Нибелунги» (1862) и Р. Вагнер в музыкальной тетралогии «Кольцо Нибелунга» (1854 - 1874).
«Трубадуры обратились к новым источникам вдохновения, воспели любовь и войну, оживили народные предания, — родились лэ, романс и фаблио. Темные понятия о древней трагедии и церковные празднества подали повод к сочинению таинств (mysteres)», — считал А. С. Пушкин. Великому поэту вторит наш современник, известный ученый, академик В. Ф. Шишмарев, считавший, что в поэзии трубадуров «впервые был поставлен вопрос о самоценности чувства и найдена поэтическая формула любви». Лирика трубадуров явила такой уровень авторского самосознания, которого не достигала прежде европейская поэзия.
К XII В. РЫЦАРСТВО, осознавшее себя господствующим сословием, создает особую светскую культуру, отделяющую его от других слоев общества, — куртуазию (от фр.
court — «двор»). Понятие куртуазность имеет в виду особый кодекс человеческих отношений внутри феодального (придворного; на оси сюзерен/вассал) сословия. Требования куртуазии были воплощены в поэзии трубадуров (от прованс. trobar — «находить, слагать стихи») — поэтов-рыцарей Прованса, государства на юге нынешней Франции, в XII в. самого развитого и процветающего в Европе, а в XIII в. погибшего в результате религиозных Альбигойских войн — ожесточенной борьбы католиков против катаров, сторонников альбигойской ереси, обосновавшихся в Провансе. Поэзия трубадуров — авторская. До нас дошло не менее 500 имен трубадуров, из которых около 40 пользовались широкой известностью. Среди них Бернарт де Вентадорн, Джауфре Рюдель, Бертран де Борн, Гильом де Кабестань.
|
К традиционным требованиям (храбрость, владение оружием, верность сюзерену) добавились новые: рыцарь должен быть вежливым (т. е. знать этикет), образованным (уметь писать, читать, в том числе и античных авторов), влюбленным (любить по определенным правилам, его любовь должна быть верной, нетребовательной, скромной, объектом любви должна быть жена его сюзерена) и воспевать Даму своего сердца в стихах и песнях.Согласно сведениям, содержащимся в его полулегендарной биографии, Бернарт де Вентадорн не был знатен, происходил «от служилого человека, служившего истопником и топившего печь, где выпекали хлеб для всего замка», Бернарт был изгнан из замка за роман с женой своего сеньора, после чего поэт отправляется ко двору герцогини Нормандской. Плененная красотой стихов Бернарта, знатная дама полюбила его. Любовь оказалась взаимной. Многие канцоны посвящены именно ей. Но счастью любящих суждена была короткая жизнь. Английский король Генрих берет в жены герцогиню Нормандскую и увозит ее в Англию. Опечаленный Бернарт поступает на службу к графу Раймону Тулузскому, которого не покидает до самой его смерти. После кончины графа Бернарт вступает в Далонский монастырь, где и умирает. Поэзия трубадуров подготовила ренессансную лирику Ф. Петрарки, П. Ронсара, У. Шекспира. В начале XIX в. романтики (Л. Уланд. Г. Гейне) в своих произведениях воскрешают образы некоторых трубадуров. Английские поэты-прерафаэлиты XIX в., воспринимавшие Средневековье как эпоху искренней веры и гармонии человека и общества, также обратились к наследию трубадуров. |
|
Любовь для трубадура - именно духовное утонченное понятие, тяга к прекрасному и недостижимому. Трубадур вручает даме свою кансону. Миниатюра XIV в.
|
ТРУБАДУРЫ первыми воспели любовь как новое, незнакомое прежде чувство, как «сладостное страдание» и желание служить любимому существу, введя в поэзию не только образ Дамы, но и образ автора — влюбленного поэта. Они первыми в европейской поэзии освоили рифму, «сие новое украшение стиха, с первого взгляда столь мало значащее, имело важное влияние на словесность новейших народов», как писал А. С. Пушкин в статье «О поэзии классической и романтической» (1825).
Трубадуры разработали систему поэтических жанров, в которую входили кансона
(cansos, chanson) — песня на любовные или религиозные темы со сложным строением строфы; сирвента (sirventes) — строфическая песня, обычно содержавшая инвективы против врагов поэта или его сюзерена; плач (planh) — песня, в которой оплакивается смерть сюзерена или его родственников, а также близких поэту людей; тенсона (tensos) — диалог, спор двух поэтов на любовные, философские, религиозные, эстетические темы; баллада (прованс. — balada) — плясовая песня с припевом, подбадривающим танцующих; альба (alba — «заря») — строфическая песня с постоянным сюжетом: расставание влюбленного рыцаря и его дамы на заре после тайного свидания; пасторелла (pastorelle, pastoreta) — песня-диалог с постоянным сюжетом: рыцарь предлагает пастушке свою любовь, а она ему вежливо, но решительно отказывает.НАИБОЛЕЕ ПОЛНО И ТАЛАНТЛИВО идеал куртуазии был воплощен в поэзии Бернарта де Вентадорна. В своих канцонах он воспел любовь как одухотворяющую человека силу. В лирике Бернарта искреннее, живое, непосредственное чувство находит выражение в отточенной и изящной поэтической форме.
Другой известный поэт-трубадур, Джуафре Рюдель, был знатным рыцарем и, вероятно, принимал участие в Крестовом походе. Особый интерес представляют три из дошедших до нас шести стихотворений Джауфре Рюделя, в которых появляется новый мотив — любовь издалека. История любви Джауфре Рюделя и Мелиссинды дала сюжет для поэтической драмы неоромантика Эдмона Ростана «Принцесса Греза» (1895).
К концу XII в. форма выражения чувств лирического героя в поэзии трубадуров становится все более усложненной, вычурной, а само чувство делается условным, лишается непосредственности и индивидуальной неповторимости, превращается в некий ритуал. Закат провансальской лирики относится к середине XIII в., когда ей на смену приходит городская поэзия. Традиции трубадуров развивали северофранцузские поэты — труверы (от фр.
trouver — «находить», «сочинять»), немецкие поэты — миннезингеры (от нем. Minnesinger — «певец любви»), а в конце XIII в. — итальянские поэты «нового сладостного стиля», Данте.
ЖАНР РЫЦАРСКОГО РОМАНА сформировался в XII в. Первоначально слово «роман» (roman) относилось к произведениям, написанным не на латинском, а на одном из романских языков (отсюда же и слово «романс»). Однако позже оно стало обозначать новый эпический жанр, сложившийся в рамках рыцарской куртуазной культуры. В отличие от героического эпоса, соотносимого с мифом, роман соотносим со сказкой. Ядром рыцарского романа становится авантюра (фр. aventure — «приключение», «похождение») -- соединение двух элементов: любви и фантастики (под ней применительно к этому жанру следует понимать не только невероятное, сказочное, но и необычное, экзотическое). Для читателей (слушателей) рыцарского романа нет необходимости верить в истинность повествования (как при прослушивании героического эпоса). Важнейшая черта рыцарского романа, отличающая его от героического эпоса, — наличие автора с определенной авторской позицией и формирующимся авторским началом в выборе героев, сюжетов, художественных средств.
|
В начале XX в. французский академик Жозеф Бедье показал, что дошедшие не полностью стихотворные «Роман о Тристане» Беруля и «Роман о Тристане» Тома, лэ Марии Французской «О жимолости» (XII в.), роман «Тристан» Готфрида Страсбургского (нач. XIII в.), прозаический «Роман о Тристане» Люса дель Гата и Эли де Борона (ок. 1230, имена авторов - возможно, псевдонимы) и множество других средневековых текстов восходят к недошедшему роману середины XII в., принадлежащему какому-то неизвестному, но гениальному автору, и попытался реконструировать первоначальный текст. |
|
|
|
|
|
Средневековый дворянин; не только рыцарь, но и охотник. |
Не все рыцари вернулись после поисков Святого Грааля. Это предчувствовал король Артур, владыка Камелота. «Вооружение и отъезд рыцарей». Э. Берн-Джонс и У. Моррис (1895 - 1896). |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ РЫЦАРСКОГО РОМАНА - рыцарь (идеальный или близкий к куртуазному идеалу). Он показан в действии — путешествующим в одиночку или с небольшим окружением и совершающим подвиги. Странствия рыцаря -- элемент, организующий строение «романа дороги»: повествование о передвижениях рыцаря открывает возможности показать его рыцарские качества, рассказать о его подвигах. Фигура рыцаря еще не индивидуализирована (от романа к роману меняются имена главных героев, но их идеализация делает их похожими друг на друга), герой выступает скорее как функция сюжетной конструкции («роман дороги»), но в отличие от рыцарей из героического эпоса герои рыцарских романов наделяются личными мотивами совершения подвигов: не во имя страны, народа, рода, религиозной веры, а во имя Дамы сердца или во имя личной славы. В XII в. романы писались стихами (обычно восьмисложник с парной рифмовкой). Прозаические романы появились лишь в XIII в.
Принято выделять три цикла средневековых рыцарских романов: античный, византийский и бретонский. Романы античного цикла разрабатывали сюжеты, почерпнутые из античной мифологии и истории. При этом античный материал подвергался переработке: языческие элементы затушевывались, а на первый план выходил рассказ о подвигах, приключениях или любви. В романах античного цикла много фантастических эпизодов. Так, например, в «Романе об Александре Македонском» великий полководец древности встречает людей с песьими головами, спускается на морское дно в стеклянной бочке, возносится в небо в клетке, несомой грифами, оказывается в чудесном лесу, где весной из земли вырастают девушки.
Если в романе об Александре Македонском, вопреки установившемуся впоследствии жанровому канону, отсутствует любовная тема, то в «Романе о Фивах» она занимает важное место. Любовные отношения между героями романа трактуются уже в свете куртуазного кодекса.
В «Романе об Энее» любовная тема становится центральной. Восходящая к «Энеиде» (29 - 19 до н. э.) Вергилия история трагической любви Энея и Дидоны в «Романе об Энее» изображает любовь как роковую страсть. Трагической любви-болезни противопоставлена в романе любовь счастливая. Отношения Энея и Лавинии иллюстрируют доктрину куртуазной любви. Окончательный переход от исторического сюжета к любовному произошел в произведениях бретонского цикла, которые принято разделять на четыре группы: бретонские лэ, романы о Тристане и Изольде, романы артуровского цикла и романы о Святом Граале. Бретонский цикл основан на легендах и мифах древних кельтов в соединении с новыми куртуазными мотивами. Бретонские повести оказались наиболее продуктивной разновидностью рыцарского романа.
По традиции, к средневековым рыцарским романам относят произведения, написанные в жанре лэ (от кельтского
lai). Это своего рода микророманы, небольшие стихотворные повести, в которых в отличие от романов дана не серия эпизодов, выстроенных в цепочку, как «роман дороги», а один эпизод. Произведения, написанные в этом жанре, предназначались для напевной декламации.Первым известным и самым ярким представителем этого жанра стала Мария Французская, поэтесса второй половины XII в., жившая при дворе английского короля Генриха II. Она написала сборник из 12 лэ на старофранцузском языке. В лэ «Ланваль» Марии Французской отчетливо проявляется авторская позиция: она осуждает крайности куртуазного кодекса любви и воспевает любовь как естественное чувство, а не как форму верности сюзерену через любовь-служение его жене.
|
В «Тристане и Изольде» король Марк под давлением придворных дает согласие на женитьбу. Но жениться он не хочет. В зал влетает птица и роняет из клюва золотой волос. Король отправляет своих приближенных на поиски девушки с такими волосами - только на ней он женится. В этом очень древнем мотиве нет ничего от куртуазной любви. На поиски девушки отправляется и племянник Марка Тристан (по дороге сражаясь с драконом - также древний мифологический мотив). Его, раненного, потерявшего сознание, находит и излечивает Изольда. Открыв глаза и увидев девушку с золотыми волосами, он еще не знает, что это ирландская принцесса Изольда. Прямоугольный стол символизировал феодальное неравенство, вассальную зависимость: за его «верхним» концом восседал сюзерен, по правую руку от него - наиболее знатный вассал, по левую руку - второй по значению вассал, далее по убывающей рассаживались другие вассалы, а за «нижним» концом - самые незнатные из присутствующих. |
|
|
|
|
|
Обреченные вечно любить друг друга, Тристан и Изольда ступили на борт трагического корабля любви. «Тристан и Изольда». А. Тернболл (1904). |
Рыцари Круглого стола. Миниатюра XV в. |
ЦИКЛ РОМАНОВ о Тристане и Изольде стоит несколько особняком среди других средневековых романов. В основе легенды лежат, вероятно, какие-то исторические события VI в. (предполагается, что имя Тристан восходит к имени пиктского воина Друста, или Друстана, имя Изольды не идентифицировано).
Произведение написано по иной модели, нежели рыцарские романы, входящие в другие циклы: в нем есть лишь элементы конструкции «романа дороги», почти не представлены куртуазные правила любви. Неизвестным автором показано раздирающее душу противоречие между чувством и долгом, одновременно приверженность принципам вассальной верности, святости феодального брака и желание воспеть силу любви, которая, согласно куртуазной концепции, возникает вне брака. Писатель находит свой способ преодоления этой дилеммы: соединяется легенда о любви Тристана и Изольды со сказанием о волшебном напитке. Во время возвращения на корабле из Ирландии в Британию молодые герои случайно (случай — новый элемент авторского повествования) выпивают любовный напиток, изготовленный служанкой Изольды, хотевшей помочь своей хозяйке и Марку преодолеть отчуждение, испытать в браке любовь, которую никакой силой нельзя разрушить. Теперь любовь Тристана и Изольды вспыхивает как непреодолимая страсть. Мотив любовного напитка позволяет автору снять все моральные обвинения по отношению к Тристану и Изольде даже после того, как она вышла замуж за короля Марка, и, напротив, в самом неприглядном свете представить доносчиков-придворных, мешающих влюбленным и ставших одной из причин их к гибели. Автор создает роман о несчастной любви, которая тем не менее сильнее смерти. Эта повествовательная конструкция станет одной из самых плодотворных сюжетных схем в литературе, отразится в истории Франчески да Римини в «Божественной комедии» (1307 - 1321) Данте (где во втором круге ада рядом с душами Франчески и ее возлюбленного поэт помещает тени Тристана и Изольды), в трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (1595) и во многих других произведениях.
НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ для средневекового романа стал цикл о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Артур — реальное лицо, предводитель бриттов, в V - VI вв. отступавших в Уэльс под натиском германских племен англов, саксов и ютов. В романах Артур предстает как самый могущественный король Европы, только при его дворе герой может стать подлинным рыцарем. Наиболее совершенные рыцари короля Артура объединены названием «рыцари Круглого стола». Они собираются вместе с королем за стоящим в его замке Камелот огромным круглым столом — символом равенства.
За этим столом король оказывался первым среди равных. Это равенство нарушалось лишь в сюжетах рыцарских романов, так как один из рыцарей Круглого стола (тот, чьим именем назван роман) всегда оказывался самым смелым, сильным, галантным — образцом всех рыцарских добродетелей, воплощением рыцарского идеала.
Создателем артуровского цикла, самым талантливым автором рыцарских романов стал французский писатель Кретьен де Труа (ок. 1130 - ок. 1191), очевидно, связанный с дворами графини Марии из Шампани (одним из главных центров куртуазии) и графа Филиппа Фландрского. Начав с разработки сюжета о Тристане и Изольде (роман не сохранился), уже в следующем романе — «Эрек и Энида» — он закладывает основы артуровского цикла. Это произведение интересно и как один из ранних образцов «романа дороги», и как попытка обрисовать противоречия во внутреннем мире персонажа, и как утверждение индивидуальной авторской позиции по отношению к куртуазному кодексу любви. Это делает роман Кретьена де Труа «Эрек и Энида» одним из ключевых произведений мировой литературы.
После «Эрека и Эниды» и романа «Клижес», связанного с византийским циклом и в то же время развивающим некоторые мотивы легенды о Тристане и Изольде, Кретьен пишет роман «Ланселот, или Рыцарь телеги», который справедливо считается вершиной куртуазности в литературе.
|
Предельно лаконично лэ Марии Французской «Ланваль» представляет все особенности рыцарского романа. Уже в исходной сюжетной формуле - рыцарь Ланваль полюбил фею - очевидно самое зерно жанра, авантюра: соединение любви и фантастики. Фея ответила на эту любовь, потребовав от рыцаря сохранить их отношения в тайне (принцип куртуазной любви). Но в соответствии с куртуазным кодексом Ланваль должен любить жену своего сюзерена короля Артура Гениевру, и та ожидает от него любовного служения. Герой, нарушая запрет, признается Гениевре, что любит женщину, которая прекраснее королевы. Гениевра пожаловалась королю Артуру на непочтительность Ланваля. Ланваль не может доказать своей правоты и должен погибнуть. Когда все уже готово для казни, появляется фея верхом на чудесном коне, и все вынуждены признать, что она прекраснее Гениевры. Ланваль вскакивает на коня и вместе с феей уносится в неведомую страну, откуда он уже больше не возвращался (по-видимому, Ланваль и фея отправились в Аваллон - страну бессмертия в кельтских сказаниях). |
|
|
|
|
|
В своей любви к Ланселоту Гениевра все же сохраняет достоинство и честь короля Артура. Иллюстрация в манускрипте (ок. 1400). |
Грааль сумели найти только три непорочных рыцаря: Галахад, Персиваль и Барс. «Как Грааль пребывал в чужедальной стороне», К Моррис (ок. 1890). |
САМАЯ ПОЗДНЯЯ ГРУППА РОМАНОВ бретонского цикла — романы о Святом Граале. В этом цикле светский характер рыцарской литературы все в большей степени подчиняется религиозной идее. Рыцарь не только не должен быть влюбленным в Прекрасную Даму, но, напротив, обязан блюсти целомудрие. Место любви к женщине занимает любовь к Богу.
Последний роман Кретьена де Труа «Персеваль, или Повесть о Граале» можно отнести к бретонским. Самый значительный эпизод романа — рассказ о пребывании Персеваля в замке, где он видит страдающего раненого рыцаря и других рыцарей, благоговейно несущих чашу, излучающую волшебный свет. Персевалю хочется узнать, что все это значит, но он не осмеливается это сделать. Наутро видение исчезает, и только позже герой узнает, что был в замке Монсальват и созерцал Святой Грааль и раненого рыцаря, наказанного небом за нарушение обета целомудрия. Если бы Персеваль задал свой вопрос, рыцарь мгновенно излечился бы, а сам герой был бы принят в число рыцарей Святого Грааля. Напавшая же на него скромность — гоже небесное наказание за то, что в юности он оставил мать, чтобы стать рыцарем, и тем самым разбил ее сердце. Начинается трудный путь Персеваля по изменению собственного характера и отношения к людям. По существу, одним из первых Кретьен показал характер персонажа в его духовном развитии.
Эту линию продолжил немецкий писатель Вольфрам фон Эшенбах, около 1200 - 1210 гг. создавший роман «Парцифаль», очевидно, заимствовав ряд мотивов из последнего романа Кретьена де Труа. Герой романа (в немецкой огласовке его имя звучит как Парцифаль) проходит сложный путь от простака, плохо разбирающегося в жизни, до рыцаря, постигшего, что человеколюбие есть высшая добродетель, и по праву становящегося одним из рыцарей Святого Грааля и главой рыцарского ордена тамплиеров (храмовников). Грааль у Вольфрама — не священная чаша, как у Кретьена, а драгоценный камень, обладающий волшебной силой. Вольфрам, так же как примерно за десятилетие до него Кретьен, показывает своего главного героя в развитии. Это еще необычайно редко для средневековой литературы.
ТРЕТИЙ ЦИКЛ рыцарских романов — византийский. Истоки цикла — в византийской романной традиции. Отличительные черты романов — обилие бытовых сцен и подробностей, преобладание любовной темы, существенное ослабление (или полное отсутствие) фантастических эпизодов в повествовательной структуре, использование традиционных для византийского романа сюжетных схем (разлука и встреча любящих, кораблекрушение и т. д.). Классическим образцом этого типа стал роман «Флуар и Бланшефлер», рассказывающий об истории любви сарацинского принца Флуара и пленницы-христианки Бланшефлер. В основе сюжета поиски Флуаром возлюбленной, проданной заезжим купцам. Герой не совершает подвигов во славу Прекрасной Дамы, не сражается с драконом или грозными рыцарями, не проходит испытания чарами злых волшебников. Единственное подлинное чудо в романе — любовь, преодолевающая преграды и вознаграждением которой становится встреча любящих.
В XIII в. рыцарский роман переживает кризис, признаками которого становятся пародирование куртуазных норм и ценностей (во французской повести начала XIII в. «Окассен и Николетт»), существенное усиление в значительной степени под влиянием городской литературы нравоучительной и бытоописательной тенденций в романе (английский роман XIV в. «Сэр Гавейн и зеленый рыцарь»).
Вместе с тем рыцарский роман еще на протяжении длительного времени остается любимым чтением европейцев.
Как писал известный французский ученый-медиевист Жорж Дюби, «горожанин презирает деревенщину. Кроме того, крестьяне внушают ему страх. И он отгораживается от них <...> Город становится крепостью, потому что его богатства привлекают алчные взоры и ими легко завладеть...». Появление городского сословия привело к возникновению особого пласта средневековой литературы — городской литературы.
В XII —XIII вв. в Западной Европе быстро растут города-коммуны. В них развиваются ремесла, процветает торговля, что обеспечивает обогащение горожан. Однако население было, по современным меркам, немногочисленным — обычно несколько тысяч человек. Города населяли ремесленники, рыцари, священнослужители, клерки, школяры, торговцы. Рост благосостояния городов привел к тому, что буржуа-бюргеры стали осознавать себя особым сословием со своими специфическими интересами, главнейшим из которых было сохранение относительно высокого уровня благосостояния.
В ГОРОДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ сложилась своя система жанров: фаблио и шванки (нем. Schwank — «шутка»; аналог французских фаблио — фр. fabliau — коротких шутливых повестей в стихах, нередко грубых, из которых позже возникнет жанр новеллы — см. Литература Возрождения в Италии, Литература Возрождения в Германии и Нидерландах), сатирический животный эпос (примеры — французский эпос «Роман о Лисе», XII - XIII вв., немецкий эпос «Рейнеке-Лис», XV в., обработан Гете в 1793 г.), аллегорический эпос (наиболее значителен французский «Роман о Розе» XIII в., первую часть которого написал куртуазный поэт-рыцарь Гильом де Лорис, а вторую, пронизанную духом сатиры и дидактики, — горожанин Жан Клопинель, чаще называемый Жан де Мен, которого позже за вольнодумство нередко сравнивали с Вольтером).
Сохранилось около 160 фаблио, написанных с конца XII до середины XIV в. По разрабатываемым сюжетам и общей тональности фаблио весьма разнообразны и представляют собой шутливые рассказы, фривольные истории, нравоучительные новеллы. Действие, как правило, происходит в городе. В фаблио господствует стихия повседневности. События разворачиваются стремительно. Излюбленный сюжет фаблио — адюльтер (фр. adulter — «супружеская неверность»). Обычно персонажами фаблио являются горожанин, богатый торговец и его жена, клерк, священник. Иногда концовка фаблио содержит нравоучение. Главная задача, которую решали их авторы, — заставить читателя смеяться над смешными положениями, в которые попадали персонажи, раскрывая при этом свои отрицательные качества.
Широкую известность в Западной Европе приобрел памятник французского животного эпоса «Роман о Лисе». Роман написан несколькими авторами и представляет собой большой стихотворный текст, состоящий из 26 повестей (ветвей). Их общим героем является хитрый лис — Ренар, который обманывает других животных, глумится над ними. Поэма может быть прочитана как сатира на представителей разных сословий феодального общества.
|
Французское слово bourgeois (буржуа) и однокоренное немецкое Burger (бюргер) первоначально означали «горожанин». Позже они становятся близкими по значению к более общему слову «обыватель». В русском же языке они означают не столько принадлежность к социальному слою европейского общества, сколько человека, погруженного в быт, приземленного, самоуспокоенного, дрожащего за свой скарб и банковский счет частного собственника. Слово, несущее негативную оценку буржуа, - «филистер» (нем. Philister - «самодовольный мещанин»), - обозначает человека, ведущего себя как ханжа и лицемер (см. Романтизм) .В фаблио «Завещание осла» священник, обвиненный в том, что похоронил своего любимого осла на освященной земле, избегает наказания, вручив епископу 20 ливров, якобы завещанных тому ослом. Имя собственное героя «Романа о Лисе» ( Renart), несколько видоизменившись, перешло в разряд нарицательных существительных, и слово renard стало обозначать во французском языке лису, вытеснив прежнее название - goupii. |
|
К традиции средневекового животного эпоса обратился в своей поэме «Рейнеке-Лис» (1793) И.-В. Гете. Образы медведя, волка, барсука, зайцев, кур и петухов олицетворяют чопорных феодалов. Хитрые Лис обманывает всех своих противников.Рисунок В. Ермолаевой.
|
К ЖАНРАМ ГОРОДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ относятся и драматургические жанры церковной словесности, а затем вышедшего из нее и перекочевавшего на торговые городские площади средневекового театра: литургическая драма (игралась в церкви, представляя отдельные ветхозаветные сцены по ходу исполнения литургии — церковного песнопения), полулитургическая драма, или драма на паперти (исполнялись различные эпизоды из Библии за пределами церкви), миракль (от лат.
miraculum — «чудо»; пьеса о чудесах, совершаемых святыми или Девой Марией; например, «Чудо о Теофиле», XIII в., французского горожанина Рютбефа о спасении Богородицей Теофиля, продавшего за власть душу дьяволу), мистерия (от греч. mysterion — «тайна»; инсценирующая библейскую историю грандиозная пьеса, представление которой длилось несколько дней), моралите (фр. moralite от лат. moralis — «нравственный»; пьеса религиозно-поучительного характера, в которой персонажами выступали аллегорические фигуры, например Вера, Надежда, Любовь). Из комических вставок в мистерии возникли фарсы (фр. farce; например, фарсы об адвокате Патлене, игравшиеся во Франции в XV в.). На фарс похож и жанр соти (фр. sotie от sot — «глупый»). Только в нем, как и в моралите, действуют аллегорические фигуры. Светская драматургия помимо фарса представлена также жанром игры (яркий пример — пьесы французского горожанина XIII в. Адама де ла Аля «Игра под листвой».
«
Запад есть Запад, Восток есть Восток» — написал в одной из своих баллад английский поэт и писатель Редьярд Киплинг, имея в виду прежде всего непреодолимую пропасть, лежащую между двумя главными цивилизациями современного мира. Это различие не может не сказываться и в литературе: принято считать, что восточная поэзия принципиально не переводима на европейские языки. То же, что мы обычно называем ее переводами, — не более чем робкие попытки дать самое приблизительное представление о недоступном для непосвященных великолепии восточной поэзии.ВОСТОЧНОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ - условное понятие, обозначающее совокупность систем стихосложения, сложившихся в странах Ближнего, Среднего и Дальнего Востока. Тип стихосложения связан с особенностями языка. В странах азиатского континента проживают сотни народов, разговаривающих на самых разных, не похожих друг на друга языках. Поэтому под выражением «восточное стихосложение» имеется в виду общая экзотичность, непохожесть этих систем на традиционные европейские.
|
«Саттасаи» («Семьсот стихотворений») - самое раннее из известных собраний древнеиндийской поэзии. По преданию, его составил царь Хала, правивший в I - II вв. Однако специалисты считают, что эти стихи принадлежат разных авторам, жившим с III по VII в. Основная форма этих стихотворений - миниатюра-четверостишие:«Плавает ночью безоблачной // Месяц, похожий на белого гуся, //И в безграничном пространстве // Созвездия, словно соцветья» (пер. В. Микушевича). В жанре рубаи написаны стихотворения Хайяма: «О друг, нам время не подчинено, // Нам не навечно бытие дано. // Пока в руках мы держим наши чаши, - В руках мы держим истины зерно» (пер. В. Державина). |
||
|
|
|
|
|
В начертаниях одной и той же арабской молитвы «Во имя Бога всемогущего и милосердного» видны изображения птицы и груши (слева). Это пример неповторимого искусства арабской каллиграфии. |
В тексте Корана нет изображений. Каллиграфия стала истинной иконографией мусульманства. Канонические правила начертания составлены Ибн-Муклом в X в. Позже были выработаны стили письма: от куфического (справа) до различных вариантов курсива. |
Омар Хайям - поэт, астроном и математик, убежденный в том, что жизнь неповторима и ценна сама по себе. Справедливость, доброта, честность - идеалы поэта. |
ОДНОЙ ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ПОЭТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР Востока была древнеиндийская, основанная на древнейшем пракритском и более позднем санскритском языках. Пракритская и санскритская поэзия предполагала использование силлабического принципа — опиралась на равенство всех строк по количеству слогов. В древнеиндийской поэзии были две системы стихосложения — вритта и джати. Система вритта восходит к древнейшим индийским священным книгам — Ведам. В них использовалось закономерное чередование в каждой строке кратких и долгих слогов — так же, как и в поэзии античных Греции и Рима. Система джати опиралась на народную песенную традицию и была ближе всего к тонической (см. Стихосложение). В поэзии позднего санскритского периода возобладала первая из названных систем. В санскритском стихе использовались строки длиной от восьми до 21 слога. В многосложных (более 13 слогов) размерах обычно использовалась цезура (пауза, делящая строку на две части). Рифмы санскритская система стихосложения не знала, но активно использовала различные способы звуковых повторов, прежде всего — согласных звуков. Наиболее распространенные формы стиха — миниатюра-четверостишие и протяженная поэма: эпическая или драматическая. Санскритская литература выдвинула не только крупных поэтов, но и видных теоретиков поэзии. В Европе наиболее известным из них является Анандавардхна, автор трактата о поэзии «Дхваньялока» (IX в.).
 |
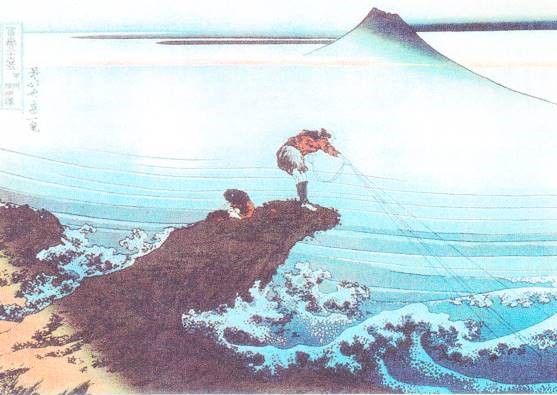 |
|
Иероглифы на картине Шень Чжоу - часть окружающего мира. Краски равномерно размыты, мазки стремительны, энергичны. Переплетение линий иероглифов и их танцующий ритм чередования создают неповторимый ландшафт, навевают настроение уединенности и созерцательности. |
Воздушная гирлянда иероглифов напоминает о вечном несоответствии бурлящего океана людских страстей и безмолвной безучастности природы (рисунок «Рыбак» Кацусики Хокусай Кадзикавары из альбома «Тридцать шесть видов Фудзи» (1823 - 1831). |
Другая древнейшая стихотворная культура Востока — арабо-персидская, часто называемая также арузом. Древнейшие из дошедших до нас текстов арабских поэтов относятся к V - VI вв. К этому времени складывается определенная схема классического арабского стиха, составленного из строчек-бейтов, распадающихся на полустишия, в свою очередь состоящие из стоп. Основной принцип арабского стиха — закономерное чередование долгих и кратких гласных. В средневековой поэзии арабов было 16 основных размеров. Бейты соединялись в стихотворения разных жанров — кыды, касыды (аналог европейской оды) и газели (любовное стихотворение) — при помощи одной рифмы. Поэтому арабские стихотворения, не имеющие названий, часто именуются по рифме («Ламия» — стихотворение с рифмой на лам, «Нуния» — на нун и т. д.). В результате арабского завоевания Средней Азии сюда приходит развитая поэтическая культура арабов — появляется поэзия, называемая средневосточным Возрождением: сначала на арабском, а потом на персидском (фарси) языках. Она унаследовала и довела до виртуозности принципы аруза. В этой традиции работали великие поэты Средней Азии: Рудаки (IX - X вв.), Фирдоуси (X - XI вв.), Омар Хайям (XI - XII вв.), Низами Гянджеви (XII - XIII вв.), Саади (XIII в.), Руми (XIII в.), Джами (XV в.). Поэзия фарси унаследовала от арабской и развила дальше традиционную систему жанров с соответствующими ей строгими правилами стихосложения. Касыды и газели, как и в арабской поэзии, строились на чередовании долгих и кратких слогов и сквозном повторе одной рифмы, причем в первом двустишии рифмовались между собой обе строки, в остальных — каждая четная рифмовалась, а нечетная оставалась нерифмованной («холостой»). По той же схеме строились и четырехстрочные миниатюры-рубаи. В больших эпических поэмах (месневи) стихи рифмовались попарно, образуя двустишия.
|
Японскую поэзию обычно относят к разряду силлабической. поскольку правила строго регламентируют количество слогов в двух наиболее распространенных жанрах японской поэзии - танка (пятистишие) и хайку (трехстишие). В танка 31 слог, по строкам они распределяются так: 5-7-5-7-7; в хайку - 17, по схеме 5-7-5. Очень важен контраст длины строк, позволяющий создать особое напряжение поэтической речи. |
|
 |
Цветы сливы - маленькие луны. Отсветы и тени разбегаются в дымке света.(Рисунок Ито Якунто, XVIII в.)
|
На совершенно иных принципах основана поэзия Китая, Японии, Кореи, Вьетнама и других стран Дальнего Востока. Стихотворное творчество обусловлено особенностями языков этого региона. Оно основано на иероглифическом письме, благодаря которому каждое стихотворение оказывается одновременно произведением поэтического и каллиграфического искусства. Оно требует не только произнесения, но и рассматривания. Многозначность большинства иероглифов является основой для разных вариантов чтения и понимания строк, которые закладывает в свои стихи автор. Для китайской и вьетнамской поэзии важно различение звуков по высоте тона. В качестве стихообразующего элемента высота выступает аналогом долготы/краткости в других языках, но имеет большее количество вариантов. Они образуют богатый набор китайских размеров, закрепленных в определенных мелодиях, на которые писали свои стихи поэты. В лирическом жанре цы таких мелодий использовалось около 660. Стихи в классической китайской поэзии жанра ши различаются по количеству слов-иероглифов в строке, объединяются в двустишия и скрепляются единой для всего стихотворения рифмой. Эти особенности китайской поэзии практически невозможно сохранить в переводах на европейские языки, в том числе и на русский. Не менее сложной для переложения является классическая японская поэзия.
В XX в. большинство литератур Востока оказалось под влиянием европейской поэзии, в них начал активно развиваться силлабо-тонический, тонический и свободный стих. Однако традиционные формы, существующие более 1000 лет, не исчерпали своих возможностей и по сей день.
Страстное стремление к божественному и в то же время ощущение могучей силы и великих возможностей человека отличали культуру и словесность Предвозрождения.
ПРЕДВОЗРОЖДЕНИЕ (или Проторенессанс) — переходный период между Средними веками и эпохой Возрождения. А. Ф. Лосев, посвятивший в своей «Эстетике Возрождения» (1978) большой раздел Проторенессансу, называет философской основой этого явления неоплатонизм, развитый Фомой Аквинским, Бонавентурой, Роджером Бэконом, Дунсом Скоттом и другими мыслителями XIII в., традиционно относимыми к схоластике.
ФОМА АКВИНСКИЙ — крупнейший христианский философ, чей авторитет сопоставим с авторитетом «отцов церкви». От своего учителя Альберта Великого он воспринял учение о величии разума и его значении в вопросах веры и откровения, о разумности и самоценности красоты. По Фоме Аквинскому, красота заключается в цельности (integritas), пропорции, или созвучии (consonantia), и ясности (claritas). Он противопоставляет красоту и благо: «Благом следует называть то, что просто удовлетворяет желание, а красота говорит там, где и самое восприятие предмета доставляет удовольствие».
Роль религиозного сознания в литературе этого периода велика, что проявляется в системе образов, аллегоричности, библейской символике и т. д. Особенно это очевидно в творчестве Данте. Однако существовала возможность парадоксального и пародийного использования традиций средневековой культуры, что отмечается в произведениях Д. Чосера и Ф. Вийона.
|
|
|
|
Альберт Великий, философ и писатель позднего Средневековья, из монашеского ордена Св. Доминика. Фреска 1352 г. Утонченная мистика и схоластика Средневековья составили тот уникальный опыт, который был использован не только рыцарской литературой, но и «стильновизмом» XIV в. |
Екатерина Сиенская, святая католической церкви, духовное творчество которой повлияло на развитие европейской мистической поэзии. |
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЕМ в литературе итальянского Предвозрождения стала поэзия «нового сладостного стиля» (dolce stil nuovo), сложившаяся во Флоренции в конце XIII в. Одним из центров культурной
жизни Европы стал этот город-республика. Опираясь на традиции куртуазной поэзии, представители этой школы (Гвидо Гвиницелли, Гвидо Кавальканти, Данте Алигьери) отстаивают новое понимание любви, преобразуют образ Прекрасной Дамы и поэта по сравнению с поэзией трубадуров: Дама, «что с небес сошла на землю — явить чудо» (Данте), перестает восприниматься как земная женщина. Она уподобляется Богоматери, а любовь поэта приобретает черты религиозного поклонения, но вместе с тем становится более индивидуализированной, лишена мистицизма и наполнена радостью. Поэты dolce stil nuovo разрабатывают новые поэтические жанры, среди которых: канцона (стихотворение со строфами одинаковой структуры), баллата (стихотворение со строфами неодинаковой структуры), сонет.ВЕРШИНОЙ ИТАЛЬЯНСКОГО ПРЕДВОЗРОЖДЕНИЯ стало творчество Данте Алигьери. Его «Новая жизнь» (ок. 1292, изд. 1576) — комментированный поэтический цикл и одновременно первая европейская художественная автобиография. В книге (в стихах и комментариях к ним) рассказывается о возвышенной любви Данте к Беатриче Портинари, флорентийке, вышедшей замуж за Симоне деи Барди и умершей в июне 1290 г., не достигнув 25 лет. Помещая в книгу канцону на смерть Беатриче, Данте считает святотатством после нее давать комментарий, как после других стихов, поэтому помещает объяснение перед канцоной. В финале содержится обещание прославить Беатриче в стихах. Беатриче под пером поэта, развивающего традиции поэзии «нового сладостного стиля», становится образом прекраснейшей, благороднейшей, добродетельной женщины, «дарующей блаженство» (таков перевод ее имени на русский язык). В пору изгнания Данте, готовясь к созданию поэмы о Беатриче, пишет трактаты «Искусство поэзии на народном языке», «О монархии», «Пир». В неоконченном «Пире» изложено учение о четырех смыслах произведения. Данте утверждает, что текст нужно понимать не только в буквальном, но еще в трех смыслах: аллегорическом («истина, скрытая под прекрасной ложью»), моральном («смысл, который читатели должны внимательно отыскивать в писаниях на пользу себе и своим ученикам») и апагогическом (в переводе: «влекущем ввысь»), о котором Данте пишет: «Четвертый смысл называется анагогическим, то есть сверхсмыслом или духовным объяснением писания; он остается (истинным) также и в буквальном смысле и через вещи означенные выражает вещи наивысшие, причастные вечной славе».
«Божественная комедия» (1307
- 1321) — один из величайших памятников мировой литературы, синтез средневекового мировоззрения и предвестие Возрождения. Считается, что толчком к созданию поэмы стал сон, увиденный Данте в 1300 г.Ее буквальный смысл — изображение судеб людей после смерти. Аллегорический смысл заключается в идее возмездия: человек, наделенный свободой воли, будет наказан за совершенные грехи и вознагражден за добродетельную жизнь. Моральный смысл поэмы выражен в стремлении поэта удержать людей от зла и направить их к добру. Анагогический смысл «Божественной комедии», высший смысл поэмы заключается для Данте в стремлении воспеть Беатриче и великую силу любви к ней, спасшую его от заблуждений и позволившую написать поэму.
В основе художественного мира и поэтической формы поэмы лежали аллегоричность и символичность, характерные для средневековой литературы. Пространство в поэме концентрично (состоит из кругов) и в то же время подчинено вертикали, идущей от центра Земли (одновременно центра Вселенной и низшей точки Ада, где наказывается Сатана) в две стороны — к поверхности Земли, где живут люди, и к Чистилищу и Земному раю на обратной стороне Земли, а затем — к сферам Рая вплоть до Эмпирея, местопребывания Бога. Время также двуедино: с одной стороны, оно ограничено весной 1300 г., с другой — в историях душ, находящихся в загробном мире, концентрированно представлены как античность (от Гомера до Августина), так и все последующие времена вплоть до современности; более того, в поэме есть предсказания будущего. Историзма как принципа в поэме нет. Люди, жившие в разные века, сопоставляются вместе, время исчезает, превращаясь или в точку, или в вечность.
Сюжет поэмы развивается в двух планах. Первый — рассказ о путешествии Данте по загробному миру, ведущийся в хронологической последовательности. Этот план позволяет развиться второй плоскости повествования — отдельным историям душ тех людей, с которыми встречается поэт (история Франчески да Римини и ее возлюбленного Паоло, история гибели графа Уголино и его детей, уморенных голодом архиепископом Руджиери). Велика роль «Божественной комедии» в формировании нового взгляда на человека. Очень существенно, что в поэме по загробному миру путешествует не душа спящего (как это было, например, в средневековом «Видении Тнутдала»), а сам поэт во плоти. Он освобождается от грехов не традиционным церковным путем, не через молит'вы, посты и воздержание, а ведомый разумом и высокой любовью. Именно этот путь приводит его к созерцанию Божественного света. Отсюда одна из важнейших идей «Божественной комедии»: человек не ничтожество. Опираясь на то, что дано ему от природы, Бога, — на разум и любовь, он может приблизиться к Творцу, может достичь всего. Так в «Божественной комедии» Данте, подводившей итог достижениям средневековой культуры, возникает ренессансный антропоцентризм (представление о человеке как о центре мироздания), рождается гуманизм эпохи Возрождения.
|
Данте рассказывает о первой встрече с Беатриче, когда будущему поэту исполнилось девять лет, а девочке еще не исполнилось девяти. Вторая знаменательная встреча произошла через девять лет. Поэт восторгается Беатриче, ловит каждый ее взгляд, скрывает свою любовь, демонстрируя окружающим, что любит другую даму, но тем самым вызывает немилость Беатриче и полон раскаяния. Незадолго до нового девятилетнего срока Беатриче умирает, и для поэта это вселенская катастрофа. Организующим сюжетным элементом в «Кентерберийских рассказах» является путешествие 29 паломников, отправляющихся на поклонение мощам убитого в 1170 г. по приказу Генриха II архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета, собрались в таверне «Табард» в Соуерке, принимают предложение хозяина таверны по дороге, чтобы скоротать время, рассказывать какие-нибудь правдивые или придуманные истории, лучший рассказчик будет славно угощен в таверне на обратном пути, а уклонившийся - наказан. |
|
|
|
|
|
Гравюра В. Фаворского к «Новой жизни» Данте. |
Страница пролога «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера. Рукопись (XIV в.). |
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIV В. в английской литературе выступают два наиболее значительных представителя Проторенессанса — Ленгленд и Чосер. Уильям Ленгленд (ок. 1330
- ок. 1400) около 1362 г. написал первую редакцию, а незадолго до смерти — вторую аллегорической поэмы «Видение о Петре Пахаре». Ленгленд использовал средневековую форму видения: поэт, ставший пилигримом, чтобы «узнать, какие в мире чудеса», видит сон, в котором перед ним предстают толпы людей, и знатных, и простых, «Одни тянули плут, копали землю, //В труде тяжелом взращивая хлеб; // Другие ж их богатства истребляли» (пер. А. Сиповича). Поэт видит различные пороки, представленные в житейских образах. Таково, например, Чревоугодие, воплощенное в образе Обжоры, пьяного ремесленника, попавшего вместо церкви, куда шел исповедаться в грехах, в кабак. Тысячи грешников, не знающих пути к Правде, обращаются к Петру Пахарю, знающему этот путь, и он называет добродетели, ведущие к Правде: Кротость, Скромность, Воздержание и т. д. Главное — надо преодолеть лень и трудиться, и пилигримы, ищущие Правду, помогают ему пахать землю и тем самым приобщаются к Правде. Джефри Чосер (ок. 1340 - 1400), называемый «отцом английской поэзии», — один из родоначальников английского литературного языка. Чосер как писатель еще близок традициям средневековой литературы, он перевел на английский язык аллегорический «Роман о Розе», написал несколько видений («Дом славы», «Птичий парламент» и др.), в которых тем не менее чувствуется влияние итальянского гуманизма. «Кентерберийские рассказы» (1386 - 1389) — главное произведение Чосера. Особо значима в книге рамочная новелла, затмевающая последующие многоцветьем красок, жизненностью портретов персонажей. Чосер демонстрирует поразительное жизнелюбие, его юмор редко перерастает в сатиру, священные цели паломников не мешают им предаваться земным радостям. Чосеру присущи такие черты эстетики Предвозрождения, как парадоксальность и пародийность.
ВОЗРОЖДЕНИЕМ называют культуру (искусство и философию) европейских стран с середины XIV в. по начало XVI в. Наиболее полно и всесторонне оно нашло свое отражение в искусстве и литературах стран Западной и Центральной Европы.
МИРОВОЗЗРЕНИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ вызревало в сознании европейцев позднего Средневековья. Идейным, философским зерном Возрождения является гуманизм (от лат.
homo — «человек»), а его «популяризаторами» — гуманисты. Однако слово «гуманизм» применительно к Европе того времени означало не столько «милосердие» или «мягкосердечие», сколько людей, занимающихся изучением человека (studia humanitatis) — антропологов в современном понимании, — ученых и мыслителей, вплотную изучающих психику, формы поведения, привычки, строение тела, место человека в мире. Причем человек осознавался средоточием и «конечным пунктом» совершенно разных влияний: государства и церкви, животных и птиц, звезд и планет (астрология) , злых или добрых сил, различных стихий, даже соотношений чисел (математика и астрология). И, конечно же, Бога. Человек стал мерой всех вещей. На тему «О достоинстве и превосходстве человека» (Д. Манетти, 1452) пишутся трактаты и произносятся речи. Ранее же говорили «О презрении к миру, или О ничтожестве человеческой жизни» (Папа Иннокентий I, ок. 1210) и недооценивали человека. Теперь же Л. Валла и М. Фичино пишут трактаты «О Наслаждении» (1431, 1457). А Пико делла Мирандола вообразил себе, как Бог говорил Адаму: «Мы поставили тебя в центре мира, чтобы тебе легче было наблюдать, что есть в мире» («Тезисы», 1487). Заслуга гуманистов — в изучении старых библиотек, в восстановлении и переводе на латынь древних греческих, византийских, древнееврейских и халдейских рукописей.Музыкант, писатель, поэт, живописец и скульптор стали признаваться художниками, демиургами, совершающими загадочные манипуляции с материалом. В глазах окружающих они превращаются в виртуозов, артистов духа, кудесников на земле. Артистизм, виртуозность и составляют дух Ренессанса.
Не существовало четкою разделения между науками и искусством (даже война считалась эстетическим спектаклем). Прикладные «искусства», все более превращающиеся в отрасли науки (география, минералогия, астрономия, алгебра, зоология и ботаника, медицина), отрывались от опеки богословия, средневековой схоластики (от лат.
scholastikos — «школьный»; гни религиозной философии, интересующейся формально-логически ч и проблемами веры) и догматизма (от греч. dogma — «постановление»; истина, принимаемая без доказательств и обсуждений). В Средневековье все содержание наук и искусства было компактно «упаковано» в семи «свободных искусствах»: диалектики, музыки, геометрии, астрономии, арифметики, риторики, грамматики. Настало время тщательно их изучить, разграничить «сферы влияний», определить главное, описать мир как единый работающий механизм.
 |
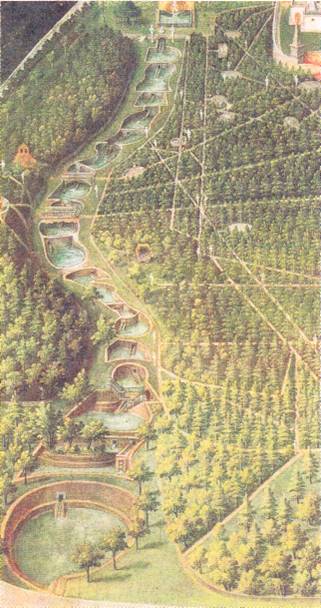 |
 |
|
Иногда дату начала времени Возрождения называют с точностью до месяца и дня: 8 апреля 1341 г., на Пасху. В этот день сенатор города Рима на Капитолийском холме вручил лавровый венок поэту Франческо Петрарке. Церемония венчания поэта существовала в античной древности, но уже несколько веков не возобновлялась. |
С. Буонсиньори. «Вид на Флоренцию» (ок. 1480). |
Франческо Пармиджанино. «Автопортрет в выпуклом зеркале» (1524). |
РОДИНОЙ ВОЗРОЖДЕНИЯ считают свободные итальянские города-республики Флоренцию и Венецию. До этого времени можно говорить о проторенессансной культуре (греч.
protos — «первый» и Ренессанс; см. Предвозрождение) в Италии XIII - XIV вв., провозвестниками которой были, например, поэт Данте Алигьери и живописец Дж. ди Бондоне (1266 или 1267 - 1337).Следует признать, что искусство архитектуры, живописи, скульптуры, музыки и словесности стали бурно развиваться благодаря востребованности со стороны знатных флорентийских вельмож, дожей, богатых купцов и предпринимателей. Первоначальный запрос на восхваление «заказчика» художником сменился стремлением элиты самим создавать прекрасные «нетленные» творения (Лоренцо Медичи, Маргарита Наваррская). Человек впервые за время тотального давления церкви и монархии почувствовал себя «хозяином жизни». Наличие материальных средств, амбициозность и некоторый авантюризм подвигли богатую элиту на финансовую поддержку последних научных разработок, создание новых технологий в строительстве, материаловедении, кораблестроении. Деловая и политическая активность стремилась к расширению, заявлению себя в окружающем мире. Это подвигло инициативных и талантливых людей на рискованные путешествия, завоевания, миссионерскую деятельность, озвучивание во всеуслышание тех идей, о которых догадывались, но боялись говорить. Университетские ученые почувствовали необходимость в развитии прикладных сфер исследований: астрономии, математики, химии.
Образование перестает быть привилегией алхимиков и астрологов, клириков и монаршего двора. Поэтому книгопечатание было «подготовлено» этим общественным запросом: примерно в 1441 г. И. Гутенберг сконструировал книгопечатный стереотип (станок). Буква сама по себе начала утрачивать священное значение, графическую рукотворную ценность — «штучность». Возникло новое отношение к книге. Если раньше автор и читатель выступали как учитель и ученик, а сам текст, часто предназначенный для ритуалов (церковных или куртуазных), прочитывался вслух для одновременного ознакомления многих людей, то теперь книга стала равноправным собеседником, поверенным в делах (в том числе и в меркантильных: появилась двухсторонняя бухгалтерия и стали широко использоваться арабские цифры, ускоряющие счет). Ей все чаще стали доверять самое сокровенное, скрытое и даже общественно порицаемое. Книга обратилась внутрь человека, «гуманизировалась», стала отражать причудливые ландшафты и перспективы души героя. Писатели стали учиться выражать скрытые, ранее почти не отражавшиеся в литературе чувства и мысли. При переходе из зазеркального мира авторского вымысла во внешний, земной мир начали рождаться новые образы. Появился гротеск. Вымысел, который ранее почти не допускался (кроме, пожалуй, рыцарских романов) в сочинения писателей по куртуазным соображениям или из христианских моральных традиций, захватил их целиком. Ренессансные писатели в той или иной мере погрузились в иные миры. Литература Возрождения началась всплеском лирических жанров: пасторали (например, «Фьозоланские нимфы», изд. 1477, Дж. Боккаччо), сонета («Канцоньере», 1327 - 1374, Ф. Петрарки), поэмы («Неистовый Роланд», 1507 - 1532, Л. Ариосто). Появившиеся сочинения-утопии (от греч.
u — «нет» и topos — «место»: несуществующая земля; по другой версии, от eu — «благословенный» и topos: благословенная страна) стали не только социально-философскими трудами, но и торжеством вымысла. Это уже была игра образов, интеллектуальных допущений и гипотез («Утопия», 1516, Т. Мора; «Город солнца», 1602, Т. Кампанеллы). Книга стала инструментом пропаганды не только богословского учения, но и научно-философских изысканий. Сам художественный вымысел приобрел черты научного исследования. Возможно, западноевропейская художественная литература, исключая популярную, беллетристическую, до сих пор в основе своей остается сциентической (от лат. scient — «наука»).
|
Дж. Арчимбольдо писал живописные причуды, составляя человеческие и аллегорические фигуры из самых разных предметов - цветов, фруктов, раковин, морских животных (справа - картина «Лето» из цикла «Времена года», 1563). Каждое время года - торжество одной из стихий мироздания: огня, земли, воды, воздуха. Человек - лишь фрагментик бытия, коллаж, собранный кудесницей природой. Творчество Арчимбольдо было открыто заново сюрреалистами в XX в.
Математика, музыка, магия и словесность тогда еще сосуществовали в одном волшебном сосуде. Так, известный маг Джон Ди, живший по приглашению короля Рудольфа II в Праге (конец XV в.), предварил книгу «Элементы» древнегреческого геометра Евклида эзотерическим предисловием. Через бесконечность Вселенной его математика доказывала вездесущность Бога. Знание тогда все еще было мистическим, понятным только для посвященных. Оно описывалось образно: аллегориями, метафорическими формулами. Так, интересной представляется числовая и цветовая символика в «Божественной комедии » Данте.
|
ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ сыграло новое открытие европейскими учеными людьми древнегреческих письменных памятников: философских трактатов, художественной литературы, переводов эзотерических (от греч. esoterikos — «внутренний», «тайный», «мистический») и гностических (от греч. gnostikos — «знающий») сочинений — текстов об «истинном» знании: о Боге и изначальных тайнах мироздания (сочинения Гермеса Трисмегиста, Василида, Саторнила, Валентина). Их находили в старых папских, епископальных и монастырских библиотеках, привозили из Византии. Первые из них уже в Средневековье (ок. 1290) издаются и комментируются Ловато Ловати из Венеции. Позже Петрарка и Боккаччо начинают собирать коллекции латинских рукописей (вообще, сознательное и выборочное коллекционирование — одно из открытий Ренессанса). Многие книги содержали идеи, резко отличавшиеся от христианского, однозначно теоцентристского (от греч. teds — «бог» и лат. centrum — «центр») миропонимания. Возникновение идеологического выбора вызвало сомнение в привычных религиозных догмах.
Заметное влияние на сознание европейцев оказало учение неоплатоников (чьи сочинения изучались на протяжении всего Средневековья). Античные (Плотин, Прокл), восточные (А. Гермей, Порфирий, М. Пселл, Ямвлих) неоплатоники утверждали, что Бог не сводим ни к чему земному. Познавая его, человек узнает себя; красота и гармония — выражение божественного. Существование мира (цепь рождений/умираний) обусловлено постоянными изменениями, ничто не остается прежним, божественный замысел продолжает как бы самореализовываться, истекать согласно высшей непостижимой идее. Это отличалось от неподвижности христианского бытия. Для неоплатоников была важна человеческая индивидуальность, чьи психические состояния одухотворены, а действия продиктованы высшей волей. Неоплатонизм пытался примирить христианство с классической философией античности, учение Платона об эманации («истечении») духа с логикой и теорией Аристотеля о мимесисе в искусстве (от греч. mime sis — «подражание»; художник подражает природе человека). Он вобрал в себя элементы неопифагореизма: числовая магия и идея бессмертности души (подобная буддийскому Колесу жизни — сансаре и закону перевоплощений душ — карме). Эти идеи нашли последователей в Италии XIV в.: у Д. Пико делла Мирандолы (автор «900 тезисов, касающихся философии, каббалистики, теологии» — 1487 — мечтал о синтезе всех философских систем мира), А. Полициано, М. Фичино (учредитель Платоновской академии, алхимик, маг и переводчик Гермеса Трисмегиста). Крупнейшие ученые Ренессанса — И. Кеплер, Н. Коперник, Г. Галилей, — усматривавшие в мире единый мировой порядок («музыку сфер»), считали себя платониками. Кроме того, идея создания идеального государства, сам утопизм Ренессанса были унаследованы от универсальной философии Платона. При всей условной замкнутости средневекового христианского мира философия и мистическая практика Востока регулярно «омывала» южные оконечности Европы (Испанию и Италию).
Убежденность в неповторимости земного мира и ощущение кратковременности собственного бытования создали потребность в карнавале. Он возник в Италии незадолго до «освобождения» человека — в XIII в. Однако подлинная, язычески стихийная суть его проявилась в ренессансные времена: травести (от фр. travestir — «переодевать») и игра в узнавание, смена своей жизненной роли ненадолго и «понарошку», «утопическое царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия» (М. Бахтин).
|
Знакомство с творениями античных художников и их «возрождение» проходило в Европе в разное время, напоминая расхождение концентрических волн (см. Литература Возрождения: печаль падших ангелов). Принято говорить об итальянском (Южном) Возрождении, Северном Возрождении (в Германии, Нидерландах и Скандинавии) и позднем - зрелом - Возрождении (в Англии и Испании). Отдельно можно говорить о Возрождении в славянских странах (см. Славянские литературы: от зарождения до Просвещения . |
|
|
|
Фрагмент картины «Смысл прослушивания» Я. Брейгеля-старшего (ок. 1617). |
СМЕНА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ КООРДИНАТ и приток ранее неизвестных идей породили особое историко-культурное сознание европейцев середины XIV в. Они сочли античный универсализм мышления и баланс профанного и сакрального (земного и божественно-непостижимого) миров лучшими условиями для проявления человеком себя: своих надежд и тревог, силы и слабости. Вершиной этой мудрости (homo universalis — «человек универсальный») гуманисты признавали литературу и философию античности, созданную на золотой латыни (в противоположность латыни vulgar Средневековья). Старая незыблемая вертикаль «Бог — человек» ограничивала свободу воли и выбора человека. Плоскость этой иерархии стала разворачиваться в горизонтальной проекции отношений человека с человеком, с миром, с Вселенной. Поэтому впервые это обращение к античному сознанию первым историком новой культуры Дж. Вазари было названо «Возрождением» («Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», 1550). Его французское наименование — «Ренессанс» (Renaissance) — было введено в историю культуры французским историком XIX в. Ж. Мишле. Слово «возрождение» — его русская калька. Европейские ученые и гуманисты стали обладать своеобразной культурной дальнозоркостью, историзмом сознания. Период между падением Западной Римской империи (476) и Восточной Римской империи (1453) они назвали Средними веками.
|
Итальянский гуманист Лоренцо Валла доказал, что «Константинов дар», оправдывающая притязания церкви на светскую власть в Западной Римской империи и якобы врученная императором Константином Папе Сильвестру I, - подложная рукопись. Она была написана в VIII в. в папской канцелярии. Так ученые и мыслители Ренессанса благодаря своим филологическим разысканиям разоблачали многие мистификации деятелей средневековой церкви.
Рисунок А. Гончарова к книге стихов Ф. Петрарки. |
РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ Возрождения условно можно разделить на три этапа. Первый этап — с начала XIV по начало XV в. — характеризовался сильной позицией христианской церковной организации жизни. Латинский язык (отчасти и французский) обеспечивал единство в области культуры. Но «латынь стали изучать и научно, и эстетически, и стилистически. Ею стали любоваться и в ней разыскивали наилучший стиль» (А. Ф. Лосев). Различные религиозные и еретические течения, деятельность гуманистов расшатывают монополию церкви на развитие наук и искусства. Именно тогда литературное развитие становится разновременным, непоследовательным в разных странах и даже в рамках одной литературы. С типичными представителями раннего Возрождения — Ф. Петраркой и Дж. Боккаччо — одновременно публикуются вполне «средневековые» Ф. Саккетти и Екатерина Сиенская. В это время наиболее передовой оказывается культура Италии, чье Возрождение принято именовать периодами по названиям столетий: Треченто (XIV в.) — ранний, Кватроченто (XV в.) — Высокий, Чинквеченто (XVI в.) — поздний Ренессанс. Гуманизм этого времени можно назвать гражданским. Разворачивается деятельность неоплатоников. «Ренессанс уже тогда выглядит океаном противоречий, нестройным концертом различных устремлений, мучительного сожительства воли к господству и еще зыбкого знания, влечения к красоте и нездорового интереса к ужасному, смесью простоты и усложненности, целомудрия и чувственности, милосердия и ожесточения» (Ж. де Люмо).
Вне Италии еще отсутствовало осознание своего времени как поворотного в истории. В итальянских городах растет интерес к античным жанрам. Гуманисты разрабатывают принципы филологического анализа текста и способы определения его подлинности (Петрарка, Л. Валла). Возрождаются пасторальная лирика и сонет (Петрарка), появляется характерная ренессансная новелла (Боккаччо, Мазуччо).
Во Франции, где литература развивается, исходя из местных, национальных традиций, возникают новые жанры — фарс и городская новелла, оперирующие пока еще старой образной системой.
|
В литературе Ренессанса основным сюжетообразущим мотивом, «генерирующим» сюжеты и причуды фабулы, была многократно используемая мифологема искуса (Библия, сказания о Будде, легенды о Мохаммеде и многое другое). Этот мотив был проекцией темы бунта против Создателя, оспаривания его центрального места в мироздании. Человек возомнил себя демиургом, единовластным творцом в земной жизни. Именно церковники и были первым объектом сатиры, осмеяния, розыгрышей. Причем сомнение в святости папства и церкви выражали зачастую сами священнослужители (М. Фичино). Они также были инициаторами реформ (М. Лютер). Известный русский философ А. Ф. Лосев в своей книге «Эстетика Возрождения» указал на то, что время Ренессанса в Западной Европе XIV - XVII вв. было невообразимой вакханалией, разгулом жестокости, предательств, интриг, заказных убийств: отравлений и удушений, - подлогов и коррупции, кровосмешений, извращенных сексуальных контактов и издевательств. Все это грязным потоком разлилось как в монарших домах, монастырях и кельях монахов, пап, епископов, так и в частной жизни простых тружеников. Говоря о «аморальной и звериной» эстетике Ренессанса, А. Ф. Лосев признает, что она «обладала всеми чертами самодовлеющей значимости, необычной красочностью и выразительностью, какой-то <...> небывалой целесообразностью без цели». Ученый будто продолжил мысль, высказанную когда-то А. Франсом: Ренессанс - «беспокойное брожение мысли», «прекраснейший недуг», «божественное чудовище, которое мы лелеем, хотя оно пожирает нас».
А. Дюрер. Адам и Ева (1507). |
ВТОРОЙ ЭТАП (с середины XV в. до середины XVI в.), ознаменованный тремя важными событиями: падением Константинополя (1453), окончанием Столетней войны между Францией и Англией и изобретением книгопечатания, — характеризовался интересом к искусству и литературе Италии. Идеи гуманизма, изложенные новой возрожденной латынью, достигают северных стран Европы — Германии и Нидерландов, Англии, Скандинавии. После того как в 1517 г. в Виттенберге М. Лютер якобы помещает на дверях своего храма 95 тезисов против продажи церковью индульгенций (отпущения грехов), в Европе волнами расходится Реформация.
Новая словесность, светская по духу и гуманистическая по устремлениям, обращается к народным традициям и черпает образную и стилистическую силу в сочинениях античных авторов. В искусстве появляются характерные черты времени — монументальность и титанизм: буйство страстей, безудержность чувств, радостное и неограниченное чувство величия человека, его свободы. Художники любуются красотой человеческого тела, пропорциями предметов, машин, сводов и форм светских и церковных зданий. Они мнят себя ваятелями собственной жизни и природы вокруг. Ренессансный человек пробует «на зуб», на прочность и вечность все явления бытия: общества, природы и самого характера человека (К. Марло). Собирается коллекция типов и сюжетов, предметов и характеров.
В это время знаменитыми становятся произведения итальянцев А. Полициано, Л. Ариосто, Н. Макиавелли, Б. Кастильоне, французов Ф. Вийона, Маргариты Наваррской, П. Ронсара, испанца М. де Сервантеса и португальца Л. де Камоэнса, англичан К. Марло, Т. Мора. Складывается новая система литературных жанров во всех родах литературы. Некоторые представляют собой глубоко измененные формы, унаследованные от Средневековья (сонет, мадригал) или от Античности (ода, элегия, эпиграмма). Другие представляют качественно новые жанровые образования: в эпосе — прозаический роман (Ф. Рабле, М. де Сервантес), в драматургии — комедия (Лопе де Вега) и историческая драма (У. Шекспир), в лирике — ироикомическая поэма (Л. Ариосто, Л. Пульчи). Появляются публицистика и мемуаристика (Б. Челлини, С. Брант), эссеистическая проза (М. Монтень, Ф. Бэкон). Этот период можно назвать временем кристаллизации новых типов повествования, вымысла и появления стилистических новаций. Рождаются национальные литературы со своим историко-бытовым фоном, характерами героев и системой образов.
ПОСЛЕ РАЗВЕРНУВШЕЙСЯ В ЕВРОПЕ Контрреформации и начавшегося террора инквизиции общее настроение гуманистов сменяется сомнением в возможности человека всецело проявить себя. В их произведениях, трактатах, частной переписке все более усиливаются пессимистические ноты. Это третий условный этап Ренессанса — его закат и медленное угасание идеалов. История ренессансной Европы и практика гуманистов саморазоблачили их утопию, показали не силу и свободу человека, но зависимость от других людей, обстоятельств, идей. «Человек душой своей во власти священника, телом — во власти врача, имуществом своим — юриста, а над всеми ними возвышаются папа и император. Простой каприз этих последних решает судьбы людей, мнений, наук, искусства», — писал в 1526 г. в «Трактате о недостоверности и тщете наук» К. Агриппа (пер. С. Д. Артамонова). Возникновение бюргерской культуры (от нем. Burger — «горожанин»), зарождение мещанского — скучного и утилитарного — мировоззрения, а также маниакальное устремление людей к прибыли и пользе привели к разочаровнию в человеке. Люди все меньше прислушиваются к голосу совести. Ими управляет слепая природа, инстинкт самосохранения, откровенный эгоизм и гордыня. Русский философ XX в. А. Ф. Лосев отмечал, что «мещанскую теорию жизни проповедует не кто иной, как все тот же платоник Альберти, несмотря на свою кровную связь с Ранним и Высоким Возрождением. В своем трактате «О семейной жизни» он изображает жизнь с постоянной жаждой ведения хозяйства, с постоянным воплем о необходимости сокращать расходы и повышать доходы хозяйства, с проповедью деловитости, осмотрительности, осторожности, расчетливости, дальновидности, бережливости взамен всякой праздности и расточительности». А. Ф. Лосев считал, что «стихийный индивидуализм эпохи, эта уже обнаженная от всяких теорий человеческая личность, в основе своей аморальная, но зато в своем бесконечном самоутверждении и своей ничем не сдерживаемой стихийности любых страстей, любых аффектов и любых капризов доходила до какого-то самолюбования и до какой-то дикой и звериной эстетики» («Эстетика Возрождения», 1978). Ранее подобный феномен противоречивости Ренессанса пытался объяснить другой русский философ — Н. А. Бердяев. Окружающей жизни уже более соответствуют драма и трагедия, поднятые У. Шекспиром на небывалую высоту, новый («антирыцарский») роман (М. де Сервантес) и эссе, вдумчивость которого шаг за шагом исследует особенности и противоречивость существования человека (М. Монтень). Его соотечественник Ф. Вийон превращает известную деловую юридическую форму — завещание — из тривиального практического документа в пронзительный монолог-исповедь (1456, 1462).
|
Применительно к русской литературе XIV - XVI вв. можно говорить лишь о предвозрожденческих чертах. «Движение к человеку еще не освободилось от религиозной оболочки. Книжность была тесно связана с церковным заказом и развивалась в основном в монастырях. Славянское сознание было связано с особым мистицизмом веры, возникшим. в частности, под влиянием византийского учения - исихазма (от греч. hesychia - «покой», «молчание»). Исихазм (Г. Палама, Г. Синаит; на Руси - С. Радонежский) развивал сисгему «восхождения духа к божеству, учение о самонаблюдении, имеющем целью нравственное самоулучшение и целую лестницу добродетелей. Углубляясь в себя, человек должен был победить свои страсти и отрешиться от всего земного, в результате чего он достигал экстатического созерцания, безмолвия» (Д. С. Лихачев). Характеризуются отдельные психологические состояния, но не их носители - черта именно предвозрожденческая. Искусство русской иконы (Дионисий. А. Рублев) породило особую «сердечность» (Д. С. Лихачев) русского искусства и литературы. |
|
|
|
|
|
Художники русского Серебряного века нередко обращались к наследию античности и Возрождения. А. Бенуа. «Античный ужас» (1908). |
Картины Дж. Арчимбольдо, часто аллегоричные, иногда все же содержат сложную символику. Его причудливый позднеренессансный маньеризм напоминает заумь постмодернистских комментариев - лабиринтов, в которых бродили художники конца XX в. Дж. Арчимбольдо «Библиотекарь» (ок. 1566). |
Лирические жанры развиваются в сторону углубления формальных изысков и субъективности взгляда художника. Маньеризм (от итал. maniem — «манера», «стиль») отражает трагические диссонансы бытия и необъяснимость человеческих порывов. Подчеркивается демоническое начало в человеке и бессмысленность его жизни. Характерно, что в конце XVI столетия под аристотелевским «подражанием природе» понимают возможность нахождения в самом произведении, «отразившем жизнь», скрытых смыслов. В самой же природе видят тайные намеки на отдаленные события, символы и криптограммы иного бытия. Стиль и образный строй намеренно усложняются, скрывая заложенную художником идею (Гонгора, отчасти Микеланджело и Т. Тассо). С другой стороны, новое прочтение строго логичной «Поэтики» Аристотеля (после знакомства с греческим оригиналом, а не арабским переложением) выдвинуло на первый план не карнавальное платоновское «неистовство поэта», но строгое следование образцам, принятой норме, соответствие формы содержанию. Литература начинает накапливать черты как будущего барокко, так и классицизма.
|
Вид Венеции сверху (XVII в.) |
ПЕРВЫМ итальянским, а следовательно, и европейским гуманистом был Франческо Петрарка — сын нотариуса, прослушавший в Монполье и Болонье лекции по праву, но стезей отца не последовавший: дабы укрепить свое материальное положение, он принял сан и служил кардиналу Дж. Колонна. В 1337 г. Петрарка поселился в живописной французской провинции Воклюзе, «сыгравшей в его жизни ту же роль, что Болдино в жизни Пушкина» (И. Полуяхтова). Он говорил о себе: «Не терпеть нужды и не иметь излишка, не командовать другими и не быть в подчинении — вот моя цель». Он был одержим античной культурой: считал своими личными друзьями деятелей Древнего Рима, писал письма Вергилию и Цицерону. В форме же письма (на латыни) он написал «Письмо к потомкам»: исповедальность была присуща его прозе и поэзии. В одном из многочисленных трактатов — «Тайна» (у нас известен под названием «О презрении к миру») Петрарка в форме диалога с Блаженным Августином пытается понять природу поэзии — грех или богоугодное это дело — и свое место в мире. Противоречивость человека воспринимается им как богатство («я упиваюсь своей душевной борьбой и мукой, с каким-то стесненным сладострастием, что лишь неохотно отрываюсь от них», пер. Е. М. Солоновича), раскованность и стоицизм одновременно. Латинская поэма «Африка» (1339 - 1341), за которую он был удостоен лаврового венка, была сложена как прообраз великого национального будущего Италии. Однако «Африка» не стала «Энеидой» итальянского Возрождения. Ученость в ней превалировала над поэзией» (Б. И. Пуришев).
|
.Автором трактатов «Об уединенной жизни» (1346 - 1366), «О монашеском досуге» (1347), «О средствах против всякой фортуны» (1358 - 1366) и сочинений полемического характера «Инвективы против врачей» (1352 - 1353), «О невежестве собственном и других людей» (1367 - 1370) был Петрарка.Душа Петрарки не находит себе место, «нащупывает» крайние точки пространства. края страданий: «Страшусь - надеюсь, стыну и пылаю; // В пыли влачусь - и в небесах витаю; // Всем в мире чужд и мир обнять готов < .....> А жизни нет и мукам нету края <....> Страданьем жив; со смехом я - рыдаю» (пер. Ю. Верховского). Такая же глобальная амплитуда колебаний души встретится почти через 100 лет у французского поэта Ф. Вийона («Баллада, написанная для состязаний в Блуа», ок. 1458 - 1460). |
|
|
|
|
|
Петрарка был убежден в том, что «наслаждения иссушают душу, суровость очищает, слабости ржавят, труды просветляют; для человека нет ничего естественнее труда, человек рожден для него, как птица для полета и рыба для плавания» (из письма 1359 г.). |
Иллюстрация к поэме Петрарки «Триумфы» (1354). |
Книга Петрарки «Канцоньере» (1327
- 1374), обессмертившая его имя, состояла из двух частей: «На жизнь мадонны Лауры» и «На смерть мадонны Лауры». Она стала своеобразной хрестоматией версификации (стихосложения), включая в себя 317 сонетов, 29 канцон, девять секстин, семь баллад и четыре мадригала. В отличие от предренессансного «нового сладостного стиля», представлявшего любовь как стремление к Господу, а женщину как олицетворение Богоматери, Петрарка помнит о реальной девушке (которую встретил, когда ему было 23 года) и переживает земную печаль (кончину возлюбленной в год эпидемии чумы). Любовь неразлучна со страданиями. В то же время поэт будто ребенок, перебирающий цветные ракушки на берегу гулкого океана природы, охотно играет со словами. Например: Laura (Лаура) — lauro (лавр) — laura (ветерок) — lauro (золото). Совершенство формы, гирлянды троп, образные фигуры: анафоры, антитезы, градации и метафоры, сонетная триада (строфа тезы, строфа антитезы, две строфы — синтез чувств) и безупречный вкус сделали «Канцоньере» эталоном в европейской поэзии. Уже скоро после выхода в свет этой «книги песен» заговорили о петраркизме — подражании музе Петрарки.Огромная заслуга Петрарки состоит в том, что он со всей тщательностью собирал древние свитки и книги, впервые определил методы филологического анализа текста, критерии определения подлинности оригиналов, разработал новые элементы стиля и языка поэзии. Самое же главное — это выдвижение на первый план лирического героя и тщательное изучение жизни, страстей и противоречивости души человека.
|
Любопытно, что именно первый день «Декамерона» предваряется песней: «Увидев в зеркале свои черты, // Я прихожу в такое восхищенье, // Что ни воспоминанья, ни мечты // Острее дать не могут наслажденья. Я не ищу другого увлеченья: // Ничто меня вовек не преисполнит столь безмерной страстью» (пер. Ю. Любимова). Перед слушателями предстает ренессансный Нарцисс, смотрящий в зеркало.
Портрет Джованни Боккаччо работы А. дель Кастаньо (сер. XIV в.).
|
ДРУГОМ ПЕТРАРКИ и соратником по «цеху поэтов» был Джованни Боккаччо, в свое время отказавшийся от карьеры предпринимателя, но получивший кроме юридического образования блистательные «штудии» человековедения у неаполитанского короля Роберта Анжуйского. Творчество писателя-гуманиста началось с любовных сонетов и пасторальных романов «Филоколо» (1336 - 1341), «Филострато» (1338, в октавах). Первый роман был разработкой известного итальянским певцам-кантасториям сюжета о соединении двух влюбленных — под именами Цветок и Белый Цветок — после долгих жизненных перипетий (похищения, бури, нападения разбойников, обманов). Сами кантастории ознакомились с подобной историей из греко-византийских источников. Второй роман по-новому перерабатывает сюжет «Романа о Трое» (XII в.) французского трувера Бенуа де Сент Мора: внимание уделяется не столько эпической составляющей у предшественника, сколько чувствам и размышлениям влюбленных героев — Троила и Гризеиды. В духе платоников писатель называет любовь вечным и небесным светом, во власти которого пребывают боги (!), люди, земля и преисподняя. Примечательно, что после слов прорицательницы Кассандры о недостойности Гризеиды Троила последний парирует: не венец и скипетр, а личные качества отличают человека.
Самыми значительными сочинениями флорентийского этапа творчества Боккаччо была пасторальная повесть «Амето: комедия флорентийских нимф» (1341 - 1442); вперемежку прозой и терцинами), поэма «Фьозоланские нимфы» (1345, изд. 1477) и роман «Фьямметта» (1343, изд. 1472). Слово cvmedia в подзаголовке первого произведения намекало на поэму Данте, разумеющей не веселую пьесу, но грандиозную картину человеческой жизни, взыскующей гармонии и добра. Поэма о нимфе
Мензоле и влюбленного в нее юношу Африко сюжетно напоминала «Метаморфозы» (I в.) римского поэта Овидия. Важным отличием от латинского образца было продолжение собственно мифологического повествования хроникальным рассказом об основании Флоренции и выход в современную жизнь. Знакомая античная буколика (от греч. bukolikos — «пастушеский») усилена яркими описаниями переживаний и сомнений героев, испытавших первое, юношеское и от того наиболее уязвимое чувство. Боккаччо продолжает свое изучение человека через описание рефлексии героя в романе «Фьямметта».
Это произведение стало первым, отразившим в европейской литературе «поток сознания»: переменчивость чувств, растерянность, недосказанность мысли, отчаяние. Важно и ново то, что главным персонажем становится не мужчина, наделенный куртуазной доблестью и инициативой, а женщина, исполненная глубокой печали после предательства возлюбленного.
|
Не случайно Боккаччо представляет читателям семерых женщин и троих мужчин. Семерка напоминает о связи с фазами Луны (следовательно, указывает на женскую силу числа). «Это ритмы жизни, обновления и циркуляции энергии. Тройка символизировала божественное триединство, гармонию и фаллический характер сакрального действия» (М. М. Маковский). С четными днями совпадают рассказы об обретении желаемого - «влюбленным после мытарств и злоключений в конце концов улыбалось счастье» (пер. Ю. Любимова). В нечетные - наоборот: рассказы о несчастной любви и злоключениях, из которых герои выходят лишь по счастливой случайности. Такие дни необъяснимы, события по-женски «капризны» и угрожающи. Несмотря на то что сам писатель в некоторых новеллах с иронией изобразил различные магические действия героев, отрицание важности символического значения подобных мотивов лишь обеднит восприятие «Декамерона». |
|
|
|
«Настаджио приглашает своих родных и свою возлюбленную на обед: на глазах у нее мучают девушку, и она из боязни, что ее может постигнуть такая же участь, выходит замуж за Настаджио». Иллюстрация С. Боттичелли к «Декамерону» (1482). |
CAM
ЫM ИЗВЕСТНЫМ произведением Боккаччо стала книга «Декамерон» (1350 - 1353): цепь новелл 10 молодых людей, рассказанных ими друг другу в течение 10 дней (греческое слово decameion — «десятидневник») в загородном имении во время разбушевавшейся во Флоренции эпидемии чумы.Особенность произведения в том, что писатель нарушил устоявшийся в Средневековье литературный этикет: Боккаччо писал, что он создал книгу на «народном флорентийском языке» и некоторые сцены (чумы, прелюбодеяний, сексуальных розыгрышей) были написаны для того времени особенно остро и натуралистично.
При знакомстве с «Декамероном» важно понимать, что это ни в коем случае не сборник новелл, но именно книга-калейдоскоп новелл, атлас человеческих свойств: похоти и целомудрия, глупости и ума, самонадеянности и растерянности, трусости и мужества. В Италии до Боккаччо («Новеллино», рубеж XIII - XIV вв.; «Триста новелл», ок. 1380, Франко Саетти) и после него («Новеллино», 1476, Мазуччо из Салерно) появлялись в свет новеллистические циклы. Однако огромное число персонажей у Боккаччо составляет не просто широкое эпическое полотно (епископы и короли, ремесленники и купцы, конюхи и повара, шулеры и пьяницы), но сложный ансамбль, живописный ковер, передающий загадочную анаграмму бытия.
|
Доблестный рыцарь Роланд (или Орландо) самозабвенно влюблен в юную красавицу Анджелико, любви которой добивалось множество воинов. Неожиданно он узнает, что она влюблена в сарацина Медоро. Роланд в отчаянии. Он теряет рассудок и сокрушает все на своем пути, пока другой рыцарь, Астольфо, «живший» еще в поэмах Боярдо, не слетал на Луну, где хранятся потерянные вещи землян, и не вернул в увесистом сосуде Роланду рассудок. |
|
|
|
|
|
В. Клемке. Иллюстрация к новелле Дж. Боккаччо. |
«Неистовый Роланд» Л. Ариосто. Обложка книги. |
Мир земной суеты проникает в итальянскую драматургию. Однако в то время светская драма все еще существует в тени весьма распространенных «священных действ». Одной из первых нерелигиозных пьес было пасторальное «Сказание об Орфее» (1480) художника и поэта Анджело Полициано. И только в 1508 г. Лудовико Ариосто представил феррарскому двору свою «Комедию о сундуке». Она положила начало развитию «ученой комедии» — жанра тематически и образно связанного с античностью (в частности, с комедиями Плавта и Теренция). Дух озорного карнавала, занимательная интрига и жизнелюбие энергично пульсировали в комедии Лудовико Ариосто, Пьетро Аретино («Философ», 1546).
Однако уже в «Мандрагоре» (1514) Никколо Макиавелли яркие краски карнавала и легкое отношение к жизни приглушены («комедия могла бы быть превосходной, если бы автор ее был более веселым человеком» — Стендаль). Любовь в ней «хотя и утверждает права природы, все же основана на циничном обмане» (Б. И. Пуришев).
|
Макиавелли стал одним из первых европейских писателей, начавших преодолевать порой безобразный и безграничный индивидуализм человека эпохи Ренессанса. Писатель был убежден, что «величие государства основывается не на частной выгоде, а на общем благосостоянии». |
|
|
|
|
|
Портрет Н. Макиавелли кисти Санти да Титто (XVI в.). |
Предполагаемый портрет Л. Ариосто кисти Пальма Веккио (1515). |
В ТРАКТАТЕ «ГОСУДАРЬ» (1513, изд. 1532) Макиавелли впервые развенчал принцип «командности» и кодекс корпоративного лицемерия буржуа. Макиавелли все время говорит о мере, упорядоченности, об учете интересов сторон. Пороки и добродетели, лесть и прямодушие, жестокость и милосердие он сухо и последовательно располагает на свои места. Ведь достоинства и недостатки человека, государя, в обществе неистребимы. Следует только научиться правильно ими распоряжаться, уравновешивать одно другим. «Государь» — апология осмотрительности, взвешенности, планомерности, наконец, вообще разума человека.
После Петрарки лирические жанры испытывают бурное развитие. Так, Торквато Тассо пишет знаменитую поэму «Освобожденный Иерусалим» (изд. 1580).
Лудовико Ариосто по-новому переосмысливает рыцарские мотивы в своей ироничной поэме, которая написана октавами, «Неистовый Роланд» (или «Орландо; 1507 - 1532). Поэма Ариосто содержит огромное количество авантюрных, рыцарских, волшебных эпизодов. Из-за этого она воспринимается как «коктейль» мотивов, тем, сюжетных ходов. Некоторые из них продолжат свою литературную судьбу в сочинениях авторов последующих столетий. Так, история любви сарацина Руджеро и Брадаманты будет по-новому прочитана Вольтером («Орлеанская девственница», изд. 1775), К. М. Виландом («Оберон», 1780) и А. С. Пушкиным («Руслан и Людмила», 1820).
Франция стала одной из первых стран в Европе, познакомившейся с идеями итальянских гуманистов, Преодолевая горные перевалы французских Альп, пешком, на лошадях или в экипажах, монахи, священники, дипломаты, посыльные знатных вельмож, войска французских королей Карла VIII и Людовика XII двигались на юг, к морскому побережью Средиземноморья, где возникла новая культура и родился свободный человек. Так получается, что войны часто становятся удобным способом ускоренного, даже лихорадочного культурного обмена.
|
Загадочным считают «Кимвал Мира»
(1538) де Перье - легенду об осколках философского камня,
некогда разбросанных по миру Меркурием. Выяснилось, что римский
бог дорожных указателей, торговли и обмана пошутил - люди ищут
несуществующее чудесное средство. Возможно, речь шла не только о
спорах последователей Реформации (гугенотов) с католиками, но и
впервые высказывается сомнение в уповании на спасительность
божественного провидения или других незримых мистических сил. |
|
|
|
|
|
Отменное качество печати отличало французские книги. Герб Симона Востра. Начало XVI в. |
Франсуа Вийон. Гравюра (1489). |
ПРОНИКНОВЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ренессансных идей во французской литературе способствовали:
1) окончание Столетней войны с Англией (1337 - 1453) и возможность заниматься государственным строительством, наукой, искусством;
2) итальянские походы (1494 - 1519) и очное знакомство с памятниками зодчества и скульптуры, богатейшие трофеи;
3) проживание и деятельность в стране итальянских гуманистов (Леонардо да Винчи в последние годы жизни; Б. Челлини; появление «школы Фонтенбло», где работали итальянские мастера);
4) приток в страну образованных и инициативных людей (в Париже проживает более 300 000 горожан, среди которых учителя-греки, банкиры, политики и военачальники из Италии);
5) основание в 1530 г. Французского Коллежа — College de France — под руководством гуманиста Гильома Бюде;
6) распространение типографий;
7) логика развития собственного искусства и литературы.
РЕНЕССАНСНЫЕ ЧЕРТЫ во французской литературе наиболее ярко проявились в произведениях, вышедших в свет со второй половины XV в. до начала XVII в.
Наиболее значительный вклад в литературу того времени внесли произведения К. Маро, Б. Деперье, Ф. Вийона, Ф. Рабле, поэтов Плеяды (в частности, П. Ронсара и Ж. Дю Белле). Переходной от Ренессанса к мировоззрению Нового времени можно считать поэтику эссе М. Монтеня.
Творчество Франсуа Вийона формально напоминает средневековый набор лирических жанров: баллады, рондо, катрен. Но само их содержание и то, что этот человек сам творил легенду о себе (многое известное о нем рассказано им самим), поменял имя (Монкорбье) на «сценическое» — «Вийон» (иногда читают «Виллон»: от французского написания «Villon»), говорит о том, что перед нами представитель Ренессанса — homo universalis, смело играющий с природой и открыто смотрящий в глаза Господу.
Вийона можно считать стихийным титаном Ренессанса: настолько отважен был его вызов конформизму, сословной и религиозной несвободе человека. Его судьба — игра бродячего артиста «в жизнь», воплощение студенческой (вагантов-голиардов) вольницы. В традиции средневековой корпоративности он и причисляет себя к «школярам». Вийон чувствовал в себе судьбу вечно скитающегося Агасфера. Оттого он смотрит на мир с постоянного меняющегося ракурса — глазами движущегося путника (позиция уже барочного художника): он пародирует и смеется, он аналитичен и серьезен. Крайности пронизывают его и раздирают душу сомнением, неизбывным ожиданием ответа. Вийон считал себя слабохарактерным человеком (вспыльчивым, ранимым), игрушкой в руках судьбы. Между тем все перипетии его жизни и мощный напор энергии в его лирике свидетельствуют о незаурядности его духа.
В поэме — «Большое завещание» — поэт уже в заглавии продолжает игру слов, становящихся символами: «Testament» понимается и как деловое «завещание», и как «Завет» святого людям. Такая многозначность и есть ренессансный поворот в восприятии человека: земная жизнь, наполненная суетой и соблазнами, — главное испытание человека. Перенеся страдания, как мог, он предстает перед Господом: не обязательно аскетом или святым, отказывавшим себе во всем, но обычным человеком, ошибавшимся и грешившим. Страдание не очищает (как считали в Средневековье), но учит человека самому искать пути облегчения своей участи.
Для понимания лирики Вийона важно помнить, что поворотными моментами в его жизни были драматическая любовь и ожидание казни («Эпитафия Вийона: баллада повешенных»), закрепившие его подсознательное стремление уйти из мира. Подобное психическое потрясение — в «ожидании казни» — было описано почти через 400 лет Ф. М. Достоевским. В балладах и рондо Вийона главный персонаж — сам автор, оглядывающийся на прожитую жизнь (отсюда и жанр рондо — круг). Он пытается определить ее значимость, смысл и смотрит на нее с дистанции (отсюда ирония) художника. Но ответа не находит: то элегические ноты звучат в строках и отчаяние заполняет сознание, то вдруг он спорит со своей душой, укоряющей его за бесшабашность и гордыню. Жизнь кажется ему непрекращающимся пиршеством страстей духа и желаний плоти, необъяснимых движений души и телесного трепета («Разговор души и тела Вийона»).
Поэтике Вийона присуще видение мира в ракурсе гротескного излома — антифразисы (несовместимое сопоставление частей высказывания в «Балладе нелепиц» предвосхитило поэтику абсурда в искусстве XX в.), антитезы, гиперболичность предметов и образов (почти истеричное нагнетание собственных опасений), брутальность (от фр. brutal — «грубый») внешного мира и описывающей его лексики. Так, орнаментальность акростиха (начальные буквы строф составляют имя) вступает в противоречие с содержанием: «Все сушит время, все! Красы исчезнет флер» (пер. Ю. Кожевникова). Автор ироничен и порой переходит в сарказм, и его непрерывное самопознание продолжается вновь.
ПЕРВЫМИ ГУМАНИСТАМИ Франции считают Клемана Моро и Бонавантюра Деперье. Моро, служивший управляющим при дворе М. Наваррской, начинал как коллекционер и издатель книг. Он один из первых переложил на французский язык псалмы Давида (исполняемые под аккомпанемент лютни, виолы, спинеты и флейты). Отказавшись от аллегоризма и скучного дидактизма Средневековья, Моро ввел в национальную литературу сонет, а по примеру переведенного им Овидия писал элегии. Он по-новому разработал жанры эклоги, эпиграммы и сатиры. Из-за преследований церкви Моро по приглашению Ж. Кальвина, француза по происхождению, выехал в Швейцарию. Однако он не нашел общего языка с кальвинистами и умер в Италии в глубокой нищете.
Заслуга Деперье в том, что он участвовал совместно с П. Оливентаном в переводе Библии на французский язык (изд. 1535). В Лионе он познакомился с Ф. Рабле, а позже стал секретарем Маргариты Наваррской, покровительствовавшей гуманистам. Деперье написал сборник новелл «Новые забавы и веселые разговоры» (изд. 1558), где впервые были использованы народные пословицы, песни и анекдоты, а сам сюжет часто приостанавливался многочисленными обращениями, вопросами к читателю — имитировалась атмосфера разговора «на ходу», обмена мнениями. Читатель сам становится своеобразным персонажем его новелл.
|
Кошмарные гротески Вийона
предвосхищали брутальную и истеричную поэтику экспрессионизма:
«В горячем соусе с приправой мышьяка, // В помоях сальных с
падалью червивой, // В свинце кипящем, - чтоб наверняка! // В
кровях нечистых ведьмы похотливой, // С обмывками вонючих ног
потливых... //Да сварят языки клеветников» («Большое завещание»,
пер. Ф. Мендельсона). |
|
Рисунок Ф. Вийона к «Эпитафии Вийона» («Балладе повешенных»):
«Коль после нас еще вам, братья, жить, Чужой беды не развести руками, Молитесь, чтоб грехи простил нам Бог, <...> С нами будь милосерден, Господи, и в пламя
Не ввергни нас на
бесконечный срок.
Молитесь, чтоб грехи простил
нам Бог». |
ПЕРВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ШКОЛОЙ Франции стала группа поэтов, именовавших себя Плеядой (Pleiade): в честь семи александрийских поэтов III в. до н. э. Их манифестом стал трактат Ж. Дю Белле «Защита и прославление французского языка» (1549), где поэтов призывали обновить поэтический язык. Этому может способствовать подражание природе (аристотелевский мимесис), но не слепое, не языку, а стилю, не буквальное следование оригиналу, но улавливание духа образца. Этот эталон находили в античности и ренессансной Италии. Плеяда, к которую входили кроме Дю Белле П. Ронсар, Ж. Дора, Р. Белло, Э. Жодель, Ж.-А. де Баиф, П. де Тийар, выразила стремление французской словесности к самоопределению, представлению родного языка как драгоценного материала в поэтическом творчестве. Поэты Плеяды освоили жанры оды, сонета, элегии, эклоги, комедии и трагедии. Они призывали воспеть национальную историю, отстаивали общественную значимость поэзии. Признавая роль поэтического вдохновения, Плеяда придавала большое значение напряженной работе над словом. Тематический диапазон их лирики был весьма широким. Наиболее заметными были произведения П. Ронсара и Ж. Дю Белле.
Пьер Ронсар принадлежал к старинному дворянскому роду. Первоначально он готовился к придворной карьере, был пажом. Однако ранняя болезнь и частичная глухота решили его судьбу: он выбрал уединенные занятия древними языками и поэзией. Наиболее известные его сочинения — «Оды» (1550), сонетный цикл «Любовь к Кассандре» (1552 - 1553), сборники эпитафий, оделлет, хвалебных и сатирических описаний: «Книжка шалостей» (1553), «Смеси» (1555).
О порядке в Космосе и трагическом хаосе на Земле Ронсар пишет в своих «Гимнах» (1555 - 1556). Гражданские мотивы и призыв к примирению звучат в «Рассуждениях о бедствиях нашего времени» (1562). Ронсар пытается совместить античный опыт и национальную эпическую традицию в «Франсиаде» (изд. 1572), восходящей к «Энеиде» (I в. до н. э.) Вергилия.
Плоть Земли, сочная, пульсирующая токами тепла и крови, одновременно нежная и могучая, рассекается художниками Ренессанса. Образно говоря, она рассматривается через линзы «микроскопа» авторского вымысла. Возникает естественная оптическая дисторсия (от лат. distorsio — «искривление»), приводящая к впечатляющей гиперболизации очертаний и фантастическому гротеску. Земной мир во всем его великолепии и безобразии предстает в романе врача и священника (кюре) Франсуа Рабле «Ужасающие и устрашающие деяния и подвиги достославного Пантагрюэля, короля дипсодов, сына великого гиганта Гаргантюа. Новое сочинение мэтра Алькофрибаса Назье» (1532). Источники пятитомного романа кроются в народной смеховой культуре Средневековья, в карнавальных празднествах, на время отменяющих сословные границы, религиозные запреты и общественные нормы. Роман, ставший центральным в жанровой системе Высокого и Позднего Ренессанса, представил раскрепощенное авторское сознание, установку на динамичную и экспрессивную речь. Этот непринужденный разговор разливается во всем пространстве книги: в многоголосии персонажей, не чуждых грубой шутки и ругательств, в цепи образных сравнений и авторской рефлексии. «Одна из удивительных черт смеха Рабле — многозначность тона, сложное отношение к объекту комического. Откровенная насмешка и апология, развенчание и восхищение, ирония и дифирамб сочетаются» (А. Ф. Лосев).
|
Феномен раблезианского смеха А. Ф. Лосев считал не просто противоречивым, но «кроме того, он имеет для Рабле и вполне самодовлеющее значение: он его успокаивает, он излечивает все горе его жизни, <...> он узаконивает эту комическую предметность, <...> он совершенно далек от преодоления зла в жизни. <...> В результате такого смеха Рабле становится рад этому жизненному злу, <...> считает его последней радостью и утешением <...> Это вполне сатанинский смех. И реализм Рабле в этом смысле есть сатанизм» («Эстетика Возрождения», 1978). |
||
|
|
|
|
|
Франсуа Рабле. |
Иллюстрации Гюстава Доре к «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Рабле. |
|
ГЛАВНЫМ ТРУДОМ МОНТЕНЯ была книга «Опыты», которую он писал, собирал, с 1571 по 1592 г. Монтень создал особый жанр слова — опыт (по-французски essai — эссе), в котором автор обсуждает с читателем тот или иной вопрос. Причем эссе является как конкретная глава-статья, так и сам универсально-мозаичный принцип организации материала в книге — эксперименты, собранные в виде своеобразного компендиума знаний о природе (человек, общество, окружающий мир). Эссе Монтеня придерживается установки на всеохватность отражения мира, не ограничиваясь заявленной темы («О педантизме», «О воспитании детей», «О скорби», «О жестокости», «О книгах», «О том, что философствовать — это значит учиться умирать», «О том, что наше восприятие блага и зла в значительной мере зависит от представления, которое мы имеем о них» и др.).
Расстановка эссе в книге напоминает произвольный монтаж, ассоциативно совмещающий самый разнородный материал: об истории, о домашнем хозяйстве, о стихах Вергилия, «об искусстве беседы», нравственных проблемах. Монтень это осознает: «Что же иное моя книга, как не те же гротески, как не такие же диковинные тела, слепленные из различных частей, как попало, без определенных очертаний, последовательности, соразмерности, кроме чисто случайных?» («О дружбе», пер. Г. Косикова). Тем не менее внешняя хаотичность композиции книги отражает настойчивое и последовательное стремление к истине, которая нащупывается в подвижном потоке идей, предметов, ситуаций, судеб — всей жизни. Главным героем книги является не персонаж, а идея, сюжетом — ее «испытание». Каждый элемент бытия видится в совершенно неожиданных сочетаниях. Истина у него не выражается как нечто навсегда данное: она предстает перед читателем каждый раз в новом ракурсе.
Ему, как и его соотечественнику Дю Белле, «интересен каждый, кому интересен я» (пер. В. Левика).
Мировоззрению Монтеня присущ даже не столько ренессансный универсализм с его восторгом от созерцания земного бытия и рассматривания мельчайших частиц жизни, сколько ощущение (уже специфически барочное) подвижности, ненадежности всего: любви и дружбы, здоровья и семьи, государства и общества, моды и обычаев. «Едва ли мы ошибемся, если скажем, что у Монтеня в очень яркой форме выражено ослабленное самочувствие человеческой личности, какая-то ее подавленность и безусловная растерянность перед существующим хаосом жизни <...>, Воззрения Монтеня — это сплошная критика возрожденческого титанизма» (А. Ф. Лосев).
Объединение литератур двух стран в одну обзорную статью продиктовано следующими обстоятельствами:
1) Германия и Нидерланды в то время входили в состав Священной Римской империи германской нации;
2) указанные страны сами по себе представляли достаточно раздробленные политические образования, а национальное сознание только начинало складываться;
3) искусство и литература обменивались идеями на латыни (что, впрочем, характерно для всего искусства Раннего Возрождения);
4) политики, служители церкви, художники и писатели (бывшие нередко и теми и другими одновременно) часто подолгу работали в самых разных странах (как Эразм, живший в Германии, Австрии, Франции, Англии): космополитизм сознания и убеждений был характерной чертой времени;
5) тесное единство тем, мотивов и стиля произведений.
РЕНЕССАНСНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ Германии и Нидерландов можно считать художественные произведения и идеи, с которыми европейцы знакомились с середины XV по начало XVII в. Характерными особенностями литературы Германии этого времени являются ярко выраженный антиклерикализм (от греч. anti — «против», clericalis — «церковный») и тяготение к сатире; важность вопросов веры для гуманистов этого региона Европы. Они обращались к Священному Писанию не через латынь Средневековья — латинское изложение Библии св. Иеронимом, — но к греческим (язык большей части Нового Завета) текстам, точнее отражавшим древнееврейские и арамейские (Ветхий Завет) оригиналы. Знакомство Лютера из Виттенберга, Эразма из Роттердама с древней Библией показало все искажения начального текста и значительные расхождения католицизма с заветами христианства. Изначально задумывалась именно реформа церкви, без сомнения в истинности веры. Кроме того, немцы сразу же проявили обостренный интерес к собственным национальным авторам.
У истоков Северного Возрождения стояли труды и мировоззрение кардинала римско-католической церкви, математика Николая Кузанского, чье новое представление о небесной механике предвосхитило идеи Н. Коперника. В своих богословских трудах ученый выдвинул идею единой рациональной религии, совмещающей догматы христиан, иудеев и мусульман. Он первый высказался за церковную реформу, ограничение власти папства и единство Германии.
|
Ехал «духовный отец в чистом поле, и попалась ему на встречу старая нищенка и попросила Христа ради пятак. «Нет, - ответил он, - это слишком много», - Тогда дай мне алтын». - «И этого много». - «Семишник». - «Много». - «Дай мне хоть грош». - «Много и этого». - «Тогда дай мне свое отеческое благословение». И священник осенил ее крестным знамением. «Видать, твое благословение не стоит ни гроша, не то бы ты поскупился и на него», - сказала старуха и пошла прочь». (Йоганнес Паули. «В шутку и всерьез», шванк 46, пер. В. Топорова.) |
|
|
|
|
|
Вид Нюрнберга. Раскрашенная ксилография (гравюра по дереву). |
Знаменитая гравюра, показывающая, как Лютер оставляет свои «Тезисы» на двери дворцовой церкви в Виттенберге. |
РЕНЕССАНС В ГЕРМАНИИ развивался из бюргерской (от нем. Burger — «горожанин») литературы, отличительными особенностями которой были:
1) поучительность тона в «зерцалах» (особых жанрах обращения к читателю или зрителю);
2) тематика личной собственности, благородства и добродетелей;
3) провозглашение «меры» и «нормы» как панацеи от возможных несчастий и вследствие этого практицизм мышления;
4) некоторый аллегоризм повествования и формальное сближение с басней (например, в шванках или в «Самоцветах», ок. 1350, У. Бонера);
5) «тяготение к красочным частностям и анекдотическим курьезам» (Б. И. Пуришев). Поэтому часто немецкое Возрождение именуют бюргерским.
ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ бюргерской литературы — сатирико-дидактические и аллегорические поэмы, басня, авторские и анонимные шванки (нем. Schwank — «шутка»; аналог французских фаблио — коротких шутливых повестей в стихах, нередко грубых), мейстрезанг (от нем. Meistersinger — «мастер-певец»), фастнахтшпили (нем. Fastnachtspiel — «масленичная игра», которая развивалась как инсценированный шванк) — анекдотические истории о смекалке простого человека; сатирические шпрухи (нем. Spruch) — короткие изречения, напевы, басни. В Германии возникает литература досуга, которая представлена анонимными «народными книгами» (Volksbucher). К ним относится, например, роман «Фортунат» (1509). Это история о том, как Фея Счастья предложила Фортунату на выбор богатство, здоровье, красоту и мудрость. Выбравший богатство Фортунат переживает целый ряд неприятных и драматических перипетий. Другая народная книга — «Занимательная повесть о Тиле Уленшпигеле» (1515) — повествовала о неугомонном молодом балагуре и пройдохе, бродившем по стране и возмущавшем спокойствие погрязших в пороках людей. Книга «Шильдбюргеры» (1598) рассказывает о жителях Шильды, отказавшихся от житейской сметки и даже мудрости ради сохранения мещанского благополучия своего города. Сюжет «Истории о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике» (1587) стал основой «Трагической истории доктора Фауста» (1604) английского драматурга К. Марло, а сам загадочный герой, пожелавший познать все тайны бытия, стал благодаря «Фаусту» (1808 - 1832) И. -В. Гете вечным литературным образом.
|
Порой натурализм некоторых писателей Возрождения кажется чересчур откровенным, несколько площадным. В одном доме сыграли свадьбу. «А ночью легли молодые в постель и провели там уже изрядное время - и тут новобрачная (не в обиду ей будь сказано) пустила ветры, ах ты Господи, и сама же перепугалась. Надеясь, однако ж, что муж, может быть, ничего не услышал, она приподняла одеяло и легонько помахала им, выпуская запах наружу, чтобы муж ничего не почувствовал. А молодой супруг, только притворявшийся спящим <...> издал в ответ звук куда более мощный и длительный и сказал своей нежной жене: «Милая, если тебе нравится работать привратником, то выпусти из постели, пожалуй, и его!» |
|
|
|
Первое издание Библии на немецком языке. Перевод М. Лютера (1541). |
Тяготение к сатире, осмеянию человеческих пороков определило содержание «Писем темных людей» (1515 - 1517), авторами которых считаются Ульрих фон Гуттен, Крот Рубеан и Герман Буш, ученик видного нидерландского гуманиста Р. Агриколы. Писатели от лица «темных», невежественных людей воссоздали убогий душевный мир противников гуманизма. Они, иронично именуемые «мудроутробнейшими», «высокостепенными», «премногочтимейшими», пишут послания магистрам и желают им «иметь столько приятственных ночей, сколько звезд на небе и рыб в море» (или «сколько травинок щиплет гусь», «сколько плодится за год блошек и вошек»), жалуются на «охальников», забывших веру и Христа. Эти святоши не знают ничего о Гомере и по старинке отзываются об Овидии. Их частная жизнь наполнена ханжеством и пороками. «Они безвкусны решительно во всем: и когда сочиняют жалкие вирши, и когда коряво излагают свои скудные мысли, и когда, желая прослыть людьми утонченными и остроумными, предпосылают письмам пространные обращения» (Б. И. Пуришев).
|
Иероним Босх. Фрагмент картины «Семь смертных грехов» (конец XV в.): спальня с закрытыми ставнями, к больному подкрадывается Смерть, а в соседней комнате жена умирающего хладнокровно подсчитывает достающееся наследство. Распятие в руках монаха повернуто к зрителю, а не к участникам сцены. Это напоминание нам о неминуемой кончине. |
Сын портного, проучившийся в латинской школе, Ганс Сакс много путешествовал по Германии. Кроме того, что он весьма преуспел в сапожном деле, мы знаем его как автора диалогов (например, «Лихорадка», «Булла, или Крушибулл»), Наиболее известным является «Спор между каноником и башмачником» (1524), в котором Сакс показал ограниченность церковных фанатиков. После сопровождения его стихами цикла гравюр «Чудесное пророчество о папстве» (1527) магистрат предписал ему заниматься прямым цеховым ремеслом. Однако Сакс счел указание неважным и продолжал слагать талантливые вирши, среди которых наиболее известны «Корыстолюбие — ужасный зверь» (1527), «Разговор о смутах в Священной Римской империи» (1544), но особенно — «Страна лентяев» (1530): о стране с реками в молочных берегах, с летающей жареной дичью — только рот открывай, привольной жизнью глупцов и прохиндеев, среди которых королем провозглашался первейший лежебока. Человеческие пороки, гротескно восхваленные Саксом, были запечатлены художником той поры П. Брейгелем Старшим. Заслуга Сакса в том, что он стал основателем «литературы жанровых сцен» (по аналогии с жанровой живописью в изобразительном искусстве). Его стихотворения, драмы и фастнахтшпили — своеобразные мягкие, сердечные дагерротипы германских семей.
ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ человеческих слабостей и заблуждений можно назвать «Корабль дураков» (1494) Себастьяна Бранта, сына владельца гостиницы «Золотые львы» в Страсбурге. Жанр «Корабля», написанного по-немецки, напоминает сплав моралите (от лат. moralis — «нравственный»; нравоучительная аллегорическая западноевропейская драма) с философским эссе в стихах. Кроме того, композиция каждого микроэссе напоминает басенную фабулу: остроумная заявка темы, ее развитие, поучение — часто в виде наглядного образа. Будучи опытнейшим юристом, канцлером Страсбурга, Брант видит причину людских несчастий в самообмане — «отце обмана», в нравственном безразличии и сиюминутной суете — в дисгармонии интересов «я» и «мы». Он проверяет человеческие качества мерой, разумным сочетанием личных чаяний человека и интересов других людей («Кто себялюбью лишь послушен, // А к пользе общей равнодушен, // Тот — неразумная свинья: // Есть в общей пользе и своя» (пер. здесь и далее Л. Пеньковского). В этом яркая особенность гуманизма Бранта: наряду с признанием за человеком свободного выбора в поступках и решениях он призывает опасаться эгоизма, самовлюбленности, бюргерского конформизма. Поэт порицает сутяжничество и призывает к разумным компромиссам, терпимости к чужим слабостям («О сутяжничестве»).
|
«Для корабля страшнее бурь //
Самоуверенность и дурь. // Всем, кто к советам глух, - беда: //
Не преуспеют никогда» (С. Брант. «Корабль дураков»). |
|
|
|
|
|
Иллюстрации к книге «Корабль дураков» С. Бранта. Слева - А. Дюрера, справа - Г. Доре. |
|
Брант предлагает доверяться знаниям, полученным из опыта и наблюдений, а не суевериям и модным неподтвержденным учениям («Об астрологии»). Доблесть человека — ясно и спокойно представлять себе самого себя, не унижать себя недооценкой, но и не гордиться от сиюминутных успехов. Каждое мгновение жизни человек находится перед выбором, сомневается, опасается. Он сам себя судит, одобряет, проклинает, сокрушается от неудач, радуется успехам, отвечает за свои поступки: «С пристрастием себе он сам // Чинит допросы по ночам // В бессоннице: как день был прожит? // Не замышлял ли он, быть может, // Иль не свершил недобрых дел? // Что не успел, недоглядел? О чем подумал слишком поздно? К чему отнесся несерьезно? // Зачем он с этим поспешил, // Так много времени и сил // На труд ненужный потеряв... Так взвешивает вновь и снова // Он дело каждое и слово: // То — хвалит, то — хулит, скорбя. // Так мудрый муж ведет себя, ...Кто так к себе при жизни строг, // Того по смерти взыщет Бог. // За то, что мудр был в этой жизни» («Мудрец»). Самое невыносимое качество человека — нежелание признавать себя неправым, когда это совершенно очевидно. Он призывает: «Спеши сегодня лучше стать — // Не будешь завтра так страдать. // Звучало нынче божье слово, // А прозвучит ли завтра снова?» («Завтра, завтра, не сегодня...»). Брант предвидит упреки в свой адрес — ведь и он кажется порой глупцом, поддаваясь минутной слабости, корысти, страсти. Поэтому он считает нужным закончить осмотр своего «Корабля» «Извинением поэта»: «Врач, исцеляйся сам, — по виду, // И ты из наших, не в обиду!» // Ну что ж! Свидетельствую Богу, // Что наглупил я в жизни много, // И мне тот орден уготован, // Что мною же самим основан. // Колпак прирос ко мне, друзья, // Стянуть его не в силах я». Образы Бранта нельзя назвать отчетливо гротескными, но в них присутствует некоторая «лубочная ксилографическая угловатость» (Б. И. Пуришев), которая далека от площадного гротеска Ф. Рабле. Брант не испытывает читателя беспощадным хирургическим препарированием человека, как его французский коллега. Брантовские путешественники, несмотря на непривлекательность дурацких колпаков, надетых поэтом, все же не так отталкивающи. Поэт не пытается осудить и «казнить» человека за его слабости. Он признает за ним право на ошибку. Ново то, что порицаются не грех и не сам человек, а людские заблуждения, от которых сами люди и страдают. «Заткнуть бы глотки болтунам — // Увы, не хватит кляпов нам! // Нельзя предусмотреть никак // Того, что сочинит дурак. // Так в мире повелось оно — // Избегнуть сплетен не дано: // Кто любит петь, кто кукарекать, // Баран-дурак привык бебекать». Пестрый «Корабль» человеческих качеств продолжает мирно плыть по волнам житейских морей.
«Корабль дураков» Бранта стал первым в ряду немецкой литературной сатиры, которая именуется «литературой дураков» (Narrenliteratur).
|
«Какие люди чаще всего налагали
на себя руки, пресытившись печалями жизни? Не те ли, которые
ближе всего стояли к мудрости? ... Но я, обращаясь к помощи то
невежества, то бездумья, даруя забвенье всех зол и надежду на
лучшее будущее, щедро окропляя людей медвяной росой наслаждения,
так успешно помогаю им в бедах, что никто не желает расставаться
с жизнью, прежде чем не кончилась нить Парок и жизнь сама не
оставила тела: чем меньше у человека причин дорожить
существованием, тем крепче он за него цепляется, не подозревая
даже, что такое пресыщение и тоска. ... Иные в гроб смотрят,
настоящие старые хрычи, а туда же, берут себе молодую жену,
бесприданницу, конечно, и берут ее на потребу не столько себе,
сколько другим - ...это вызывает даже похвалы. Еще забавнее,
когда дряхлая старуха, труп трупом, ... то и знай повторяет:
«Светик мой!», резвится, жеманится, ... усердно расписывает
румянами лицо, не отходит от зеркала, выщипывает заросли у себя
между ногами, выставляет напоказ свои увядшие, рыхлые груди,
криками, визгом подстрекает уснувшее вожделение, тянет вино, как
губка, вмешивается в толпу пляшущих девушек, строчит любовные
цидульки. |
|
|
|
|
|
Гравюра Г. Гольбейна Младшего к «Похвале Глупости» |
Эразм Роттердамский |
Дезидерий Эразм Роттердамский (настоящее имя от рождения — Гергард, как и указанные латинское и греческое, означает «желанный»), виднейший представитель Северного гуманизма, человек, которого при себе желали бы иметь все королевские дома Европы, на человеческие слабости и глупости смотрел иначе, Находясь в гостях у своего лучшего друга Томаса Мора в Англии, он за несколько вечеров написал свою самую главную книгу — «Похвалу Глупости» (1509, изд. 1511). Эразм использовал хорошо испытанный средневековый метод аллегоризма (глупость у него персонифицирована и самодовольно рассказывает о своей нужности на Земле), риторические вопросы и, казалось бы, скучные приемы устаревшей схоластики. Но содержание «Похвалы» оказалось настолько вечным, универсальным и неоднозначным, что продолжает волновать людей и в наше время. Порой кажется, что Эразм полемизирует со своим предшественником — С. Брантом. Это касается прежде всего определения роли разума и чувств, рассудка и бессознательной интуиции в жизни человека. Мыслитель впечатляюще убедительно, словно искушая читателя неопровержимыми доказательствами, показывает, что часто именно человеческие слабости и страсти, пороки и откровенная глупость продлевают жизнь и дают человеку силы выдержать любые невзгоды. Порой трудно определить, когда писатель иронизирует над экзерсисами Глупости, а когда молча соглашается с ней. Автор в артистической форме выражает свое отношение к сложнейшим вопросам бытия: бинарности жизни, которая заключается в естественном взаимодействии добра и зла, порока и добродетели и, в сущности, их неразличимости и условности.
Эразм устами Глупости сделал центральным вопрос: что важнее — рассуждать о величии и возможностях человека или жить «по возможностям», решать каждодневные проблемы, играючи искать точки соприкосновения с людьми, не пытаясь их перевоспитать или спасти? Он стал своеобразным гордиевым узлом проблем донкихотства и гамлетизма в творчестве М. де Сервантеса и У. Шекспира. Это отчетливое сознание неразрешимого противоречия между идеалом и действительностью, между заданностью человеческой судьбы правилами гигантской «человеческой комедии» и свободной волей человека определило барочные тенденции в творчестве Эразма.
Возрождение в Англии было сравнительно коротким, но настолько интенсивным, что и в наше время вся англоязычная литература обязана всем образным строем, легкостью и игривостью языка, широтой тематического диапазона и уникальной проблематикой именно поэтам и писателям всего одного столетия — XVI, именуемого по названию правящей династии тюдоровским.
|
По аналогии с французской
«Плеядой» английские сонетисты Томас Уайет, Генри Говард граф
Сарри, Филип Сидни и другие создали свой поэтический кружок -
«Ареопаг». Это слово означает древнейший суд в Афинах,
находившийся на холме радом с Акрополем. Ареопаг (на холме
Ареса) осуществлял высший надзор над государственными органами.
Можно лишь предполагать причину выбора такого названия для
литературного объединения. Ведь многие поэты по специальности
были юристами, служили в королевских канцеляриях, а античная
аллюзия могла намекать на возможность сравнительно
демократического государственного устройства. Кроме того, в
названии может быть указание на силу и важность поэтического
слова. Холм Ареса, как и поэтический Парнас и музыкальный
Геликон, возвышались над мирской суетой. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Иллюстрации Ю. А. Якушиной к трагедии «Макбет» У. Шекспира. |
|||
АНГЛИЙСКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ в отличие от литератур Италии или Франции долго пребывала в состоянии предренессансной подготовки: куртуазность, аллегоризм, скованность языка и неразработанность версификации (ритмики и строфики стиха) ограничивали стилистическую и тематическую мобильность писателей. Поэтому почти одновременно с появлением философско-художественной романистики (например, «Утопия», 1516, Т. Мора; «Новая Атлантида», 1624, Ф. Бэкона), описательной прозы путешествий (У. Рэли о Гвиане, Р. Хаклюта о России), романами-анатомиями Д. Лили (заложившими основу литературного самоанализа героя-автора: сравните, например, с «Сентиментальным путешествием...», 1768, Л. Стерна) литература Британских островов готовит новое стихосложение. Это выразилось прежде всего в отказе от догеррелизма старого стиха (от англ. dog — «собака»; чосеровская оценка английского стиха проистекала, возможно, из сравнения с неровностью и непредсказуемостью собачего бега). «Как бы разладилось все английское «поэтическое хозяйство». Кроме того, «большую трудность представляло приспособление ритма к произношению» (Д.
М. Урнов), а также несоответствие написания английских слов их произношению. После силлабо-тонической реформы, произведенной предренессансными «Кентерберийскими рассказами» (опубл. в 1478?). Д. Чосера, задело обновления поэтики и прославления национального языка взялись такие поэты, как Т. Уайет, Ф. Сидни, Э. Спенсер, У. Шекспир.Филип Сидни был одним из крупнейших поэтов английского Возрождения. Гуманист, государственный деятель и воин, погибший в бою, он стал известен как автор первого цикла сонетов, посвященного одной возлюбленной, — «Астрофил и Стелла» (буквально «Звездолюб и звезда»; опубл. сестрой поэта в 1589).
«ПОЭТОМ ПОЭТОВ» назвали Эдмунда Спенсера, который благодаря личному дарованию из лондонского портного стал сначала секретарем лорда Грея, а позже — шерифом графства Корк в Ирландии (в этой «горячей точке», по преданию, погиб его малолетний сын, боль утраты которого стала причиной смерти художника). Славу талантливого поэта ему принесли поэма из 12 эклог «Пастушеский календарь» (1579), посвященная Ф. Сидни; аллегорическая поэма на рыцарский сюжет «Королева фей» (1590), часть которой была посвящена королеве Елизавете; поэма «Колин Клутс опять возвращается» (изд. 1595), персонаж которой стал популярным английским героем; и цикл сонетов «Аморетти» (1595), навеянный чувством любви к его будущей жене Элизабет Бойл. «Пастушеский календарь» относится к давней традиции литературных календ (например, незаконченная поэма римского поэта Овидия «Календарь» — «Fasti», ок. 1 - 8 н. э.). Жизнь природы и человека, смена сезонов и этапов жизни остались одной из продуктивных тем средневековой, а позже и барочной лирики, музыки и живописи. Новаторство Спенсера состояло в том, что наряду с идиллическим существованием мира пастухов введены рассуждения на моральные и религиозные темы, а прототипами персонажей послужили как сама королева Елизавета, так и друзья и знакомые поэта (своеобразная поэтическая «дворцово-парковая» композиция). Умиротворенный сказочный дух «Королевы фей» создан новым для английской поэзии стихом: девять строк, восемь первых из которых — пятистопный, а последняя — шестистопный ямб. Эта схема рифмовки — ababbcbcc — получила название спенсеровой строфы: восхождение поэта по спиральной лестнице ввысь (до девятой ступени развития, последней в числовом цикле), к горнему свету.
Крупнейшим поэтом своего времени был Уильям Шекспир. Во время простоя театра из-за чумного карантина он подряд публикует две поэмы «Венера и Адонис» (1593) и «Обесчещенная Лукреция» (1594). Несмотря на то что поэт назвал их «первенцем своих фантазий», они содержат массу заимствований, «представляют собой вышивку по готовой канве» (Д. М. Урнов): используются знакомые мифологические сюжеты и тема любовного томления. Однако бесспорно новаторскими в европейской лирике можно считать все 154 сонета Шекспира. Лирический герой — реальный человек, сам поэт, который входит в треугольник обостренных психологичеких, любовных переживаний: его друга и дамы. Некоторые подробности из жизни самого поэта (он сообщает буквально обо всем: и о боли в сердце или в ноге, и о дурном расположении духа или деловых неприятностях) и из общения с другом и его дамой кажутся шокирующе откровенными. Женщину он называет вероломной красавицей, которая завладела свободой друга (№ 134). Она брюнетка (в нарушение сложившейся сонетной традиции и образа Прекрасной Дамы, воспетой еще трубадурами) с тяжелым взглядом и походкой, волосами жесткими, как проволока, и неприятным запахом изо рта. Он называет ее проезжим двором, открытым для множества постояльцев (№ 137), и сравнивает с хлопотливой хозяйкой, которая ловит сбежавшую курицу, не обращая внимания на плачущего ребенка (№ 143). Поэт спускается с безоблачных высей куртуазной любви на тяжелую почву настоящих человеческих отношений.
|
Марло в «Мальтийском еврее» не
случайно представляет зрителю Макиавелли, читающего пролог -
программу действий Варравы. Итальянский дипломат словно стал
одним из героев драмы: «Что люди мне и что мне их слова? // Мной
восхищаются и ненавидят. // Напрасно отвергать мои писанья — //
Они читаются, чтобы достичь // Престола папского; а если нет -
// Я передам свой яд ученикам. // Религию считаю я игрушкой // И
утверждаю: нет греха, есть глупость <...> Трон силой
утверждается, закон, // Как у Дракона, крепок только кровью»
(пер. В. Рождественского). |
|
|
|
|
|
Веселье и триумф часто сменяются у Шекспира печалью и
несчастиями. |
Лондонский пейзаж с театром «Глобус». |
ОСТРОВНАЯ АНГЛИЯ, чьи корабли бороздили почти все мировые океаны, а в сознании ее жителей всегда была непреодолимая тяга к путешествиям, стала родиной одной из первых литературных утопий (от греч. и — «нет», topos — «место»). Автором «Золотой книги, столь же полезной, как и приятной, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» (на латыни опубл. в 1516) стал гуманист, канцлер Генриха VIII Томас Мор. «Утопия» рассказывает о вымышленном путешествии на корабле автора, голландского гуманиста П. Эгидия и инициатора экспедиции Рафаила Гитлодея в неведомую страну равенства всех людей, обязательного труда (когда даже смертный приговор заменяется пожизненным рабским трудом). Картина человеческого общежития, написанная Мором, как показала история в XX в., оказалась достаточно унылой и бесцветной. Писатель, по существу, отнял право у человека быть самим собой: лукавым или простодушным, ленивым или неугомонным, жадным или щедрым, суетным или уравновешенным. Никто не выделяется из общего «мы», все одинаковы. «Утопия» светится ровным, будто электрически мертвенным, светом всеобщего благоденствия и строгого расчета во всем: питании, отдыхе, работе. Это книга новой наступающей машинно-буржуазной цивилизации. «Утопия» — своеобразное самоотрицание Ренессанса. В этом и состоит невольная заслуга Мора, который, поверив своему монаршему покровителю, позже по его же указанию сложил голову на плахе. Наступала эра меркантильных интересов, интриг и безобразной бойни.
НОВЫЙ РЕНЕССАНСНЫЙ ГЕРОЙ-ТИТАН появился в драмах и трагедиях Кристофера Марло. Наиболее известными пьесами этого автора, не дожившего и до 30 лет, стали «Тамерлан Великий» (1587), «Мальтийский еврей» (1588), «Трагическая история доктора Фауста» (1592?), «Эдуард И» (1592), «Парижская резня» (об убийствах католиками протестантов-гугенотов в Варфоломеевскую ночь; пост, в 1593). Герои Марло, завоевавшие подобно Александру Великому полмира, даже у порога смерти, в предчувствии конца мечтают о величии и красоте, хотят подчинить своей воле недуг и смерть («Тамерлан»), На грани между ересью и сомнением, науки и веры находится трагически мятущаяся душа Фауста — кудесника и алхимика, неукротимого в своей жажде знания («Фауст»), Исследуя власть денег, драматург в «Мальтийском еврее» пришел к убеждению, что корысть губит самого человека (ростовщик Варрава по-адски сгорает в котле).
|
|
АНГЛИЙСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ И ЛИТЕРАТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ в целом достигли своего наивысшего расцвета в творчестве Уильяма Шекспира.
В творчестве Шекспира выделяют три периода: первый — 1590-е гг., когда драматургом написаны большинство хроник и комедий («Генрих VI», «Ричард III», «Комедия ошибок», «Тит Андроник», «Укрощение строптивой», «Два веронца», «Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец», «Виндзорские насмешницы», «Много шума из ничего», «Юлий Цезарь», «Как вам это понравится» и др.); второй — 1600 - 1608 гг., названный «периодом великих трагедий» («Гамлет», «Двенадцатая ночь», «Троил и Крессида», «Все хорошо, что хорошо кончается», «Мера за меру», «Отелло», «КорольЛир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра», «Тимон Афинский»; третий — 1608 - 1613 гг., ознаменованный формированием смешанного жанра трагикомедии («Кориолан», «Перикл», «Цимбелин», «Зимняя сказка», «Буря», «Генрих VIII» и др.). После 1613 г. Шекспир по неизвестным причинам отходит от дел театра и ничего не пишет. Считается, что не сохранилось ни одной его рукописи. Отдельно говорят о завещании Шекспира, которое показывает нам распорядительного буржуа, но не великого художника: в документе не упоминается его литературное наследие.
Особенность поэтики произведений Шекспира в том, что он не создавал новых сюжетов: материал часто брался из итальянских новелл, из трагедий и комедий соотечественников, из античных исторических сочинений (Плутарх), национальной истории («Хроники» Э. Холла, Р. Холиншеда). Важным представляется рассмотрение системы реминисценций и аллюзий из «Опытов» (1572 - 1592, изд. 1580) М. Монтеня.
Огромная заслуга Шекспира в том, что он, отказавшись разделить политику и мораль, не прибегая к традиционному божественному Возмездию, перенес центр нравственного и духовного напряжения в сознание и душу героя. Наказание отзывается невыносимыми нравственными муками, «пожаром в сердце». Из одной сцены в «Ричарде III» (1592 - 1593) мотив нравственного возмездия будет распространен на всю длительность трагедии в «Макбете» (1606). В жанре хроники Шекспир изучает феномен власти и народа. Власть, удерживаемая кровавыми руками, обречена. Жизнь протекает во времени, которое становится единственным арбитром в разворачивающейся драме.
Натурфилософия Шекспира, т. е. видение человека в целостности бесконечной ткани Природы, проявляется каждый раз в зависимости от свойств художественного Пространства и Времени: она калейдоскопически разворачивается в новой-старой перспективе. Природа — единственный и совершенный Творец. Причина тщетности человеческих усилий — во вмешательстве в ее магическую игру, в попытке переиграть ее, обмануть ее и самого себя. Часто именно она и является главным, хотя и «внесценическим» персонажем (например, книги природы у Просперо в «Буре», 1611). Сумасшествие героя — это признание силы и красоты Природы, прозрение после долгого мучительного сна повседневности (например, король Лир в одноименной трагедии, 1605). Основным вопросом для Шекспира может быть не вера в Бога, но вера в Человека. И не всегда ответ дается положительный. Трагедия Человека — в необходимости «казаться», а не «быть», играть кем-то навязанную искусственную игру (реплика Гамлета о «словах, словах, словах»). При этом Шекспир не осуждает своих персонажей: он показывает логику, причину, «механику» их морального краха или торжества. Свойство его героев — неоднозначность, многогранность характера, определяющие их вечность в мировой литературе. Это относится прежде всего к образу Гамлета из одноименной трагедии (1600 - 1601). Он уже не условная фигура, «не схематичный образ, легко укладывающийся в какую-нибудь философскую или психологическую формулу», а «живой человек, предстающий перед нами во всей цельности и сложности своей натуры» (А. Аникст).
Существуют тысячи самых противоречивых мнений о героях и ситуациях в пьесах Шекспира. Но лучшим и самым верным пониманием его произведений будет мнение самого зрителя или нового читателя, распахнувшего окно в Природу — пьесы Уильяма Шекспира из Стредфорда-на-Эйвоне.
Вопрос в другом: захотим ли мы обладать собственным мнением или станем смотреть на волшебную сцену «Глобуса» глазами очерёдного фокусника-ученого?
Сервантес в одной из «Назидательных новелл» писал, что, отплыв из Испании, герой при свежем попутном ветре достиг берегов Англии за девять дней, а письмо оттуда шло обратно 50. Конечно, за это время можно было обогнуть разве что Пиренейский полуостров, минуя только что отвоеванную у мавров скалу-крепость близ Гибралтара. Мировосприятие Сервантеса показательно: испанцы, живущие бок о бок с арабским и тюркским мирами, воспринимали себя внутри сравнительно небольшого и кишащего новыми гуманистическими идеями европейского пространства. Но философию и гуманизм Возрождения они поняли для себя все же иначе.
|
Кризис испанского государства и
моральных ценностей совпал со взлетом словесности, а позже и
театра. Логика искусства несколько иная, чем реальная жизнь.
Шедевр появляется, подобно алмазу, под колоссальным давлением
извне. Стабильные времена лишь развивают достигнутое
беспокойными предшественниками. |
|
|
|
|
|
Эскориал - дворец-монастырь, построенный в 50 км к северо-западу от Мадрида, - воплощает собой неразрывную связь монарха с церковью: державной власти и божественного провидения. В восточной части комплекса над королевской усыпальницей -апартаменты короля, расположенные так, что он может со своей постели видеть алтарь. |
Аутодафе: оглашение и исполнение приговора на Большой площади в Мадриде. Франсиско Ризи. |
Среди предпосылок развития в Испании ренессансной литературы можно назвать объединение в 1479 г. Кастилии и Арагона (включившего в себя Каталонию и Валенсию), позволившее испанцам говорить и писать не только на латыни, но и на едином кастильском диалекте; расширение территории (Реконкиста) единого Испанского королевства за счет присоединения Руссильона, Прованса, Сицилии, Сардиниии, Корсики, Неаполя и португальских земель Галисии и Басконии, позволившее познакомить новое государство с
искусством и наукой стран, где уже творили художники Возрождения. Взлет искусства и театра в Испании совпал с усилением могущества испанской короны. Этот период в искусстве ныне называют золотым веком (el Siglo de ого). Однако закат монархической Испании (после разгрома «Непобедимой армады» в 1588 г.) был связан с упованием аристократии на золото Америки и нежеланием развивать собственную промышленность, новые человеческие отношения. Стремительная и энергичная Реконкиста, романтика путешествий и грезы о сказочных богатствах, постоянные контакты с исламской культурой, восточным «созерцательным» сознанием и одновременно крепкие католические традиции вкупе с жесточайшей инквизицией породили особое видение мира, присущее только испанцам. Самосознание испанской культуры характеризуется более глубокой противоречивостью и изломанностью, чем это испытывали гуманисты Франции или Италии. Испанская словесность обнаружила тончайшую проработку идеи трагической несовместимости идеала и земных, подчас скучных проблем.
Роман-драма «Селестина» («Трагикомедия о Калисто и Мелибее», ок. 1499)
юриста Фернандо де Рохаса стал одним из первых произведений, отделивших
средневековую словесность от литературы новой, ренессансной Испании.
Новой в этой книге стала тема любви — всесокрушающей силы и верховного
судии в мире суеты и забот. Но в центре внимания автора оказались не
столько молодые влюбленные Калисто и Мелибея (чья бесславная кончина
иллюстрирует горькую иронию де Рохаса: юноша споткнулся на лестнице, а
девушка с горя сбросилась с высокой башни), сколько Селестина
(примечательно, что и ее смерть не стала естественной: ее убили
подельники) — старая сводня, которая помогла им воссоединиться.
Именно рассуждения и своеобразная мудрость Селестины, а порой и
откровенный цинизм стали предметом размышления де Рохаса. Возвышенные
чувства молодых вступают в явное противоречие с похотливыми намеками и
вкрадчивым лукавством Селестины. Нежность и смущение несовместимы с
алчностью и грубым нажимом воровского мира. Однако обнаруживается, что
Селестина, прообраз будущих испанских литературных пикаро, лишь четко
констатирует данность: деньги, корысть и выгода правят миром. Более того,
чувства и искренние порывы могут погубить человека. Тема денег и мотив
сатанинского наваждения, столь основательно разработанные английским
романом XVIII - XVIII вв., а также в творчестве, например, О. де
Бальзака и Э. Золя, прочно заняли свое место в европейской литературе.
|
Сервантес не испытывал острой нужды в новых неповторимых сюжетах (от него через 400 лет мучился, например, русский писатель Н. В. Гоголь). Его судьба сама была сборником авантюр и анекдотов. Стало общепринятым упоминание об участии 24-летнего Сервантеса в морском походе и битве при Лепанто, в которой он непоправимо повредил руку. В плену у алжирского Гасана-паши (по кличке Пахнущий Кровью), куда он попал вместе с братом Родриго после шторма и потери управления судном, он содержался в особом почете: у пленника нашли документы, подтверждавшие его знатное происхождение. Молодой испанец, гордый и мятежный нравом (за что турки часто казнили пленников), стал товаром, за который ждали хороший выкуп. Пять лет семья Сервантеса, впав в нужду, собирала огромный выкуп. На родине его ждали слезы родственников и равнодушие чиновников. В Севилье он через некоторое время оказался в башне по обвинению в растрате средств: ветеран турецкой кампании с трудом нашел должность сборщика провианта для армии и поручил собранные средства на сохранение банкиру-проходимцу Симону Фрейра де Лима. В течение 15 лет службы Сервантеса неоднократно помещали в тюрьму по ложным обвинениям в недоимках и сокрытии денег. В1606 г. Сервантеса по подозрению в убийстве рядом с собственным домом в Вальядолиде вновь поместили в тюрьму. После этого семья Сервантеса была вынуждена вновь собраться в путь - в Мадрид. Вся молодость и зрелые годы Сервантеса - нахождение в пути, неприютность и нужда. |
|
Иллюстрация Т. Жоанно к «Хитроумному идальго Дон Кихоту Ламанчскому».
|
ОСОБЫЙ ТИП ПОВЕСТВОВАНИЯ — плутовской, или пикарескный, роман (novela picaresca) возникает с середины XVI в. Первым таким романом считается «Жизнь Ласарильо с Тормеса» (1554), автор которого неизвестен (см. Плутовской роман). Первоначально героями в этом жанре выступали представители социальных низов, добывающие себе на жизнь обманом, хитростью. Их характерные черты — авантюризм и эгоизм, корыстолюбие и обостренное тщеславие.
Традиции пикарескного романа продолжил в своих «Назидательных новеллах» и в комедии «Блаженный прощелыга» (ок. 1598) Мигель де Сервантес Сааведра, автор трагедии «Нумансия» (1581 - 1683), пасторального романа «Галатея» (1585), «Восьми комедий и восьми интермедий, никогда ранее не представленных» (1615) и шедевра мировой литературы — романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605 -1615).
Первый выезд Дон Кихота и первые пять глав романа считаются литературоведами «Протокихотом»: это законченное повествование о тщеславии и сумасшествии окружающего мира. Начиная с 7-й главы, со второго выезда, образ Дон Кихота значительно усложняется: рассказ о воображаемых подвигах и реальных злоключениях мечтающего идальго сменяется, с одной стороны, глубокими философскими размышлениями о назначении человека, с другой стороны, «просветлением» разума Дон Кихота, начинающего принимать мир таким, какой он есть.
Герой осознает тщетность и даже губительность для человека вторжения в естественный ход событий. Оказывается, человек способен и должен изменить лишь небольшое пространство мира вокруг себя. Не покушаясь на интересы и чаяния других людей и не навязывая своих, пусть из самых лучших побуждений, собственных представлений о бытии.
Писатель показал пропасть между замыслом и его воплощением, поступком и его последствиями. Эксперименты с «донкихотством» показали, что любой человек видит мир всегда иначе, чем его самый близкий единомышленник. Трава и река, солнце, пересеченное дырявыми лопастями мельницы, и женщина у дороги будут увидены каждым человеком по-своему. Мир — многообразие индивидуальных представлений, и только.
Уникальность философской лаборатории Сервантеса заключалась в тщательной разработке одной из основных проблем существования человека — свободы. Свобода существует, и доблесть человека — в ее защите. Но она ограничивается разумными пределами.
Одна из заслуг Сервантеса-человековеда состоит в том, что он первым показал сложный и красочный мир внутреннего сознания (иногда подсознания) человека: его иллюзорные перспективы и образы. Любой человек в той или иной мере — одинокий странник в пустыне собственной души, с жадностью всматривающийся в ее мерцающие миражи. Комизм возникает всякий раз, когда чувства или разум, идеализм или голый практицизм берут верх: человека они способны изменить до гротескного безобразия.
Значение Сервантеса-художника состоит не столько в том, что была написана пародия на рыцарский роман, сколько в подготовке романа Нового времени: универсального синтетичного образования, призванного исследовать внутренний мир героя, законы природы, устройство машины-общества, города и т. д.
Дон Кихот стал в литературе вечным образом ввиду своей неоднозначности (которая возникает часто даже не по воле самого автора) и неограниченных возможностей толкования поступков персонажа. Появление вечного образа в одной из национальных литератур отдельного региона мира, объединенного единой культурой и образно-стилистическим «ассортиментом», показало, что к завершению подошла целая эпоха, близится новое самосознание, возникает совершенно иная картина мира.
|
Большинство своих пьес Лопе называл «соmеdias». Он считал, что строгое разделение на трагедии и комедии неестественно: в жизни высокое и низкое, трагическое и комическое неотделимы друг от друга; в комедии нельзя видеть только комическое, а в трагедии - только трагическое. Наименование напряженного и бурлящего жизненного потока «комедией» - воплощение платонического, отстраненно-философского отношения к человеку и его судьбе на Земле. Жизнь - красочный театр, где слезы сменяются смехом, корысть соседствует с беззаветной преданностью, а герои лишь играют новые роли, надевают новые костюмы и оказываются среди незнакомых декораций. Незыблемыми остаются достоинство человека и любовь. |
|
|
|
|
|
Д. Веласкес. Завтрак (1617 - 1620). |
Эль Греко. «План Толедо» (ок. 1610- 1614). |
ВОПРОСЫ ЧЕСТИ И ЛЮБВИ стали центральными в драматургических сочинениях Лопе Феликса де Вега Карпьо, автора около 2000 произведений: поэм, драм, комедий, сонетов, романов, эклог и пародий (сохранилось 470 пьес и роман-драма «Доротея», публ. 1632). Достоинство присуще не только дворянину. Честь и достойное реноме в обществе — нравственная основа любого человека. Честь у Лопе — многогранное понятие.
В
исторической драме «Фуэнте Овехуна» (ок. 1613, название иногда
переводится как «Овечий источник»). Лопе впервые в европейской
литературе озвучил проблему несовместимости чувства (дружбы, любви) и
долга (чести). Драматург показал трагическую несвободу человека среди
людей, вынужденного соблюдать не всегда оправданные правила. Постыдная
спекуляция монарха на лучших чувствах своего вассала низвергла его
самого в нравственную бездну. Король понял это слишком поздно. □
Коренное отличие гуманизма Лопе де Вега от гуманизма итальянских,
французских или английских писателей в том, что он видел человека тесно
связанным с другими людьми: общественным долгом, обязательствами,
чувством (дружбы, любви). Эта связь и обязательства перед другими людьми
и есть торжественное и необходимое следование чести.
О любви так или иначе говорят все герои пьес Лопе де Вега: господа и слуги, доньи и сеньоры, молодые и старики, хитрые и наивные, образованные и невежды, влюбленные и ревнивцы.
Лопе де Вега, однако, далек от идеализации жизни. Несмотря на признание за любовью мощи и мудрости, драматург показывает, что люди часто предпочитают любви богатство и уютное сосуществование с нелюбимым человеком. Так и происходит в «Дурочке»: Лауренсьо женится на Финее все же из-за ее приданого в 40 000 эскудо. Это остается очевидным, несмотря на условно счастливый финал комедии. Осуждению подвергаются и герои комедии «Нашла коса на камень» (ок. 1630), у которых жажда денег побеждает чувство.
Лопе де Вега был создателем комедий «плаща и шпаги». Характерными особенностями таких пьес являются параллели между влюбленными господами и влюбленными слугами, заметная роль плутоватого слуги, наставляющего своего господина и часто выручающего его из сложных ситуаций (например, Тристан в «Собаке на сене», Клара в «Дурочке»). В таких пьесах, в которых непременным атрибутом является обнаженная шпага и плащ (либо скрывающий лицо, либо обернутый вокруг руки), часты поединки, ревнивцы и отвергнутые поклонники, нечаянные ранения и даже убийства. Лопе часто описывал города как игрища страстей, круговерть обманов и притворств, где большинство людей — запасные игроки на театральных подмостках.
Переодевание, карнавал, игра в якобы другого, мотивы обмана/узнавания, утраты/обретения, письма-намеки или компрометирующие записки наполняют многие произведения Лопе. В одной из лучших таких «комедий» «Валенсианская вдова» (1604, публ. 1621) главная героиня Леонардо просит приводить к себе ее возлюбленного Камило. Дабы сохранить честь порядочной вдовы, она желает остаться неузнанной. Поэтому Камило вместе с проводником — слугой вдовы Урбаном — вынужден идти ночью через весь город почти вслепую: на него по требованию неизвестной ему пока дамы надет глубокий клобук. Коллизия разрешится сама собой: Камило просто откроет принесенный с собой тайком фонарь и узнает в инкогнито молодую вдову. Но при этом пострадает репутация старой тетки Леонардо, а ревнивцами-поклонниками серьезно будет ранен посол Росано. Но для героев Лопе важна сама противоречивость жизни: горькой в разочарованиях и сладостной в любовном упоении. Как писал литературовед В. Ю. Силюнас, «любовь — это космология, философия и религия светских пьес Лопе де Вега; она является основой бытия, священной всепоглощающей целью».
Испанская литература Возрождения стала колыбелью нового отдельного жанра — плутовского романа. В отличие от магистральной линии раннего Возрождения — воспевания силы и доблести человека, — он, напротив, показал его зависимость от обстоятельств.
|
Близки пикарескной литературе
некоторые «Назидательные новеллы» М. де Сервантеса и роман А. де
Касильо-и-Солорсано «Севильская куница, или Удонка для
кошельков» (1642). Плутом можно назвать Дона Хуана (Дон Жуан) из
ставшей знаменитой в европейской литературе комедии Тирсо де
Молины «Дон Хуан, или Каменный гость» (1630; переработка старой
испанской легенды о жизнелюбивом севильском озорнике). Дон Хуан,
представший в комедии развратником и циником, решил увести у
своего друга невесту. Оказавшись у нее дома под видом жениха, он
встречает командора, ее отца, и убивает его. Насмехаясь над
памятью убитого, он призывает его статую отужинать с ним. В
ответ статуя просит Дона Хуана прибыть к нему, на что молодой
повеса, несмотря на уговоры его слуги Каталинона, соглашается.
Он приходит в церковь к гробнице командора и гибнет,
проваливаясь в преисподнюю. |
ПЛУТОВСКОЙ, или пикарескный, роман (novelet picaresca) возник в Испании в середине XVI в. Первым таким произведением считается «Жизнь Ласарильо с Тормеса» (1554), автор которого неизвестен. Это произведение сразу же определило особенности плутовского жанра: как правило, сюжет в нем автобиографичен, пространством является череда городов и деревень, а мир конкретен до мельчайших деталей; время — современное автору или недавнее прошлое, о котором вспоминают персонажы; развиваются темы детства и мотив сиротства. Но пикаро — это не только человек на дне общества, вечный бродяга, вор или отчаянный авантюрист, но и люди высших сословий: дворяне, судьи, альгуасилы (полицейские), нотариусы и чиновники. Героем оказывается незнатный молодой человек, еще неопытный в жизни (« История жизни пройдохи по и» I они дон Паблос», 1626, Ф. де Кеведо-и-Вильегаса) или дети (в новелле М. де Сервантеса «Ринконете и Кортадильо», со. «Назидательные новеллы», 1613). Рассказывающий о себе пикаро трезво оценивает себя как плута, знающего цену жизни и составляющего из своего опыта назидания. Испанский плутовской роман в отличие от подобного типа сюжетов Средневековья иллюстрирует ожесточенную схватку с жизнью, он пронизан горечью и некоторым пессимизмом (далее когда, например, Лосарильо перестает скитаться и бедствовать). Важная особенность плутовской литературы — выворачивание действительности «наизнанку». Подобно игральным картам мир предстает в них в двух взаимно отражающихся плоскостях. Почти всегда это диктовалось законами сатиры, срывающей с действительности покрывало лицемерия: привычный порядок вещей подвергался сомнению и осмеянию («Хромой бес», 1641, Л. Велеса де Гевары).
С другой стороны, насмешке подвергались и сами плуты. Это происходит в романе «История жизни пройдохи по имени дон Паблос» Франсиско де Кеведо-и-Вильегас.
В романе де Кеведо рассказывается о «непутевых» родителях Паблоса (об отце-брадобрее, прославившемся своим искусством передергивать карты, и о матери, которую считали продажной женщиной), об учебе в школе, где он получил обидные прозвища за репутацию родителей; о вынужденной голодовке в пансионе самодура и ханжи Кабры, об издевательском «крещении» в студенты в Алькала-де-Энарес (где, впрочем, герой проявил незаурядные способности к учению) и об истинных «университетах» в рядах уличных бродяг и нищих; о встрече на пыльном тракте с бездарным поэтом и бесплодными прожектерами: один задумал с помощью губок осушить кусочек моря, а другой — рассчитывал формулами правильную траекторию движения рапиры при фехтовании. Галерея гротескных персонажей напоминает мучительные видения И. Босха. Человек оскорблен и унижает сам себя. Честь и достоинство человека остались лишь в красиво выведенных буквах дворянских грамот и нестираных лоскутах некогда изящной одежды. Кажется, что галлюцинации от голода, ставшего навязчивым мотивом во многих пикарескных произведениях, заполняют собой картины романа. Еда и процесс еды превращаются, в отличие от раблезианского любования физическим миром, в омерзительное зрелище.
Значительным достижением пикарескной литературы стал роман Матео Алемана-и-де-Энеро «Жизнеописание Гусмана де Альфараче» (1599 - 1604). В отличие от нескольких жизненных эпизодов в «Ласарильо» роман Алемана представил, по выражению английского романиста XVIII в. Г. Филдинга, «эпос больших дорог».
Композиция романа «Хромой бес» Луиса Велеса де Гевары представляет собой скачки «адской блохи» — Хромого беса, который был выпущен из любопытства и чувства авантюризма из алхимической колбы плутоватым доном Клеофасом. В благодарность за освобождение бес показывает молодому повесе истинную жизнь города. Он это совершает чудесным образом: буквально поднимая крыши домов и делая стены прозрачными. Показывая Клеофасу мир, бес и его подопечный сами совершают плутовские проделки, связанные с желанием бесплатно поесть и отдохнуть, либо из озорства и азарта, либо для наказания кого-то из противников. Роман де Гевары отличается витиеватыми метафорами и аллегориями, вставными сонетами, пространными рассуждениями, некоторой повторяемостью образов. Это говорит о близости произведения эстетике барокко.
Древнерусская литература совсем не похожа на русскую литературу Нового времени. Но она во многом отличается и от современных ей средневековых литератур Западной Европы. Произведения древнерусской словесности 500-летней давности менее близки и понятны современному читателю, чем памятники античной литературы или фольклора, созданные сотни, а иногда и тысячи лет назад. Русские поэты и прозаики Нового времени множество раз обращались к сочинениям древнерусских книжников, но все-таки не случайно русская литература ведет свою родословную от более поздней эпохи — от XVIII столетия. Необычная красота и совершенство древнерусской словесности были по-настоящему открыты и оценены совсем недавно — в XX в.
ПОНЯТИЕ «ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» привычно, и мало кто замечает его неточность. Примерно до середины XV столетия древнерусскую литературу правильнее называть древневосточнославянской. В первые века после крещения Руси и распространения в восточнославянских землях письменности литература восточных славян была единой: одни и те же произведения читали и переписывали книжники в Киеве и Владимире, Полоцке и Новгороде, Чернигове и Ростове. Позднее на этой территории складываются три восточнославянские народности: русские, украинцы и белорусы. Прежде единый древнерусский язык распадается.
ЛИТЕРАТУРОЙ НАЗЫВАЮТ и произведения древнерусских книжников, и тексты авторов XVIII в., и творения русских классиков XIX столетия, и сочинения современных писателей. Очевидны различия между литературой XVIII, XIX и XX вв. Но вся русская литература трех последних столетий непохожа на памятники древнерусской книжности (древнерусского письменного словесного искусства).
|
Существование в словесности
риторик и поэтик означает, что литература осознает себя в
качестве самостоятельного явления. Она «задумывается» над собой.
В этом случае возрастает роль авторства: ценится мастерство
художника, писатели вступают друг с другом в состязание на
лучшее написание своего произведения и превосходство какого-либо
образца. Традиционалистская литература, провозгласившая себя
литературой, непохожа на литературу, еще не осознавшую своего
своеобразия. К числу таких литератур, не ставших самостоятельной
сферой культуры, относится древнерусская книжность. |
|
Преподобный Нестор - русский летописец. |
ВОЗНИКЛА ДРЕВНЕРУССКАЯ КНИЖНОСТЬ в XI в. Один из ее первых памятников был создан в 30 - 40-е гг. XI в. — «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. XVII столетие — последний век древнерусской литературы. На его протяжении постепенно разрушаются традиционные древнерусские литературные каноны, рождаются новые жанры, иные представления о человеке и мире. Поэтому некоторые исследователи не включают XVII в. в историю древнерусской литературы, рассматривая его как особый период (см. Русская литература XVII в.). Древнерусская литература не менее традиционалистична, чем античная литература или произведения классицизма. Но ее традиционализм и каноничность иные (см. Терминология литературоведческая). Культура Древней Руси не знала риторики и поэтики. Книжники прибегали к разнообразным риторическим приемам: к анафорам (словам или выражениям, повторяющимся в начале соседних фраз), к синтаксическому параллелизму (построению предложений по одной и той же схеме), к риторическим вопросам и восклицаниям. Но при этом они подражали текстам, унаследованным из византийской литературы, а не правилам, указанным в специальных руководствах. До XVII в. на Руси не были распространены риторики, а отношение к ним было отрицательным. Древнерусская книжность — еще не художественная литература. Эстетическая функция в ней несамостоятельна, подчинена утилитарным, назидательным и культовым задачам. Поэтому в древнерусской литературе роль автора меньшая, чем в литературе средневековой Западной Европы или Византии.
Своеобразие древнерусской книжности и других православных славянских литератур обусловлено особым религиозным отношением к слову и языку. Письменность и сама азбука были для православных славян священны. Игра словом воспринималась как кощунство. Между тем риторическое отношение к тексту предполагает именно такую игру и дерзновение: писатель творит независимый словесный мир подобно Богу, создавшему Вселенную. Писатель намеренно демонстрирует свое мастерство. Такого отношения к тексту древнерусское сознание принять не могло. Созданная в середине IX в. византийскими миссионерами братьями Кириллом (в миру — Константином) и Мефодием славянская азбука предназначалась специально для перевода христианских текстов. Кирилл и Мефодий были создателями книжного (письменного) славянского языка (старославянского) и первыми переводчиками евангельских текстов с греческого на этот язык. В старославянский язык вошли слова, составленные по аналогии с лексикой греческого языка, а некоторые исконные слова приобрели новые значения, передающие смысл христианского вероучения. Со временем в разных православных славянских странах сложились собственные варианты — изводы — богослужебного старославянского языка, потерявшие некоторые признаки, характерные для языка, существовавшего при Кирилле и Мефодии. Такой язык восточных славян, болгар и сербов называют церковнославянским. Обретение письменности осознавалось православными славянами как священное событие: они считали, что Кирилл и Мефодий создали письменность по благодати Божией.
|
Академик Д. С. Лихачев предложил особый термин - «литературный этикет». Ученый писал: «Литературный этикет средневекового писателя слагался из представлений о том: 1) как должен был совершаться тот или иной ход событий, 2) как должно было вести себя действующее лицо сообразно своему положению, 3) какими словами должен был описывать автор совершающееся. <...> Все дело в том, что все эти словесные формулы, стилистические особенности, определенные повторяющиеся ситуации применяются средневековым писателем <...> именно там, где они требуются. Писатель выбирает, размышляет, озабочен общей «благообразностью» изложения. Самые литературные каноны варьируются им, меняются в зависимости от его представлений о «литературном приличии». Именно эти представления и являются главными в его творчестве. Перед нами не механический подбор трафаретов, а творчество, в котором писатель стремится выразить свои представления о должном и приличествующем, не столько изобретая новое, сколько комбинируя старое». |
|
|
|
|
|
Фрагмент иконы XVI - XVII вв., сюжет которой развивается в «Повести о Петре и Февронии» |
Фрагмент иконы «Борис и Глеб с житием» из церкви Бориса и Глеба в Запрудах (Коломна) |
ВАЖНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ было особое отношение к вымыслу и описаниям человеческих страстей. Произведения с вымышленными сюжетами и персонажами существовали и в средневековой Европе (например, рыцарские романы), и в Византии (например, любовные романы). Но древнерусская литература вплоть до XVII столетия не знала вымышленных героев и сюжетов и светских литературных жанров. С современной точки зрения многое в древнерусских произведениях представляется вымыслом. Древнерусские книжники и читатели верили в описываемые события. Древнерусская литература до XVII в. не описывает любовных переживаний и как будто не знает самого понятия «любовь». Она рассказывает либо о греховной, «блудной» страсти, ведущей к гибели души, либо о добродетельном христианском браке (например, в «Повести о Петре и Февронии» — XVI в.). В древнерусской книжности неразделимы религиозное и светское. Академическое и школьное разделение древнерусской литературы на религиозную и светскую условно. Так, канон (литургическое песнопение; не путать с каноном-правилом) святому, слово (жанр торжественного красноречия), посвященное церковному празднику, или житие святого — религиозные произведения. Но и «воинская повесть», и летопись, относимые к памятникам мирской литературы, истолковывают события с религиозной точки зрения. Все происходящее и бывшее когда-то объясняется участием Провидения, реализацией Божиего замысла: события совершаются либо по воле и благодати Божией (благие события), либо попущением Божиим, как наказания за грехи русских князей и их подданных (недобрые, «злые» события — нашествия иноплеменников, неурожаи, стихийные бедствия).
Не было в Древней Руси и исторических сочинений, в которых авторы предлагали свой анализ событий. Такие авторские исторические труды были известны в Византии. На Руси «авторские» истории появляются только в XVI в. («История о великом князе Московском» (1573) А. М. Курбского) и широко распространяются в следующем столетии. На протяжении предшествующих веков древнерусские книжники из богатого византийского историографического наследия знакомились только с хрониками — сочинениями, в которых безыскусно излагались события мировой истории.
Не знала древнерусская словесность комических и пародийных произведений, хотя они существовали на Западе и в Византии. «Смех вводит в грех», — говорит русская пословица. Смех и безудержное веселье в древнерусской православной культуре считались греховными и кощунственными. Они сопровождали народные праздники языческого происхождения. Церковь эти праздники осуждала. Только в XVII в. на Руси зарождается комическая словесность. В 1670-е гг. создается русский театр, сочиняются и ставятся на придворной сцене первые пьесы. До этого актерство, лицедейство считались пустым развлечением. Кроме того, считалось, что драматурги и актеры создавали свой собственный, иллюзорный мир — покушались на права Бога, единственного Творца. Артисты отказывались от своей личности, от собственной судьбы, дарованной им Богом, и играли чужие жизни и роли.
ОТЛИЧИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ от современных ей литератур латинского Запада или греческой Византии в том, что она по-другому связана с бытом, обрядом и практическими потребностями общества.
Церковные песнопения исполнялись на богослужениях в определенное время. В храме звучали образцы церковного красноречия и краткие жития святых. Их называли проложными — по славянскому названию сборника житий, «Пролога». Чтение пространных житий слушали монахи за трапезой.
Несмотря на эти отличия от произведений художественных,
древнерусские памятники обладают несомненными эстетическими свойствами.
В древнерусской литературе события и вещи, окружающие человека, —
символы и проявление высшей, Божественной реальности. В мире властвуют
две силы — воля Бога, желающего блага человеку, и воля дьявола,
жаждущего своими кознями отвратить человека от Создателя и погубить.
Человек свободен в своем выборе между добром и злом, светом и тьмой.
Время и пространство в древнерусской словесности — не физические
категории. Сквозь временное просвечивает вечность. Повторяющиеся каждый
год церковные праздники — Рождество и Воскресение Христа — были не
просто воспоминанием о событиях земной жизни Спасителя, но таинственным
и реальным их повторением. Каждое празднование Рождества Христова
верующие переживали как рождение младенца Иисуса, а каждый праздник
Пасхи был для них новым воскресением Христа из мертвых. Не случайно
древнерусский проповедник XII в. Кирилл Туровский, вспоминая о
воскресении Христа, постоянно употребляет слово «днесь» (ныне).
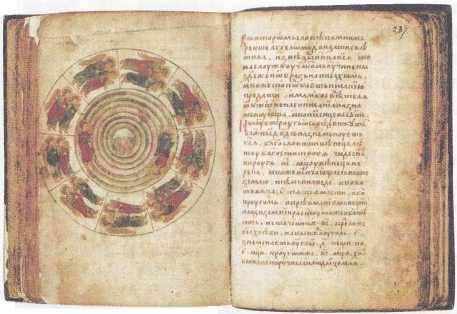 |
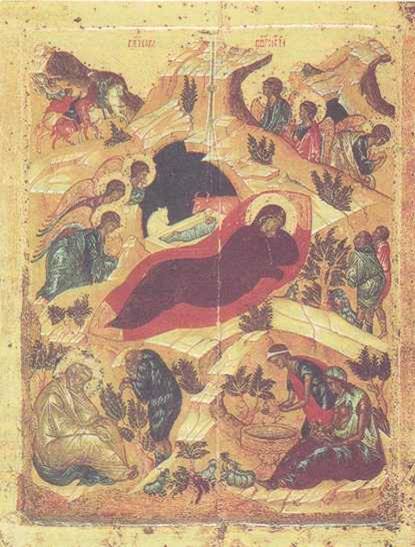 |
|
«Христианская топография» Козьмы Индикоплова (пер. с греч. в XII в.) не только рассказывала о заморских странах, туземцах и невиданных чудовищах, но и давала представление о летосчислении, церковном годе и праздниках. |
Икона «Рождество Христово» (первая четверть XV в.). |
БИБЛЕЙСКИЕ СОБЫТИЯ истолковывались как прообразы того, что происходит в настоящем. События прошлого для древнерусского человека не исчезали бесследно: они рождали долгое эхо, повторяясь и обновляясь в настоящем. Отголоском библейской истории об убиении Авеля братом Каином для древнерусских книжников было вероломное убийство святых князей братьев Бориса и Глеба «новым, вторым Каином» — сводным братом Святополком. Пространство для древнерусского человека не было просто географическим понятием. Оно могло быть своим и чужим, родным и враждебным. Свои земли — земли христианские и святые места: Палестина с Иерусалимом, Константинополь с его святынями, афонские монастыри на Балканах. Святые
земли располагались на востоке, на восходе солнца. Не случайно алтарь — главная часть христианского храма — всегда обращен на восток. Грешные земли находились на западе и севере. Восток и запад имели в древнерусском религиозном сознании не географический, а ценностно-религиозный символический смысл.Стиль в древнерусской литературе зависел не от жанра произведения, а от предмета повествования.
В описании жизни святого использовался устойчивый набор выражений и библейских цитат. Святой обычно именовался земным ангелом и небесным человеком, дивным и пречудным, говорилось о свете его души и подвигах, о неуклонной, жаждущей любви к Богу.
Эти же эпитеты используются при изображении святого в летописном фрагменте и в «похвальном слове». Так, неизменным в различных произведениях был образ идеального князя: он благочестив, милостив, справедлив и храбр. Его смерть оплакивают все люди — богатые и бедные. Другой набор трафаретов был характерен для воинского стиля. Им описывались битвы в летописях, в исторических повестях и в житиях. Враг выступал в силе тяжце, обступал русское войско подобно лесу. Русские князья перед битвой возносили молитвы Богу. Стрелы летели как дождь; воины бились, схватившись за руки. Битва была столь жестока, что кровь заливала долины.
В культуре же Нового времени высоко ценятся индивидуальность и неподражаемый стиль писателя. Оригинальность же древнерусского книжника проявляется не в нарушении традиции, а в варьировании привычных образов. Стиль некоторых древнерусских книжников легко узнаваем. Так, невозможно приписать другому писателю сочинения Епифания Премудрого с его изощренным «плетением словес». Неподражаем стиль посланий Ивана Грозного, дерзко смешивающего велеречивость и грубую брань, ученые слова и слог простого разговора. Но это скорее исключения. Древнерусские авторы сознательно не пытались быть оригинальными, не щеголяли красотой или новизной стиля.
Современная литература унаследовала набор жанров, восходящих к античности. Еще в Древней Греции сложились три основных рода литературы — эпос, лирика, драма. Еще древние греки и римляне создали такие драматические жанры, как трагедия и комедия, и такой эпический жанр, как роман. За десятки веков, прошедших с античных времен, многие жанры изменились, сохранив лишь старые названия, а иные родились. Но все же жанры античной и современной литературы соединены прямым родством. Совсем другая картина открывается в древнерусской книжности. Большинство бытовавших в ней жанров угасло уже к XVIII столетию или на его протяжении; некоторые сохранились в богослужениях Русской православной церкви.
|
В литературе Нового времени все
элементы (жанры, тексты) взаимосвязаны. При формировании
литературного течения или направления присущие ему черты
проявляются в самых разных жанрах. Так, исследователи пишут о
романтической поэме и о романтической элегии, о романтической
трагедии и повести. Изменения внутри жанра воспринимаются
произведениями другой жанровой природы. Приемы психологического
романа XIX столетия наследует лирика; под влиянием
господствующей прозы «прозаизируется» стихотворство (например,
лирика Н. А. Некрасова). Главенство поэзии в литературе
символизма приводит к лиризации символистской прозы. |
|
Евангелист святой Матфей. Миниатюра из Лицевой рукописи Успенского собора (XV в.). |
В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ связи между разными видами и жанрами еще нет. Даже в XVII столетии, когда исторические повествования претерпевают значительные изменения и возникают прежде неизвестные жанры, книжники продолжают создавать жития святых по старым схемам. Одни жанры развиваются быстрее, другие медленнее, третьи остаются неподвижными. Не развиваются жанры, структура которых обусловлена правилами богослужения. Мало изменились жития: они повествуют о вечном — о раскрытии и присутствии святости в земном мире. В разных жанрах существует свое видение человека. Но, например, житийный персонаж — святой и в других жанрах будет изображаться не так, как обыкновенные, грешные люди, князь — неизменно иначе, чем простолюдин.
ОСНОВНЫМИ ЖАНРАМИ древнерусской литературы можно считать слово, житие (святых — преподобнические, святых князей, мучеников, юродивых и др.), хождение, воинскую повесть и послание.
Первое сохранившееся произведение древнерусской литературы — «Слово о Законе и Благодати», написанное священником Иларионом между 1037 - 1050 гг. (возможно, в 1049). Он стал первым русским митрополитом (с 1051) — уроженцем Руси (прежние митрополиты были греками). «Слово...» Илариона принадлежит к жанру торжественного церковного красноречия. «Слово...» предназначалось для произнесения в церкви на богослужении и посвящалось разъяснению смысла христианского вероучения и праздников. Произведение Илариона было прочитано им в одном из киевских храмов. В «Слове...» раскрывается смысл праздников Благовещение и Воскресение Христово (Пасха). Вероятно, произнесение текста было приурочено к одному из них. Иларион, следуя за идеями одного из первых проповедников христианства апостола Павла, противопоставляет Закон (Ветхий Завет — основу религии евреев, иудаизма) Благодати, принесенной людям Христом (Новому Завету). Благодаря Закону люди научились отличать грех от добродетели, но не могли победить грех и смерть. Только Благодать Христа избавила людей от власти греха, совершенного первым человеком Адамом. Такова основная тема «Слова...» Илариона. Антитеза Закон — Благодать развернута с помощью ряда противопоставлений: Благодать подобна жене еврейского праотца Авраама Сарре и ее сыну Исааку. Закон символизирует рабыня Авраама Агарь и их сын Измаил. Закон — тень, а Благодать — истина. Иларион противопоставляет Ветхий Завет, обращенный лишь к одному еврейскому народу, Новому Завету — союзу с Богом, участниками которого могут стать все народы и страны. Он прославляет славную Русскую землю и ее могущественных князей: Владимира Святославича, крестившего Русь, и его сына Ярослава Мудрого. Автор «Слова...» утверждает, что позднее (в сравнении с другими народами) принятие христианства Русью не наносит ущерба ее христианскому достоинству: страна, принявшая крещение, столь же любима Богом, как и другие страны. Эта мысль Илариона имела особое значение: Русь приняла крещение от Византийской империи, а византийцы считали, что народы, крещенные ими, становятся подданными империи. Иларион оспаривает эту политическую идею.
В XII в. были созданы сочинения другого прославленного древнерусского проповедника, епископа Туровского — Кирилла. Он составил восемь «Слов...», посвященных проелавлению и раскрытию смысла нескольких церковных праздников.
САМЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ЖАНРОМ в древнерусской литературе были жития святых. Жития рассказывают о жизни святых и имеют религиозно-назидательный смысл. Описанные в них истории — предмет для подражания. Житие должно вызывать в читателе или слушателе чувство умиления самоотречением и духовной чистотой, кротостью и радостью, с которыми святой переносил страдания и лишения во имя Божие. Жития также называют агиографической (от греч. h'agios — «святой» и grapho— «описываю») литературой. К жанру житие примыкает патерик (от греч. patër — «отец») — сборник рассказов-легенд о наиболее занимательных и назидательных эпизодах святых отцов или старцев — и прóлог (от греч. prologos — «вступление»; не путать с вступительной частью книги — прологом) — сборники кратких житий и поучений.
ДРЕВНЕЙШИЕ РУССКИЕ АГИОГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ — два жития князей-страстотерпцев (принявших добровольную смерть в подражание Христу) Бориса и Глеба — «Сказание о Борисе и Глебе» неизвестного автора и «Чтение о Борисе и Глебе» (1080-е или между 1108 и 1115 гг.) киевопечерского монаха Нестора. В «Сказании о Борисе и Глебе» рассказывается о вероломном убиении братьев-князей — юноши Бориса и отрока Глеба — их старшим сводным братом Святополком, который замыслил единолично править всей Русью. Повествование в «Сказании...» наполнено психологизмом. Подробно описываются душевные борения, скорбь и страх святых в преддверии безвременной смерти. И в то же время Борис желает принять смерть в подражание Христу. Молитвы Бориса и Глеба — шедевры красноречия. В них последовательно и ясно развертывается основная мысль — сожаление о грядущей смерти и готовность принять ее от рук убийц. Убиение Бориса сопровождается хоровым плачем его слуг и убийц. «Сказание...» относится к житийной разновидности, которую ученые называют «мартирий» (от греч. martyrion — «мученичество»). В мартирии повествуется не о всей жизни святого, а лишь о его мученической смерти за веру в Христа. Борис и Глеб — не мученики за веру в собственном смысле слова (Святополк не понуждал их отречься от христианской веры) — они принимают смерть, подражая Христу, «Сказание...» содержит совсем не житийный фрагмент, выдержанный в воинском стиле, — описание битвы Святополка со сводным братом Ярославом, мстящим великому грешнику за убиение святых. Борисоглебские жития стали образцом для последующих агиографических произведений о святых князьях, умерших от рук убийц.
|
Антитеза - основной прием в
«Сказании о Борисе и Глебе». Братьям противопоставлен Святополк.
Борис и Глеб чужды мыслям о земной славе и могуществе. Святополк
охвачен жаждой безграничной власти. Борис и Глеб посвящают себя
Богу. Советник Святополка - дьявол. Противопоставление
«страстотерпцы / убийца» проводится во многих эпизодах сказания:
Борис в ночь перед убийством молится, а Святополк совещается с
боярами - исполнителями злодейского повеления. Ночной совет
Святополк проводит в Вышгороде, позже ставшем местом погребения
братьев и центром их почитания. Сцены убиения Бориса и Глеба
далеки от правдоподобия. Святые братья произносят пространные
молитвы, обращенные к умершему отцу, к брату-убийце и к Богу.
Посланцы Святополка не прерывают этих молитв-плачей и убивают
будущих святых, когда те прекращают молиться. |
|
|
|
|
|
Миниатюра из Сильвестровского сборника (XIV в.) к «Сказанию о Борисе и Глебе» представляет Христа и братьев, поясняя надписью: «Христос подаст венцы Борису и Глебу». |
Расчистка леса («Житие Сергия Радонежского»). |
ДРУГАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ АГИОГРАФИИ - преподобнические жития — была унаследована древнерусской литературой от Византии. Преподобнические жития повествовали о жизни преподобных — святых-монахов. Древнейшее произведение этого типа — «Житие Феодосия Печерского» (1080-е или после 1108) Нестора. Житие имеет традиционную трехчастную структуру: вступление, повествование о жизни святого от рождения до кончины, рассказ о посмертных чудесах. В начале жития описываются три попытки Феодосия покинуть материнский дом и посвятить себя Богу. В роли «противника» святого выступает родная мать, из безумной любви и по внушению дьявола удерживающая святого. Неведомо для себя самой она исполняет волю Божию, препятствуя сыну удалиться из Руси на Святую землю — в Палестину. Бог предназначал Феодосию стать одним из основателей Киево-Печерского монастыря. Только третья попытка ухода от матери оказалась успешной. Ряд самостоятельных, сюжетно не связанных между собой эпизодов повествует о Феодосии — монахе и позднее игумене (настоятеле) Киево-Печерского монастыря. Характерные черты Феодосия — полная посвященность собственной жизни Богу и уверенность в Божией помощи; отказ от забот о телесных и хозяйственных нуждах; смирение, почти граничащее с юродством; радостное исполнение тяжелых работ и обличение грехов.
В конце XIV и в начале XV вв, монах Епифаний, прозванный Премудрым, написал два жития — «Житие Стефана Пермского» (крестителя и первого епископа в Пермской земле) и «Житие Сергия Радонежского». «Житие Сергия Радонежского» сохранилось в более поздних переделках. Епифаний назвал свой стиль «плетением словес». Отличительная черта «плетения словес» — интерес к форме слова, обильное использование созвучий, словесных повторов, развернутых метафор и сравнений. Это необычайно торжественный и пышный стиль. Написанные Епифанием жития чрезвычайно велики. В них множество цитат из Библии (340 цитат в «Житии Стефана Пермского»), которые составляют целые цепочки. Он виртуозно обыгрывает созвучия слов, в частности окончаний (напоминающих рифмы). Епифаний переплетает метафоры и сравнения, нанизывает одинаково построенные предложения. Часто он выстраивает длинные ряды слов-синонимов (иногда по нескольку десятков).
СВЕТСКИХ ЖИЗНЕОПИСАНИЙ ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА не знала. В ней встречаются повествования о князьях-воинах, но эти князья изображаются как святые. Во второй половине XIII в. было создано житие новгородского и великого владимирского князя Александра Ярославина (Невского). В нем соединены черты воинской повести (описание боевых побед и мужества Александра и его дружинников) и рассказ о благочестивости князя. В XIV столетии было создано житие псковского князя Довмонта (после крещения — Тимофея), выходца из Литвы. В нем описываются победы князя и псковичей над немецкими рыцарями. По стилю житие напоминает летописные повествования о битвах. Однако это житие необычное.
Княжеские жития существуют и в других средневековых славянских литературах — в сербской, болгарской. Есть подобные жития западноевропейских святых правителей — английских, норвежских и др.
В XV - XVI вв. появляются жития легендарного характера, в которых содержатся необычные повороты событий, неожиданно переосмысленные фольклорные сюжеты и мотивы. Такова «Повесть о Петре и Февронии муромских», написанная в середине XVI в. Ермолаем Прегрешным (в монашестве — Еразм).
Интересными были сочинения древнерусской литературы, написанные в жанре хождения (от ходить — путешествовать). Одним из наиболее читаемых и любимых в Древней Руси хождений было «Хождение игумена Даниила». Игумен Даниил посетил Палестину в 1106 - 1107 гг. Даниил сначала перечисляет города, которые должны пройти паломники на пути из Константинополя в Иерусалим, указывает расстояния между ними. В центре повествования — рассказ об Иерусалиме: о расположении города, форме его стен, климате, чудесной урожайности земель. «Хождение...» Даниила сохранилось более чем в 150 списках XV - XIX вв. Оно стало образцом, которому подражали позднейшие древнерусские книжники, составляя описания своих путешествий.
Необычное хождение было создано во второй половине XV в. По форме оно напоминает паломническое путешествие: рассказ ведется от первого лица, повествование разделено на ряд самостоятельных эпизодов-описаний. Как и авторы паломнических хождений, составитель этого произведения («Хождение за три моря») указывает расстояния между городами, которые он посетил. Но автор отправился в путешествие не с благочестивыми религиозными намерениями, а с целью торговли. Он оказался не на православной земле, а в Индии, где жили иноверцы, исповедующие ислам, буддизм и индуизм.
Путешественником был Афанасий Никитин, посетивший Индию предположительно в 1471 - 1474 гг.
|
Герой «Моления Даниила Заточника»
восхваляет мудрость, могущество и красоту князя, прибегая к
пышным метафорам из библейской книги «Песнь Песней»: «Княже мой,
господине! Покажи мне лицо свое, ибо голос твой сладок и образ
твой прекрасен; мед источают уста твои, и дар твой как плод
райский». Даниил выразительно живописует свои бедствия: «Когда
услаждаешься многими яствами, меня вспомни, хлеб сухой жующего:
или когда пьешь сладкое питье, вспомни меня, теплую воду пьющего
в укрытом от ветра месте; когда же лежишь на мягкой постели под
собольими одеялами, меня вспомни, под одним платком лежащего, и
от стужи оцепеневшего, и каплями дождевыми, как стрелами, до
самого сердца пронзаемого» (пер. Д. С. Лихачева). |
|
|
|
|
|
Буквица из новгородской рукописи XIV в. в виде писца - непосредственного мастера-исполнителя предлагаемого читателю текста. |
|
УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ древнерусской словесности «Моление Даниила Заточника» не вызывает сомнений в своей подлинности, но точное время его написания неизвестно. «Моление...» сохранилось в двух версиях. Текст одной редакции носит название «Слово Даниила Заточника» и обращен к князю Ярославу Владимировичу, жившему в конце XII в. Второй текст, названный «Моление...», адресован Ярославу Всеволодовичу, княжившему в первой половине XIII в. «Моление...» — послание-прошение автора к князю с просьбой о прощении и облегчении тяжелой участи. «Моление...» содержит пространный набор изречений о судьбе глупых и мудрых, о злых женах. Автор стремится выказать свои знания, обильно цитируя не только Библию, но и другие переводные произведения.
Исследователи спорят о том, что же такое «Моление...» — действительное прошение несчастливца, разоренного боярами и даже заточенного в темницу, или шутливое, комическое произведение, в котором пародируется жанр просительного послания и шутливо переосмыслены библейские цитаты. Слишком неуместны и чрезмерны восхваления из «Песни Песней», примененные к князю; вызывают улыбку и смех пословицы о злых женах. В византийской литературе существовали пародийные, комические прошения. Но в древнерусской словесности такой жанр неизвестен.
Наряду с произведениями устойчивого жанрового характера — памятниками церковного красноречия, житиями, хождениями — в древнерусской литературе известны сочинения уникальной жанровой природы, смысл которых остается во многом неясным. Самое известное из них — «Слово о полку Игореве», посвященное неудачному походу на тюркское племя половцев новгород-северского князя Игоря Святославича в 1185 г. (слово «полк» означает «поход»). Впервые оно было издано в 1800 г., а в 1812 г. единственная рукопись погибла в пожаре, когда войска французского императора Наполеона заняли Москву. Некоторые исследователи считают «Слово о полку Игореве» подделкой XVIII в.: оно непохоже на древнерусские произведения, повествующие о битвах.
 |
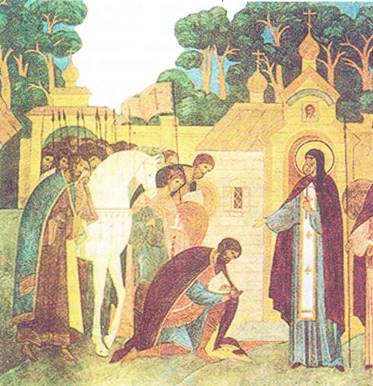 |
|
Пришествие и брань Батыева на Руси. Древнерусская миниатюра. |
|
В XIV - XV ВВ. в древнерусской литературе складывается жанр воинская повесть. В них описывались битвы между русскими и иноплеменниками. Первой воинской повестью была, вероятно, «Повесть о разорении Рязани Батыем», написанная, скорее всего, в середине XIV в. и входящая в цикл сказаний о рязанской святыне — иконе Николы Заразского (Зарайского). Она описывает (не всегда исторически достоверно) завоевание Рязанской земли войсками монголо-татарского хана Батыя в 1237 г.
В XV в. была написана воинская повесть «Сказание о Мамаевом побоище», посвященная победе князя Дмитрия Донского над татарскими войсками Мамая на Куликовом поле (1380).
Основная тема повести — Божественная предопределенность победы над иноверцами. Перед битвой Дмитрий приходит в Троицкий монастырь к святому Сергию Радонежскому, и тот предрекает тяжелую победу, благословляя на битву и отправляя с ним двух воинов-монахов — Пересвета и Ослябю.
Между 1380 и 1393 гг. было создано еще одно произведение о Куликовской битве — «Задонщина».
«Задонщина» — сочетание славы князьям-победителям Дмитрию Донскому и Владимиру Андреевичу и всему русскому воинству с плачем по убитым в сражении.
Текст «Задонщины» во многих местах напоминает текст «Слова о полку Игореве». Но если в «Слове...» описывались зловещие приметы, предсказывающие поражение русских, то в «Задонщине» ликующая, радостная природа предвещает великую победу.
Большинство исследователей считают, что автор «Задонщины» намеренно подражал «Слову о полку Игореве», противопоставляя Куликовскую битву бесславному походу новгород-северского князя.
|
«Повесть о разорении Рязани...» начинается вызовом, который Батый бросает русскому князю Федору Юрьевичу, требуя для себя от рязанских князей их дочерей и жен. Федор дал хану дерзкий ответ и был убит; жена князя, узнав об этом, умертвила себя вместе с малолетним сыном. В повести соединены былинный мотив вызова, бросаемого иноплеменниками русскому князю, и житийный мотив гибели князя христианина от рук иноверцев. Центральный эпизод - мужественная гибель рязанцев, до последнего человека защищавших город. |
|
|
|
|
|
Буква за буквой, слово к слову, старательно и вдумчиво поверял свои мысли бумаге один из просвещеннейших людей своего времени библиофил и собиратель книг грозный царь Иван IV (копия с портрета, хранящегося в Копенгагене, и грамота царя). Личной печатью он заверял написанное. |
|
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ появились в русской литературе в XVI в. Вопросы о праведной и неправедной власти, о правильном устройстве государства и предназначении различных сословий, о соотношении религиозной веры и справедливого закона обсуждаются в многочисленных посланиях этого времени. В 1564 г. воевода русского царя Ивана Грозного князь Андрей Курбский, опасаясь безвинного наказания, бежал в Польшу. Он направил царю послание, в котором обвинил его в безвинных убийствах, упрекнул за отказ от совета с боярами и призвал Бога рассудить его с царем-злодеем на Страшном суде. Уязвленный Иван Грозный ответил боярину пространным посланием, в котором заявил, что волен казнить или жаловать любого из подданных, не давая другим в том отчета. Но упрек в тиранстве и нечестивости он отверг и в свою очередь грозил князю Божиим судом. Затем боярин написал еще два послания, а царь — еще одно. Стиль Грозного глубоко индивидуален, его нельзя спутать со слогом других древнерусских авторов.
Реформы Петра I начертали для русской культуры и словесности новый путь: восторжествовало светское, мирское искусство, образцов стали сочинения западноевропейских авторов.
Что бы ни случилось — войны и разорение родной земли, голод и болезни, праздники и победы, рождение и смерть правителей, наводнения и солнечные затмения, падения небесных тел и чудесные явления Богородицы, необычайные холода или жара и невиданные урожаи хлеба, удивительные изобретения или открытия мудрецов и ученых, — человек ощущает, что после прекращения его земного существования жизнь продолжится, но он сам и те события, очевидцем или участником которых он был, никогда более не повторятся. Желание остановить, удержать убегающее время могло быть одним из важных импульсов к описанию современности и составлению летописей.
|
Летопись - не художественное произведение в строгом смысле слова и не труд ученого-историка. Часто она играла роль юридического документа (на нее ссылались князья, споря о праве на власть). Так, в «Повесть временных лет» включены договоры русских князей с Византией, Некоторые ученые (например, И. Н. Данилевский) полагают, что летописи составлялись не для людей, а для Страшного суда, на котором Бог будет решать судьбы людей в конце мира: в летописи перечислялись грехи и заслуги правителей и народа. Летописец не истолковывал события, не искал их отдаленных причин, а просто описывал их. Все происходящее он объяснял волей Божией и рассматривал в свете Страшного суда. Внимание к причинным связям событий и их прагматическая (от греч. pragma - «дело», «польза») интерпретация усиливаются в позднем летописании. |
|
|
|
|
|
Святцы с пасхалией (XVI в.). |
Собор Святой Софии в Киево-Печерском монастыре. |
ЛЕТОПИСЬ — форма исторических сочинений древнерусской литературы. В таких сочинениях события излагаются по погодичному принципу — они объединены по годовым статьям. Их также называют погодными записями. Эти статьи, в которых объединялись сведения о событиях, произошедших в течение одного года, начинаются словами «В лето такое-то...» (лето в древнерусском языке означает «год»). Предполагают, что летописная форма развилась из пасхалий — таблиц для определения дня праздника Пасхи.
Перечень годов в них иногда сопровождался краткими записями о событиях прошлых лет. Летописи принципиально отличаются от известных в Древней Руси византийских хроник, откуда составители русских погодных записей заимствовали многочисленные сведения из всемирной истории.
В переводных византийских хрониках события были распределены не по годам, а по царствованиям императоров.
Летописцами были обычно монахи и княжеские или царские чиновники. Описание событий велось при монастырях, при дворах князей, царей и священнослужителей высшего сана — епископов и митрополитов.
Летописи делятся исследователями на общерусские и местные. В общерусских летописных сводах соединены известия о событиях, происходивших в самых разных княжествах. Составители местных летописей интересуются случаями, связанными только со своим городом или княжеством.
Почти все русские летописные тексты представляют собой своды — соединение нескольких текстов или известий из других источников более раннего времени.
Самые ранние дошедшие до нашего времени летописи относятся к рубежу XIII
- XIV вв. Но летописание велось на Руси и раньше. Вероятно, древнейшие летописи были созданы в XI в. Наибольшее признание получила гипотеза А.А. Шахматова, объясняющая возникновение и описывающая историю русского летописания XI — начала XII в. Ученый сопоставил сохранившиеся летописи. Благодаря текстологическому анализу им были обнаружены следы существования древнейших сводов. По его мнению, около 1037 г. был составлен Древнейший Киевский летописный свод, повествовавший о начале истории и о крещении Руси. Около 1073 г. в Киево-Печерском монастыре (вероятно, монахом Никоном) был закончен первый Киево-Печерский летописный свод. В 1093 - 1095 гг. на основе свода Никона был составлен второй Киево-Печерский свод (другое название — Начальный). В нем осуждались неразумие и слабость тогдашних князей, которым противопоставлялись прежние мудрые и могущественные правители Руси.В 1110 - 1113 гг. была завершена первая версия «Повести временных лет» — летописного свода, вобравшего многочисленные сведения по истории Руси: о войнах русских с Византийской империей, о призвании на Русь на княжение скандинавов Рюрика, Трувора и Синеуса, об истории Киево-Печерского монастыря, о княжеских преступлениях. Вероятный автор этой летописи — монах Киево-Печерского монастыря Нестор. В 1116 г. монахом Сильвестром ив 1117 - 1118 гг. неизвестным книжником из окружения князя Мстислава Владимировича текст «Повести временных лет» был переработан. Так возникли вторая и третья редакции «Повести временных лет». Вторая редакция дошла до нас в составе Лаврентьевской летописи (1377), а третья — в Ипатьевской летописи (XV в.).
Текстом «Повести временных лет» открываются древнерусские летописи XIV - XVI вв. Ее название обыкновенно переводится как «Повесть минувших лет». Существуют и другие толкования: «Повесть, в которой повествование распределено по годам» или «Повествование в отмеренных сроках», т. е. рассказ не о вечном, а о преходящем — кануне конца света и Страшного суда.
|
В Западной Европе жанр хроник сформировался раньше, чем летописание в Древней Руси. Русские летописи во многом сходны с западноевропейскими хрониками, в которых повествование обычно разбито на годовые статьи. Так, очень похожи некоторые предания и сказания о происхождении и древнейшей истории Руси и Чехии, запечатленные в «Повести временных лет» и «Чешской хронике» Козьмы Пражского (первая четверть XII в.). Однако это сходство объясняется одинаковыми представлениями об истории, а не влиянием западноевропейских хроник на древнерусское летописание. На Западе хроники велись на латинском языке, незнакомом древнерусским книжникам. Никаких свидетельств об интересе летописцев к западноевропейской хронографии и явных заимствований из латинских хроник не известно. |
||
|
|
|
|
|
Русская рать и татарское войско у р. Непрядвы (Лицевой летописный свод XVI в.). |
Страница «Всемирной хроники» X. Шеделя (1493). |
«Хроника» Георгия Амартола (список - Тверь, XIV в.) также содержала множество иллюстраций. |
Дальнейшим важным этапом в истории русского летописания было завершение в 1199 г. Киевского великокняжеского летописного свода, в состав которого вошли Киевская летопись, Свод южнорусского города Переяславля и Черниговская летопись. Киевский свод — перечень деяний великих киевских князей и их противников.
В 1212г. был создан Владимирский великокняжеский свод, в состав которого вошли более ранние владимирские летописи 1175 и 1189 - 1193 гг.
На юго-западе Руси в 1260 г. была составлена Галицкая летопись (от названия города Галича). Галицкий свод не был летописным текстом в собственном смысле слова: в нем не было годовой сетки (в сохранившемся тексте, включенном в состав Ипатьевской летописи, даты проставлены позднее). Спустя 30 лет, в 1290 г., был завершен другой летописный свод на юго-западе Руси — Волынская летопись (от названия города Владимира Волынского). Волынская летопись была присоединена к Галицкой и продолжила ее.
Одним из центров летописания после монголо-татарского нашествия стала Тверь, где в 1305 г. при дворе князя Михаила Ярославича был составлен первый Тверской летописный свод.
В начале XV в. центр летописания переместился в Москву. В Москве в 1408 г. по инициативе митрополита Киприана был создан первый Московский летописный свод. Он имел общерусский характер. Вслед за ним были созданы общерусские московские своды 1448, 1472 и 1479 гг.
ЛИТЕРАТУРА XVI В. тяготела к большим, монументальным формам, к обобщению материала более ранних летописей в пространных сводах. В 1520-х гг. началась работа при Московском великокняжеском дворе над самой обширной летописью, которая в науке получила название Никоновской. Финальным этапом в истории великокняжеского и царского летописания была наиболее официальная иллюстрированная редакция Никоновской летописи — Лицевой (т. е. иллюстрированный) летописный свод. Работа над ним велась в 1560-х или во второй половине 1570-х — начале 1580-х гг. В этой работе, по-видимому, лично участвовал первый русский царь Иван Грозный.
В XVII В. ЛЕТОПИСАНИЕ постепенно приходит в упадок. В летописи начинают включать откровенно недостоверный материал (об отношениях Олега Вещего и Кия, о близком родстве Олега и Юрия Долгорукого, об обстоятельствах основания Москвы Юрием Долгоруким и др.). Возникают новые, не летописные формы исторических сочинений. Тем не менее при патриаршем дворе летописи велись до самого конца столетия, а в некоторых местностях летописание сохранялось еще в XVIII в.
Летописные тексты имеют начало, но их концовка обычно условна: летописцу где-то надо поставить точку. Окончание летописи обычно приурочивается к каким-то знаменательным событиям: победе русского князя над врагами или вступлению на княжение, строительству соборов и городских укреплений и др. По замыслу летописцев, их повествование должно продолжаться, пока существует мир.
|
«Повесть временных лет» содержит много преданий. Например,
легенду о происхождении названия города Киева от имени князя
Кия, о княгине Ольге, хитроумно и жестоко мстящей племени
древлян за убийство своего мужа. Летописца интересуют известия о
прошлом Русской земли, о причинах наименования городов, холмов,
рек. В позднейших летописных сводах число преданий невелико. Они
находятся в части летописи, посвященной далекому прошлому. В их
состав включаются повествования о святых (например, рассказ от
1015 г. о братьях-князьях Борисе и Глебе, безропотно принявших
смерть от руки сводного брата Святополка). Во вторую Софийскую и
Львовскую летописи вошло «Хождение за три моря» Афанасия
Никитина.
Фрагмент памятной композиции «Тысячелетие крещения Руси». |
Для летописи важен принцип аналогии — переклички между событиями прошлого и настоящего. События настоящего мыслятся как эхо событий и деяний прошлого, прежде всего деяний и поступков, описанных в Библии. Убийство Святополком Бориса и Глеба летописец представляет как повторение и обновление первоубийства, совершенного Каином. Владимир Святославич — креститель Руси — сравнивается со святым Константином Великим, сделавшим христианство официальной религией Римской империи. Жанровое и стилистическое единство чуждо летописи. Летописи — произведения сложного жанрового состава. Самый простой элемент в летописном тексте — краткая погодная запись, лишь сообщающая о событии, но не описывающая его. В состав летописи также включатся предания, жизнеописания святых, напоминающие жития (иногда они могут включаться целиком), рассказы о сражениях (воинские повести), некрологи князей и др.
События в летописи — это главным образом перемещения в пространстве: походы и переезды, охватывающие огромные географические ареалы, в результате побед или поражений войска, переезды святых, приезды в результате приглашения князя и его отъезды по причине изгнания и т. д. Огромный событийный охват в летописи находится в видимой связи с отсутствием в ней ясной сюжетной линии. Изложение переходит от одних событий к другим, а вместе с тем из одного географического пункта в другой. В этом смешении известий из разных мест с полной отчетливостью выступает не только подъем религиозного мышления над действительностью, но и сознание единства Русской земли, единства, которое в политической сфере было в это время почти утрачено.
Русская земля летописи предстает перед читателем в виде средневековой географической карты, в которой города порой заменены их символами — храмами, где о Новгороде говорится как о Софии, о Чернигове как о Спасе и т. д., а летописец смотрит на страну словно сверху.
Традиция летописи прослеживается в русских исторических сочинениях XVIII - XIX вв. Ориентация на стиль летописи присутствует в «Истории государства Российского» (1816 - 1829) Н. М. Карамзина. В пародийных целях форма летописи использовалась А. С. Пушкиным («История села Горюхина», 1830) и М. Е. Салтыковым-Щедриным («История одного города», 1869 - 1870). Сходство с концепцией истории, присущей летописцам, характерно для исторических воззрений Л. Н. Толстого.
Древнерусская литература изображала примерно десять основных миров. Первый и главный изобразительный мир древнерусской литературы — это реальная земная действительность. Литература того времени была исключительно исторична: в летописях, хронографах, повестях и «хожениях». Но девять иных миров явственно фантастичны, заводят во внереальную или во внеземную жизнь. Средневековая литература пропитана фантастическим содержанием намного шире, чем литература нашего времени, в которой фантастика все-таки выделена в отдельный жанр.
Второй изобразительный мир древнерусской литературы раскрывал чудеса, происходившие в ветхозаветные и евангельские времена, а также позднее в различных странах, но особенно случающиеся на Руси, — явления ангелов или бесов, глас свыше, чудотворение от икон, внезапное исцеление болящих и др. Эти сюжеты встречались в огромном количестве памятников. При этом чудесное занимало небольшое место в обыденной земной жизни. Оно обычно сопровождало отдельного человека или нескольких человек и зачастую было заключено в узкие пределы какого-нибудь помещения. Рассказами о чудесах был заполнен, например, сборник историй о жизни монахов — «Киево-Печерский патерик».
В течение многих веков литература изображала земной мир, который в обязательном порядке, но «точечно» испещрен чудесами. Однако чудесное не растворялось в быту, оставаясь самостоятельным явлением. В наше время научно не обоснованные чудеса составляют мистическую литературу, но не допускаются в фантастику.
|
Апокриф о царе Соломоне и
странном существе Китоврасе сообщал, что последний выпивал три
колодца вина зараз; мог ходить только по прямой линии, не
считаясь с домами; предвидел несчастное будущее встречаемых
людей, а самого Соломона одним ударом своего крыла забросил «на
конец земли обетованной». |
|
|
|
|
|
По евангельскому преданию, в VI в. при византийском императоре
Константине и его матери царице Елене найден и исследован крест,
на котором был распят Иисус Христос. |
Лубок «Славное побоище царя Александра Македонского с царем Пором» (XVIII в.). |
Третий изобразительный мир древнерусской литературы — волшебный, сказочный. Он минимально религиозен, существует почти без вмешательства божественных сил, проявляется в земной жизни не в виде эпизодических вспышек, а как постоянная обстановка отдельных областей на земле. Это излюбленный мир древнерусских повестей и апокрифических (внеканонических) и псевдоисторических сочинений.
Среди них особенно фантастична «Александрия» — большое повествование о жизни, войнах и путешествиях Александра Македонского. Сказочно-волшебный — фольклорный — мир довольно поздно стал осваиваться литературной фантастикой нашего времени, и он не совсем освоен. В эпоху же Средневековья три изобразительных мира — реальности, чудес и волшебств — тесно сплелись и составили художественную основу древнерусской литературы, однако отнюдь не основу жанра фантастики.
Четвертый мир — изображение очень далеких, экзотических, полностью фантастических земель, людей и животных.
Первенство тут опять принадлежит «Александрии». Александр Македонский в своих походах дошел чуть ли не до края мира и встречал гигантских муравьев, каждый из которых мог ухватить коня и затащить его себе в гору. Гиганткие раки тоже хватали коней и ныряли с ними в море.
Из всех изобразительных миров географическая фантастика была ближе к современной, однако не стала непосредственной ее предшественницей. Древнерусские книжники словно бы стеснялись резких отклонений от жизненного правдоподобия или опасались подолгу толковать о столь малосимпатичных отдаленных землях и быстро возвращались к более привычной тематике: исторической, библейской, агиографической. Позднее, в русской книжности XVII в., фантастико-географические сведения уже проигрывали в авторитетности сравнительно с новыми, реально-фактографическими, суховатыми, в некоторой степени даже научными сообщениями из «Космографий».
В книжности Древней Руси устойчиво сохранялись только те миры, которые были связаны с христианским учением о конце света. Это пятый мир — описание земного рая, Эдема, в котором находились Адам и Ева и который после их изгнания продолжает оставаться где-то на земле. О нем повествовали большей частью апокрифы.
«Слово о трех монахах» рассказывало об иноках, отправившихся из Иерусалима на поиски земного рая. Любопытно, что в XIV в. один из новгородских архиепископов уверял, будто три новгородских корабля бурей заносило к раю — к высокой горе, на которой лазоревой краской нарисованы Иисус Христос с Богородицей, а из-за горы виден свет и доносится пение. Современная фантастика и фэнтези ищет подобие Эдема, но без ангелов и святых, в иных галактиках. Картины ада — шестой, инфернальный (от лат. inferno — «ад») мир. Его представляли в виде колоссальной подземной полости. Классическое его описание дано в апокрифе «Хождение Богородицы по мукам». Сейчас фантастика избегает изображать ад с его вечными муками и неучтожимостью человеческих тел.
|
Существовали сочинения, которые отваживались вплотную описать и сам земной рай. Таково апокрифическое «Хождение Агапия в рай». Этот монах попал-таки в Эдем: задремал на корабле, и Бог повелел перенести его через море. Очнувшийся Агапий от встреченного им Иисуса Христа узнал, что он в земном раю: стоят цветущие деревья с щебечущими на их ветвях птицами: в глубине сада от земли до небес возвышается стена, за которой свет - всемеро ярче земного и огромный крест; а рядом - одр и украшенный драгоценными камнями стол, на котором лежит белый хлеб; тут же вытекает райский источник и растет виноград с разноцветными гроздьями. |
||
|
|
|
|
|
Фрагмент иконы XVII в. «Райский сад». |
Икона XVI в. «Апокалипсис». |
Лубок XVIII в. Могучий богатырь Еруслан Лазаревич. |
Седьмой, самый идеализированный, но зато пустоватый и однообразный мир древнерусской литературы — изображение небес. Их насчитывали десять. Наиболее полный обзор небес содержала апокрифическая «Книга о тайнах Еноховых». Апокрифы понемногу разнообразили стерильный мир небес, как обычно, за счет мирового фольклора и странствующих книжных сюжетов. На первое небо поселяли людей с воловьими лицами и оленьими рогами, а на второе — гигантского змея. Третье небо, т. е. рай, превращался в чудесную страну с золотыми воротами, молочно-медовой рекой, золотыми кораблями, сверкающим городом на острове, а посреди города стоит царь Давид, держит гусли и поет на весь город. На пятое небо ставили «хранильницу» для сбора людских молитв, а на седьмое небо помещали книгу, куда записываются дела каждого человека. Подобные темы чужды современной фантастике.
Восьмой мир древнерусской книжности касался будущего. Это популярная тема современной фантастики; хотя древнерусские книжники еще не изобрели машину времени, но «предвидели» Страшный суд и «последние времена». В данной тематике апокрифы мало расходились, предпочитая повторять библейские пророчества и «Апокалипсис». Религиозные фантастические миры не получили развития в светской, научной фантастике.
Литература XVII в. добавила два принципиально новых изобразительных мира. Оба они восходили к фольклору, ибо уводили не в неведомые таинственные дали, а находились вроде бы по соседству с Русской землей. Еще один мир — девятый — богатырский. Он вполне типично изображен в «Повести о Еруслане Лазаревиче». Еруслан немного напоминает здоровенного доброго киборга из фантастики XX в.
Другой новый — десятый — мир литературы XVII в. — фантастико-саркастический. Образцом его изображения может служить «Сказание о роскошном житии и веселии», лукаво фантазирующее на тему богатства: где-то за Дунаем есть чудесные сытные места, фруктовые деревья сами наклоняются к человеку, птицы сами залетают в дома, предлагая себя в снедь, рыбы косяками плавают по дворам, бессчетные заморские корабли торгуют без пошлин. Оба этих фантастических мира отчасти приближались соответственно к утопии и антиутопии.
Раньше XVII столетие обычно рассматривалось или как позднее Возрождение, или как раннее Просвещение. Во французском литературоведении XVII век и прежде рассматривался как отдельная эпоха, названная эпохой рационализма, но такое определение ее, по сути, верное для Франции, где господствовал классицизм, не отражает содержания той же эпохи, например, в Испании, где на первый план вышла литература барокко. Причина в том, что этой стабильной эпохе одновременно присущи черты переходности, связанные с формированием нового метаязыка литературы: определяющее для прежних эпох значение жанров отходит на второй план, рождается система поэтик и соответствующих им направлений. Наряду с гуманистическим протореализмом (переходящим в так называемый «бытовой реализм») формируются первые художественные методы — барокко и классицизм.
|
Жизнь испанского поэта барокко
Луиса де Гонгоры-и-Арготе не отличалась особенной
оригинальностью. Родившийся и выросший в Кордове, где его отец
выполнял почетную миссию коррехидора (королевского чиновника,
исполнявшего судебные и административные функции), а мать была
фрейлиной, пятнадцати лет Гонгора отправился в Саламанкский
университет, где изучал право, танцы и фехтование. Принятию в
1585 г. духовного сана предшествовала череда любовных
приключений, незначительных или, напротив, досадных конфликтов.
Впрочем, уже в 1606 г. он стал королевским капелланом и жил в
Мадриде. Из возможных для дворянина поприщ - «церковь, море иль
дворец» - Гонгора выбрал церковь и дворец. Но основным его
предназначением стала поэзия. Его стиль и образная система
сочетали невообразимые гиперболы, сочные метафоры, старательные
бытоописательные зарисовки и живой разговорный ритм. |
|
|
|
|
|
Книга лирики Луиса де Гонгоры-и-Арготе. |
Рембрандт. |
ТЕРМИН «БАРОККО» принято возводить к португальскому слову
bагоссо, что означает «жемчужина неправильной формы». Это очень удачный образ для объяснения особенностей явления: жемчужина (безусловная эстетическая ценность), но неправильной формы (в отличие от гармоничного соотнесения всех частей в искусстве Ренессанса).Подобно ренессансной литературе литература барокко сохраняет монументальность, грандиозность художественной картины мира, но ее основой становится не представление о человеке-титане, «универсальном человеке» как мере всех вещей и о разворачивающемся по горизонтали огромном мире — поле его деятельности, а близкая к средневековой «вертикальная» концепция, согласно которой наверху — рай, внизу — ад, посередине — человек как некая точка, в которой сходятся борющиеся за него ангельские и сатанинские силы. В человеке они представлены в таком сложном сплетении, что не известно, какие силы восторжествуют в каждое конкретное мгновение. Более свободное авторское самовыражение приводит в искусстве барокко к выработке на основе привычных жанров их новых разновидностей.
Основная тенденция барочного стиля — переход от гармоничности форм искусства Ренессанса к формам дисгармоничным, что отражает разлад между миром и человеком. Подобно тому, как в архитектуре барокко существует стремление скрыть конструктивные детали, несущие опоры (S-образные стены, витые колонны и т. д.), в барочной литературе обнаруживается желание скрыть конструкцию текста: романы превращаются в бесформенные повествования, утяжеленные множеством вставных новелл; драмы строятся на предельно усложненной интриге, а в поэзии возникает игра с поэтическими формами. Эффект часто достигается за счет неожиданности, нарушения читательских ожиданий на всех уровнях текста. Ощущение унылости и безнадежности бытия неожиданно соединяется с сатирой, в изысканно-прекрасные образы вплетаются безобразные детали. Как правило, барокко считают «темным» стилем, труднодоступным для восприятия мало искушенными в искусстве людьми.
В отличие от классицизма, вслед за ренессансными гуманистами продолжившего поиски универсального идеала, барокко ищет национальные формы воплощения своей теории. В литературе возникают национальные разновидности барочной литературы. В Италии это маринизм (названный по имени поэта барокко Джамбаттиста Марино). В Испании барокко выступает в нескольких формах, прежде всего это гонгоризм (по имени поэта Луиса де Гонгоры-и-Арготе, отличавшегося «темным» стилем, в котором особо значима игра формой слов, порождающая множество неологизмов) и консептизм (от лат. concepto — «понятие»), Консептисты увлекались игрой не словами, а мыслями (сочинение Ф. Кеведо-и-Вильегаса «Книга обо всем и еще о многом другом», ок. 1630). Ирония сочеталась у консептистов с пессимизмом («Мы рождаемся, чтобы любить смерть и презирать жизнь», — повторял Кеведо).
|
В традициях Лопе де Вега
Кальдерон написал драму «Саламейский алькальд» (ок. 1645, опубл.
1651). Это типичная «драма чести», показывающая, как близок был
Кальдерон школе Лопе де Вега даже в зрелые годы. В ней
крестьянин Педро Креспо, избранный алькальдом Саламеи, судит
капитана королевской армии дона Альваро, обесчестившего его дочь
Исабелу, и казнит его. Король одобряет это решение, хотя Педро
Креспо превысил власть, и назначает его пожизненным алькальдом
Саламеи. Сюжет напоминает о событиях в драмах Лопе де Вега «Фуэнте
Овехуна» и «Саламейский алькальд». |
|
|
|
|
|
Хуан де Вальдес Леаль. |
Фрагмент картины Ж.-Б. Удри «Пять чувств». «Обоняние». (1749). |
КРУПНЕЙШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ БАРОККО в литературе Европы был испанец дон Педро Кальдерон де ла Барка Энао де ла Барреда-и-Рианьо. Кальдерон был тесно связан с традицией Лопе де Вега, начинал как представитель его школы. Он написал 120 комедий, 80 ауто (религиозно-аллергические одноактные драматические представления в Испании) и ряд других произведений. Все они были опубликованы при жизни автора. В 1651 г. Кальдерон принял сан священника. Он был создателем нового драматургического жанра — религиозно-философской драмы.
«Поклонение кресту» (1630) — один из самых ярких примеров этого жанра. Самая значительная религиозно-философская драма Кальдерона — «Жизнь есть сон» (1635). Философская идея обозначена в названии драмы. Ее раскрытию подчинены герои, символика, сюжет.
С уходом из литературы Кальдерона начинается закат культуры Испании.
ВО ФРАНЦИИ БАРОККО ярче всего воплотилось в прециозной литературе, которая пользовалась особой популярностью в аристократической среде, находившейся в оппозиции к королевской власти. Прециозный (от фр. precieux) — драгоценный, изысканный, жеманный; последнее негативное значение слово приобрело после критики прециозности Ж.-Б. Мольером). Прециозники хотели отгородиться от народа, «черни» особой культурой, изысканной манерой поведения. В «Большом словаре прециозниц» (1660) Сомез указывал: «Необходимо, чтобы прециозница говорила иначе, чем говорит народ, для того, чтобы ее мысли были понятны только тем, кто имеет ум более светлый, чем чернь».
Жанр пасторального (т. е. пастушеского) романа воплотил в себе характерные черты барокко в его французском варианте. Самым ярким образцом этого жанра стал роман Оноре д'Юрфе «Астрея» (1607 - 1619, последняя, пятая часть романа была написана секретарем д'Юрфе — Баро). В сравнительно простой сюжет о трепетной, безответной любви пастуха Селадона к прекрасной пастушке Астрее автор включил около 80 вставных эпизодов, придав роману барочную усложненность. Заповеди любви Селадона, во многом сходные с кодексом любви у трубадуров, стали очень популярными в прециозных салонах.
Наряду с пасторальным романом получил развитие галантно-героический роман, ярче всего представленный в творчестве писательницы и хозяйки одного из знаменитых прециозных салонов Мадлен де Скюдери. Ее многотомные романы, появившиеся в середине XVII в., привлекали прославлением подвигов, облаченных в галантную, изысканную форму. Если пасторальные романы уводили от ненавистной аристократам действительности в безоблачный мир пасторали, то галантно-героические романы возбуждали желание активно вмешаться в политику. Вот почему они пользовались успехом в среде фрондеров (от фр. fronder — «проявлять недовольство»). В годы Фронды (гражданской войны 1648 - 1653 гг. между сторонниками королевского абсолютизма и аристократами, стремившимися к независимости от короля) Скюдери выпустила 10 томов своего романа «Артамен, или Великий Кир» (1649 - 1653). Хотя в нем рассказывается о персидском царе Кире, никакого историзма в романе нельзя обнаружить. В нем повествуется о том, как Кир проник к своему врагу Киаксару под именем Артамена. Ему легко было бы расправиться с опасным противником, но он влюбляется в дочь Киаксара Мандану. После множества приключений и военных подвигов, окрашенных галантностью, Кир завоевывает руку и сердце Манданы, а Киаксар добровольно отдает ему свое царство. Так же, как у д'Юрфе, в романе множество вставных эпизодов, придающих ему барочную пестроту.
|
«Метафизическая школа» воплотила эстетику барокко в ее английском варианте. Выход из меланхолического (пессимистического, трагического) состояния метафизики находили в мистике и эротике. Поэтике школы присущи умозрительность, дисгармоничность, особого рода формализм, воплощенный в понятии «conceit» («концепт») - необычной, развернутой, усложненной метафоры. |
|
|
|
|
|
Ж.-Б. Мартан. «Капитуляция Гаррисона Гентского 12 марта 16/8 г.» |
Дж. Рейнольдс. «Портрет миссис Сиддонс в костюме музы Трагедии» (1784). |
В АНГЛИИ ключевым для литературы барокко стало понятие меланхолии (от греч. melas — «черный» и cholё — «желчь»; устаревшее название депрессии, происхождение которой древние греки объясняли самоотравлением организма «черной желчью»), которое разрабатывали Джон Донн и представители «метафизической школы» в поэзии (в группу входили Д. Герберт, Г. Воган, Р. Крэшоу и другие поэты). Меланхолия понималась ими и как мечтательность, печальная задумчивость, философичность, и как трагическое мироощущение.
Зачинатель «метафизической школы» Джон Донн — один из самых значительных английских поэтов. Он учился в Оксфордском и Кембриджском университетах, побывал в Италии и Испании. Став священником (с 1621 г. он был настоятелем собора Св. Павла в Лондоне), Донн прославился своими проповедями. Как поэт, Донн прошел путь от жизнерадостной ренессансной лирики (представленной сатирами, элегиями, эпиграммами раннего периода) к религиозно-философской поэзии. Как автор поэм «Путь души» (1601), «Анатомия мира» (1611), где утверждалась мысль бренности всего земного, он был достаточно признан при жизни, однако подлинное открытие Донна произошло после его смерти, когда в 1633 г. были опубликованы его стихотворения.
В одном из самых известных из них — «Прощание, запрещающее грусть» — есть ставший хрестоматийным пример метафизического концепта: поэт, расставаясь с возлюбленной, просит ее не грустить, поясняя, что души их все равно остаются вместе. Переводя идею в образ, Донн выбирает необычную развернутую метафору (концепт) из области науки, подчеркнуто прозаичную и поэтому создающую неожиданный поэтический эффект: души связаны, как ножки циркуля: «Как циркуля игла, дрожа, // Те будет озирать края, // Где кружится моя душа, // Не двигаясь, душа, твоя» (пер. И. Бродского).
Помимо «метафизической школы» в Англии примерно в то же время сложилась «Каролингская школа» — наследница традиции ренессансной поэзии и одновременно еще одна английская модификация барокко. Ее название происходит от латинизированного имени короля Карла I. В нее входили поэты-«кавалеры», сторонники короля, создававшие придворно-аристократическую поэзию, напоминающую прециозную литературу Франции. В ней широко представлены анакреонтические и пасторальные мотивы, царит мирное веселье, воспеваются природа, красота, уют.
Одним из выдающихся событий истории европейской культуры XVII в. стало формирование испанской национальной драмы. В стране, где грамотной была ничтожная доля населения, драма стала главным средством приобщения людей к культурным ценностям. Ее появление подготовлено испанскими драматургами эпохи Возрождения, а основателем по праву считается Лопе де Вега. Драматурги школы Лопе де Вега, стараясь не отстать от учителя, написали сотни произведений. Испанская национальная драма в равной мере обязана культуре Ренессанса и барокко, ее последним великим представителем стал Кальдерон.
|
В трактате Лопе де Вега исходным
становится принцип правдоподобия: «Необходимо избегать всего //
Невероятного: предмет искусства - // Правдоподобное».
Особенностями зрительского восприятия объясняет Лопе де Вега и
отказ от следования законам «ученой комедии», на которых
настаивали представители испанского академизма: «Порой особенно
бывает любо // То, что законы нарушает грубо» (пер. О. Румера).
И писатель отрицает пресловутое триединство, предлагает свободно
смешивать в одном произведении комическое и трагическое (слово
«комедия» для него обозначает лишь пьесу со счастливым финалом).
Он страстно отстаивал необходимость разделения пьес не на пять
(как требовали академисты), а на три акта (по-испански - хорнады),
ведь испанские зрители привыкли именно к такой форме
представления. Особое значение придавал построению искусной
интриги: действия с непредсказуемыми поворотами событий, так как
только сюжет, основанный на интриге, может удержать внимание
зрителей. |
|
Картина Веласкеса «Сдача Бреды» (ок. 1643) могла быть написана по мотивам «Осады Бреды» (1625) Кальдерона. |
МАНИФЕСТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДРАМЫ стал поэтический трактат Лопе де Вега «Новое руководство к сочинению комедий» (1609). В нем, в отличие от трактатов по поэтике того времени, автор ориентируется не на некие абсолютные правила искусства, а на зрительское восприятие, «приказ черни».
Проникновение в испанскую национальную драму религиозных
мотивов, принципов искусства барокко и одновременно формирование
классицизма прослеживается г творчестве представителей школы Лопе де
Вега. Наиболее близок учителю Гильен де Кастро, соперничавший с ним в
завоевании зрителя огромным количеством пьес, но отставший и по
количеству (около 400), и по качеству произведений, из которых особо
выделяется только двухчастная хроника «Юность Сида» (1618), давшая сюжет
французу П. Корнелю для «Сида» (1637) — первой великой классицистической
трагедии. Сближение с классицизмом отмечается у Аларкона, с барокко — у
Тирсо де Молины.
Хуан Руис де Аларкон-и-Мендоса родился в Мексике. Этот драматург при
жизни не получил особого признания, был предметом нападок даже со
стороны Лопе де Вега, к школе которого его обычно относят. Но Аларкон
занимает в испанской и европейской драматургии одно из ключевых мест. Из
26 его пьес особенно значимы драма «Ткач из Сеговии» (1634) и комедия
«Сомнительная правда» (до 1619).
В своих произведениях Аларкон исходил из своеобразной и во многом новой концепции мира и человека. Он считал, что человек от природы добр. Его здоровое начало проявляется в жизненной энергии, активности (эта ренессансная мысль роднит Аларкона с Лопе де Вега). Но особенностью аларконовского подхода является то, что в его пьесах никогда не выводится «естественный человек», свободный от общества. Аларкон показывает в своих произведениях «нормальных» людей, сломленных обществом. Писатель утверждает: общество может исказить в человеке здоровое начало, любой талант. Фантазерство превращается в лживость, влюбленность приводит к воровству, высокое общественное положение — к черствости и деспотизму. В аларконовской концепции мира и человека большое место занимает проблема судьбы. Судьба у него — не рок, а отражение взаимоотношений героя с обществом, с окружающей действительностью. Она понимается как процесс становления человеческих характеров в борьбе с устоями общества. Поражение в этой борьбе — общая судьба человеческая, и в этом — ее предопределенность. Но при этом и человек не освобождается от ответственности. В рамках предопределенности есть свобода в выборе способа жизни — следовать ли предопределению или бросить вызов судьбе. Восстают против судьбы лишь сильные. Порочность объясняется в значительной мере слабостью героя. Однако Аларкон не стремился к утверждению титанической личности (в отличие от писателей эпохи Возрождения) опять-таки в связи с осмыслением конфликта человека и общества: или герой гибнет, или он достигает победы нечеловеческими усилиями.
Самое знаменитое произведение Аларкона — комедия «Сомнительная правда» (сюжет которой тоже был переработан П. Корнелем в комедии «Лгун», 1643). По сюжету: из Саламанки в Мадрид возвращается дон Гарсия, сын дона Бельтрана. Учитель дона Гарсии сообщает его отцу о том, что дон Гарсия обладает лишь одним недостатком — непрерывно сочиняет небылицы. Учитель уверяет, что дон Гарсия «в Мадриде примеры искренности видя, правдивым станет вскоре сам». Дон Бельтран горько смеется над легкой верой учителя: в Мадриде так много лицемеров и лжи, что даже самый правдивый человек, «всякой лжи заклятый враг», станет здесь обманщиком. Так оно и происходит с доном Гарсией. Познакомившись с хорошенькими доньей Хасинтой и доньей Лукресией, он начинает ухаживать за первой, вдохновенно ее обманывая, сообщая ей о своей давней пылкой страсти, о том, что он прибыл из Перу, и т. д. Слуга Тристан узнал имена девушек, но перепутал их, и теперь дон Гарсия считает Хасинту Лукресией. Отец же его, дон Бельтран, все уже устроил для брака сына с доньей Хасинтой. Узнав об этом (но путая имена), дон Гарсия снова лжет. Он сообщает отцу о том, что уже женат. Позже, поняв свою ошибку и окончательно запутавшись во лжи, он говорит о себе донье Хасинте чистую правду, но та, не поверив, уходит. «Увы! Как правда значит мало!» — восклицает убитый горем дон Гарсия, на что Тристан замечает: «Добавь, сеньор: в устах лжеца».
|
В драме Аларкона «Ткач из Сеговии»
дон Фернандо, переодевшись в ткача и скрывшись под именем Педро
Алонсо, мстит дону Хуану за своего отца, при этом попадая в
драматические, казалось бы, безвыходные ситуации. В духе
эстетики безобразного, развивавшейся представителями искусства
барокко, Аларкон рисует почти невозможные сцены. Оказавшись в
кандалах, Педро Алонсо, чтобы снять их и бежать из тюрьмы,
откусывает себе пальцы. Он организует банду, а когда попадает в
плен, то пережигает веревку, связывающую ему руки, на огне
ночника. Но очевидно, что такие нечеловеческие поступки
практически невозможны в реальном мире. Это понимал и Аларкон,
отсюда его пессимизм, который идет как от отрицания
благотворности любых связей между людьми, в том числе и любви,
так и от сознания беспомощности индивидуального протеста. |
|
Сюжет «Возвращенной Бразилии» (1625) Лопе де Вега стал основой картины «Отвоевание Бахии» (1635) Хуана Майно. |
Выявление писателем почти фатальной зависимости личности от обстоятельств (такие исключения, как герой драмы «Ткач из Сеговии» Педро Алонсо, лишь подтверждают правило) было шагом вперед на пути развития реалистических тенденций от Возрождения к XVII и XVIII вв. Но здесь была и большая опасность уйти в беспросветный пессимизм, оплакивание беспомощности человека. Аларкон счастливо избег этой опасности. Он нашел универсальный способ преодоления власти рока — иронию, выступив первооткрывателем иронии в испанской драматургии XVII в.
Аларкон обнаружил зависимость личности от общества, и это позволило драматургу вскрыть некоторые механизмы становления характера. Но для него очевидна и известная свобода личности в рамках предопределенности, что позволило раскрыть особенности поведения человека в конкретный момент. Эти выводы приводят Аларкона к заострению внимания на характере героя. Здесь наиболее ощутимо новаторство испанского драматурга, суть которого можно сформулировать так: характер определяется обстоятельствами, судьбой, но сам он определяет ситуацию. Аларкон переносит центр тяжести с действия и интриги на характер. Характер определяет события пьесы, которые служат для его раскрытия. С героем происходят не случайные, не любые события, а только те, которые соответствуют его характеру. Отсюда такая особенность произведений Аларкона, как известная предугадываемость сюжета. Это противоречит требованиям школы Лопе де Вега. Аларкон отходит от традиций этой школы и сближается с классицизмом (см. Классицизм). Перенос драматической нагрузки с действия на характер в корне меняет эстетическую основу драматического действия, что происходило одновременно с открытием нового типа характера. Падение нравов, попрание элементарных норм общечеловеческой морали, извращение законов чести, благородства, бездуховность, бескрылость жизни испанской аристократии — вот круг проблем, разрабатываемых в драматургии Аларконом. Художественный метод Аларкона противоречив: писатель оказался на перекрестке реалистических, барочных и классицистических тенденций. Он заложил основы классицистической комедии нравов, оказал влияние на драматургию барокко (см. Литература западноевропейского барокко), открыл одним из первых закон зависимости личности от общества. Этим объясняется ключевое место Аларкона в литературе XVII в.
Классицизм — термин, обозначающий определенное направление, метод и стиль в искусстве. Термин образован от латинского слова classicus — «образцовый». Классицисты стремились подражать образцам античного искусства, следовали нормам, изложенным античными теоретиками искусства (прежде всего Аристотелем и Горацием). Классицизм поражает гражданственностью, масштабностью, торжественностью, гармоничностью форм. Среди великих классицистов — создатели трагедий Корнель и Расин, комедиограф Мольер, баснописец Лафонтен, создатель эпоса Нового времени Мильтон.
КЛАССИЦИЗМ как направление складывается на рубеже XVI - XVII вв. Истоки классицизма лежат в деятельности итальянской и отчасти испанской академических школ, а также объединения французских писателей «Плеяда», которые в эпоху позднего Возрождения обратились к античному искусству, стремясь найти в его гармоничных образах новую опору для испытавших глубокий кризис идей гуманизма .
ЦЕЛЬ ИСКУССТВА классицисты видели в познании истины, которая связана с идеалом прекрасного. Классицисты выдвигают метод его достижения, основываясь на трех центральных категориях своей эстетики: разум, образец, вкус. Все эти категории считались объективными критериями художественности. С точки зрения классицистов, великие произведения — плод не таланта, не вдохновения, не художественной фантазии, а упорного следования велениям разума, изучения классических произведений древности и знания правил вкуса. Таким образом, классицисты сближают художественную деятельность с научной. Вот почему для них оказался приемлемым философский рационалистический метод французского философа Рене Декарта (1596 - 1650), ставший основой художественного познания в классицизме.
|
Декарт утверждал, что разум
человека обладает врожденными идеями, истинность которых не
вызывает сомнений. И если от этих истин переходить к
недоказанным и более сложным положениям, расчленяя их на
простые, последовательно переходя от известного к неизвестному,
не допуская при этом логических пропусков, то можно разрешить
любую проблему. Так разум становится центральным понятием
философии рационализма, а затем и искусства классицизма. Это
имело большое значение в борьбе с религиозными представлениями о
ничтожности человека. Слабой же стороной такого мировоззрения
было то, что мир казался неподвижным, сознание и идеал
неизменяемыми. |
|
|
|
Строгая перспектива, инженерная, фотографическая точность прославили видовые картины Д. Каналетто (1697 - 1768). |
ВТОРАЯ важнейшая категория классицистического метода — образец. Классицисты считали, что эстетический идеал вечен и во все времена одинаков, но лишь в античности он был воплощен в искусстве с наибольшей полнотой. Поэтому, чтобы вновь воспроизвести идеал, нужно обратиться к античному искусству и тщательно изучить его законы. Подражание образцам ценилось классицистами выше, чем оригинальное творчество. Обратившись к античности, классицисты тем самым отказались от подражания христианским образцам, продолжив борьбу гуманистов Возрождения за искусство, свободное от религиозной догматики.
КЛАССИЦИСТЫ провозгласили идею подражания природе, строго ограничивая право художника на фантазию. Искусство сблизилось с политической жизнью, его важнейшей задачей было объявлено воспитание подлинного гражданина своей страны. Поэтому в центре произведений классицизма оказываются проблемы, представляющие общенациональный интерес.
В искусстве классицизма внимание уделяется не частному, единичному, случайному, а общему, типическому. Поэтому характер героя в литературе не имеет индивидуальных черт, выступая как обобщение целого типа людей.
У классицистов характер — отличительное свойство, важнейшее качество, особенность того или иного человеческого типа. Принцип классицистической типизации приводит к резкому разделению героев на положительных и отрицательных, на серьезных и смешных. При этом смех все больше становится сатирическим, ибо в основном направляется именно на отрицательных персонажей.
КАТЕГОРИЯ РАЗУМА оказывается центральной и в формировании нового типа художественного конфликта, открытого классицизмом: конфликта между разумом, долгом перед государством — и чувством, личными потребностями, страстями. Как бы ни разрешался этот конфликт — победой разума и долга (как у Корнеля) или победой страстей (как у Расина), — только человек-гражданин, ставящий свой долг перед государством выше частной жизни, является идеалом классицистов.
Большое внимание уделяли классицисты теории жанра. Они руководствовались принципами иерархии (от греч. hier
ós — «священный» и archë — «власть»; расположение частей целого от низшего к высшему) жанров и чистоты жанров.Согласно принципу иерархии, есть жанры главные и неглавные. К середине XVII в. утвердилось мнение, что самым главным литературным жанром является трагедия (в архитектуре — дворец, в живописи — парадный портрет и т. д.). Проза считалась ниже поэзии, особенно художественная. Поэтому распространение получили такие прозаические жанры, как проповеди, письма, мемуары, как правило не рассчитанные на эстетическое восприятие, а художественная проза, в частности роман, оказывается в забвении («Принцесса Клевская», 1678, М. де Лафайет — счастливое исключение).
ПРИНЦИП ИЕРАРХИИ делит жанры также на «высокие» и «низкие», причем за жанрами закрепляются определенные художественные сферы. Так, за «высокими» жанрами (трагедия, ода и др.) закреплялась общегосударственная проблематика, в них могло говориться только о королях, полководцах, высшей знати. Язык этих произведений носил приподнятый, торжественный характер («высокий штиль»).
В «низких» жанрах (комедия, басня, сатира и т. д.) можно было касаться только частных проблем или абстрактных пороков (скупость, лицемерие, тщеславие и т. д.), выступающих как абсолютизированные частные черты человеческого характера. Героями в «низких» жанрах могли быть представители низов общества; выведение же знатных лиц допускалось лишь в исключительных случаях (тем выше можно оценить смелость Мольера, сделавшего постоянной комической фигурой образ маркиза). В языке таких произведений допускались грубости, двусмысленные намеки, игра слов («низкий штиль»). Использование слов «высокого штиля» носило здесь, как правило, пародийный характер. Классицисты требовали чистоты жанров, сообразуясь с принципами рационализма. Смешанные жанры, например трагикомедия, вытесняются. Этим наносится главный удар по способности того или иного жанра всесторонне отобразить действительность. Отныне только вся система жанров способна выразить многообразие жизни.
Нормативный характер классицистического метода был как раз той чертой, которая обусловила особенность этого метода, но впоследствии стала тормозом развития искусства. С нормативностью классицизма особо острую борьбу вели романтики и реалисты.
|
Классицизм - первая в европейской литературе стройная система принципов отражения действительности, которую можно определить как художественный метод. В предыдущие эпохи такие принципы объединялись в жанре, и каждый жанр выступал как особая система законов отражения жизни. Классицисты разрушили эту «особость», подчинив различные жанры своему методу. Но не все жанры, складывавшиеся веками, отвечали в полной мере требованиям классицизма. И тогда появился неизвестный литературе прежних времен принцип иерархии (т. е. соподчинения) жанров, утверждавший их неравенство. Этот принцип хорошо согласовывался с идеологией абсолютизма, уподоблявшей общество пирамиде, на вершине которой стоит король, а также с философией рационализма, требовавшей ясности, простоты, системности в подходе к любому явлению. |
|
|
|
Н. Пуссен. «Танкред и Эрминия» (ок. 1635). Эрминия, дочь царя Антиохии, и ее оруженосец Вафрино оказывают помощь раненному в бою с Аргантом Танкреду (по сюжету поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим»). |
ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ ФРАНЦУЗСКОГО КЛАССИЦИЗМА считается Ф. Малерб, крупнейшими представителями — драматурги П. Корнель, Ж. Расин, Мольер, баснописец Ж. де Лафонтен, теоретик искусства Н. Буало, некоторые прозаики, среди которых — Б. Паскаль, Ф. де Ларошфуко, М. де Лафайет.
Франсуа Малерб — французский поэт, родоначальник классицизма в литературе Франции. Он родился в дворянской семье. В ранней поэзии Малерба чувствуется влияние «Плеяды». Поэтические сочинения этого времени поначалу не были замечены. Положение изменилось в 1605 г., когда король Генрих IV назначил его камергером и своим придворным поэтом. При Людовике XIII Малерб получил пост казначея Франции.
Генрих IV стремился установить в стране режим абсолютной монархии. Малерб всецело поддерживал короля. Он воспел его в знаменитой «Оде королю Генриху Великому на счастливое и успешное окончание Седанского похода» (1606): «О король наш полновластный, безгранична мощь твоя!» В последнем известном своем произведении — «Оде на поход Людовика XIII для усмирения бунта в Ла-Рошели» (1628) Малерб воспевает короля Людовика XIII. Малерб во многом следовал за Ронсаром, он был лирическим поэтом, писал сонеты и песни. Но в отличие от Ронсара Малерб предпочитает не сонет или песню, а оду, которая стала благодаря поэту первым разработанным жанром классицизма.
|
Н. Пуссен. Царство Флоры (ок. 1631). Флора разбрасывает цветы вокруг. Нарцисс любуется своим отражением в кувшине с водой, который поддерживает нимфа. Аполлон в облаках правит колесницей, что привлекает внимание Клиции, прикрывающей свои глаза от слепящих лучей солнца.
|
Малерб определил круг тем оды (воспевание абсолютизма требует выбора больших тем, и поэт их находит в центральных политических событиях Франции), круг персонажей (короли и полководцы), композицию (порядок рассказа о событиях), язык.
Помимо оды Малерб разработал жанр стансов (от итал. stanza — «строфа»; букв, остановка), который он ввел во французскую литературу. Первым стихотворением, принесшим поэту известность, были стансы «Утешение господину Дюперье по случаю кончины его дочери» (1598 - 1599). В стансах каждая строфа несет в себе определенную законченную мысль.
|
Ф. Бруни. «Смерть Камиллы, сестры Горация».
|
Свои представления о том, что должен знать поэт, какие поэтические правила учитывать, Малерб изложил в трактате «Комментарии к Депорту» (1600). В этом трактате он подверг резкой критике поэзию Депорта, который был последователем Ронсара и других поэтов «Плеяды». Здесь же содержится первое изложение теории классицизма. Малерб выдвинул один из ведущих принципов классицизма — принцип ясности. Поэтическое произведение должно быть понятно каждому образованному человеку, а не только узкому кругу близких друзей поэта, в нем должно быть как можно меньше личного и как можно больше общезначимого. С этой целью нужно избегать образов, которые могут иметь не одно, а много толкований. Необходимо очистить поэтический язык от латинизмов, затемняющих смысл произведения. С этих позиций Малерб критиковал «темный стиль» Ронсара. Не принимал он и использование Ронсаром просторечных слов, диалектизмов и т. д. Принцип ясности лежит в основе многих частных требований Малерба к поэзии. Во имя ясности поэт должен уметь уложить каждую мысль в отдельную строку и не разрывать ее переносом конца мысли в следующую строку. Малерб был против поэтической игры рифмами. Поэзия должна обращаться к разуму. Она не развлекает, а поучает. Малербовское требование ясности было ранней формой рационализма — основы художественного метода классицизма. С ним соотносятся принцип строгости стиля, ряд поэтических правил.
Во Франции после Малерба классицизм был признан и получил мощное развитие, в других странах его позиции были скромнее.
|
Пример позднего классицизма в живописи: Ж.-Л. Давид. «Коронация Наполеона I» (1805). |
В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ не сложилось столь представительного направления. Однако творчество крупнейшего английского поэта XVII в. Джона Мильтона может рассматриваться как пример английского классицизма (особенно его поздние поэмы). Мильтон родился в Лондоне, в семье нотариуса, формировался как личность под влиянием пуритан (от лат. purus — «чистый»; сторонники мирской простоты и отказа от роскоши, поборники строгих нравов; иногда употребляется как негативная или ироничная оценка — синоним слова «ханжество»): в семье, в школе Св. Павла, в Кембриджском университете. После окончания университета в 1632 г. Мильтон поселился в местечке Хортон, где начал литературную деятельность. Здесь он написал диптих «L'allegro» («Жизнерадостный») и «Il penseroso» («Задумчивый»), где живописал согласие чувств и разума, отдавая разуму пальму первенства. В 1638 - 1640 гг. Мильтон путешествует по Европе, в Италии его принимают как крупного поэта и ученого. Но весть о созыве парламента в Англии, начале революции заставляет его вернуться на родину и активно включиться в борьбу за обновление общества.
Второй период творчества Мильтона (1640 - 1660) связан прежде всего с публицистической деятельностью. Один за другим появляются трактаты и памфлеты «Учение о разводе» (1643), «Ареопагитика» (1644), где отстаивается свобода печати (но не для католиков), «О воспитании» (1644), где изложено учение о добродетели, проистекающей из «естественных законов». В трактате «Обязанности государей и правителей» (1649), написанном до казни Карла I, Мильтон привел исторические и юридические доказательства правомерности казни короля. Когда противники парламента выпустили «Королевский образ», сборник фальшивых документов, превращающих Карла в своего рода икону, Мильтон выпустил свой трактат «Иконоборец» (1649), где утверждал, что ложное милосердие к королю означает жестокость и преступление против народа.
С этого момента начинается настоящая война публицистов. В ответ на «Иконоборца» богослов Сальмазий (он же теоретик прециозности Сомез — см. Литература западноевропейского барокко) выпустил сочинение «Защита короля Карла I». Мильтон ответил «Защитой английского народа» (1650). Это произведение вызвало целый поток памфлетов как подписанных (А. Мор, дю Мулен, Бромголл, Роуленд), так и анонимных. В ответ Мильтон опубликовал «Вторую защиту английского народа» (1654). Когда нападки усилились, он выпустил трактат «В защиту себя» (1655). «Защиты» принесли Мильтону славу самого выдающегося публициста Европы.
|
В драматическом
произведении «Комус» (1637) Мильтон гармонично соединяет
ренессансную жизнерадостность и пуританские взгляды. Лесной дух
веселья и разгула Комус, окруженный феерической свитой из
полулюдей-полузверей, не может соблазнить заблудившуюся в лесу
добродетельную девушку, на защиту которой приходят ее братья,
руководимые Добрым Гением. «Комус» относится к жанру «маски».
Это распространенный в Англии жанр аллегорической пьесы по
мотивам античной мифологии в стихах, с музыкой и балетом,
предназначавшейся для представлений при дворе.
Ван Дейк. «Портрет английского короля Карла I» (ок. 1635). |
Мильтон был замечательным поэтом. В его стихах ощущается влияние классицистической эстетики. Так, в стихотворении «Шекспиру» Мильтон повторяет образ «Памятника» Горация: Шекспир воздвиг себе памятник выше и прочнее пирамид. Поэт сравнивает творчество Шекспира с современной литературой. В 1650-е гг. Мильтон написал 20 сонетов — выдающийся образец жанра. В сонете «Лорду-генералу Кромвелю» (1652) поэт, прославляя прошлые заслуги Кромвеля-воина, призывает его обратить внимание на опасности, с которыми надо бороться в мирное время: «Подвигов немало // Тебе свершить — победы мирных дней // Славнее битв» (пер. С. Протасьева). Одна из таких опасностей — корысть. Однако его призывы не были услышаны.
Мильтон замечает, что Кромвель, забыв о лозунгах революции, все более упивается властью и постепенно отходит от политической деятельности.
Последний период творчества Мильтона охватывает 1660 - 1674 гг. С поражением революции и началом Реставрации Стюартов для поэта наступает мрачное время. Он едва избегает казни и тюрьмы. В августе 1660 г. по указу короля публично сжигаются книги Мильтона «Иконоборец» и «Защита английского народа».
В этот период написаны самые знаменитые произведения писателя — поэмы «Потерянный рай» (1658 - 1667) и «Возвращенный рай» (1671), трагедия «Самсон-борец» (1671).
Поэма «Потерянный рай» (1658 - 1667) — эпос Нового времени, высшее достижение Мильтона. Поэма написана белым стихом, включает около 11 000 строк, разбитых на 12 песен. Сюжет взят из Библии (восстание Сатаны против Бога и низвержение его в ад, грехопадение Адама и Евы и изгнание их из рая), форма произведения ориентирована на античные образцы (Гомер, Вергилий), что позволяет говорить о художественном методе Мильтона как об английском варианте классицизма. В поэме есть параллели с «Божественной комедией» Данте, в обрисовке основных персонажей обнаруживаются черты эстетики барокко. Существует вполне обоснованное мнение, что Мильтон в поэме близок к ренессансному «христианскому гуманизму» Эразма Роттердамского и Т. Мора. Ветхозаветный миф, к которому обратился Мильтон, приобрел новое, необычное звучание, созвучное эпохе революционных потрясений.
Главное внимание писатели классицизма уделяли трагедии. Этот жанр почитался ими как «высокий». Образцами для классицистов стали трагедии древнегреческих драматургов Эсхила, Софокла и Еврипида, римского драматурга Сенеки. Античные мифы, эпизоды античной истории стали основным материалом для сюжетов классицистических трагедий. Опыт более поздних времен, трагедии Шекспира и Кальдерона они игнорировали (да и почти не знали). Только время поставило рядом с их именами имена величайших трагических поэтов классицизма Корнеля и Расина.
|
В средневековых мистериях, игравшихся от нескольких часов до нескольких дней, обычно изображалась вся история Вселенной от ее сотворения до грехопадения первых людей или другие огромные периоды библейской истории. Небольшая сцена изображала и землю, и небо, и ад. Требование единства места и времени изменило структуру драмы, ибо заставило драматургов показывать не все действие, а лишь его кульминацию, лишь саму катастрофу. Один принцип концентрации времени и места сменился другим. Однако, считая второй принцип более правдоподобным, классицисты ошибались, так как не учитывали еще особенностей восприятия искусства. Романтики, которые откроют субъективного зрителя, будут критиковать принцип единства времени и места именно за неправдоподобие. |
|
|
|
|
|
Пьер Корнель. «Сид». Сцена из спектакля. |
Многие публичные театры Франции в старину строились в залах для игры в мяч, подобных теннисным кортам. |
В ЖАНРЕ ТРАГЕДИИ законы, сформулированные классицистами, были наиболее строгими. Сюжет (исторический или легендарный, но правдоподобный) должен был воспроизводить античные времена, жизнь далеких государств (помимо Древней Греции и Рима — восточные страны), он должен был угадываться уже из названия, как идея — с первых строк. (Как писал Н. Буало в «Поэтическом искусстве», 1674, «уж с первых строк ясна должна быть пьесы суть».) Известность сюжета противостояла культу интриги, запутанного действия, она требовалась для утверждения логичности жизни, в которой закономерность торжествует над случайностью.
Особое место в теории трагедии занял принцип трех единств. Он был сформулирован в трудах итальянских и французских гуманистов XVI в. (Дж. Триссино, Ю. Ц. Скалигер и др.), опиравшихся на Аристотеля в борьбе со средневековым театром. Но только классицисты XVII в. (особенно Буало) возвели его в непререкаемый закон.
Единство действия требовало воспроизведения одного цельного и законченного действия, которое бы объединяло всех персонажей (побочные сюжетные линии в пьесе считались одним из нарушений этого единства). Единство времени сводилось к требованию уложить действие пьесы в одни сутки. Единство места выражалось в том, что действие всей пьесы должно было разворачиваться в одном месте (например, в одном дворце). Три единства первоначально вовсе не носили формального характера, отражали черту не стиля, а метода классицизма. В их основе лежит принцип правдоподобия — фундаментальный принцип классицизма, сложившийся в борьбе с традициями средневековой идеологии и культуры (см. Классицизм).
Первым великим трагическим поэтом классицизма по праву считают французского драматурга Пьера Корнеля, родившегося в Руане, в семье адвоката и получившего образование в иезуитской школе.
В 1636 г. Корнель написал трагедию (или, по его определению, трагикомедию) «Сид», которая стала первым великим произведением классицизма.
Сид по-арабски значит «господин». Это прозвище знаменитого испанского полководца XI в. Родриго Диаса, о котором рассказывается в «Песне о моем Сиде», поэме «Родриго» и множестве средневековых испанских романсов. Основной источник «Сида» Корнеля — двухчастная драма «Юность Сида» (ок. 1618) представителя школы Лопе де Вега испанца Гильена де Кастро (см. Испанская национальная драма). Корнель раскрывает новый конфликт — борьбу между долгом и чувством — через систему более конкретных конфликтов. Первый из них — конфликт между личными устремлениями и чувствами героев и долгом перед феодальной семьей, или фамильным долгом. Второй — конфликт между чувствами героя и долгом перед государством и королем. Третий конфликт — фамильного долга и долга перед государством. Эти конфликты раскрываются в определенной последовательности: сначала через образы Родриго и его возлюбленной Химены — первый, затем через образ инфанты (дочери короля), подавляющей свою любовь к Родриго во имя государственных интересов, — второй и, наконец, через образ короля Испании Фернандо — третий.
На основе раскрытия системы конфликтов строится сюжет.
Корнель создает характеры иначе, чем в искусстве Ренессанса и барокко. Им не свойственна многосторонность, кричащая конфликтность внутреннего мира, противоречивость в поведении. Характеры в «Сиде» не индивидуализированы. Не случайно избран такой сюжет, в котором одна и та же проблема встает перед несколькими персонажами, при этом все они решают ее одинаково.
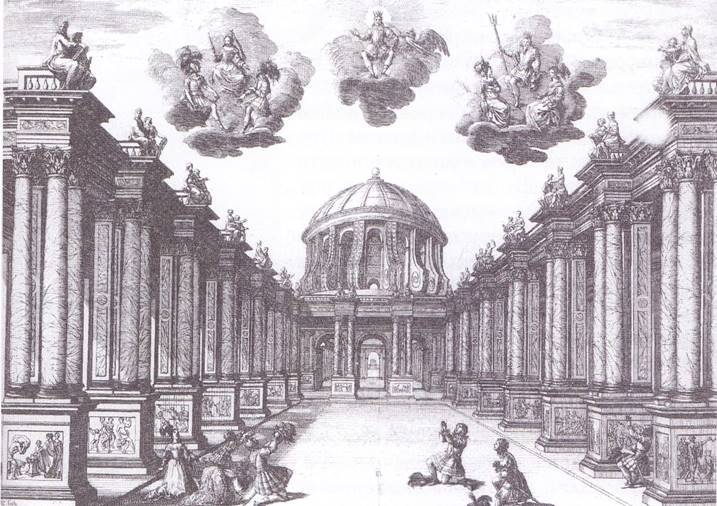 |
| Декорации в театре XVII в. обычно изображали условный дворец. Одни и те же декорации использовались для постановок разных пьес. |
Классицизму было свойственно под характером понимать какую-то одну черту, которая как бы подавляет все остальные. Действительно, в «Сиде» много отступлений от правил: сюжет взят из легенд средневековой Испании, а не из истории Древней Греции или Древнего Рима. Не выдержан принцип «чистоты жанра»: трагический конфликт находит счастливое разрешение, что выразилось в определении жанра пьесы, данном Корнелем, — «трагикомедия». Драматург на несколько часов превысил «единство времени». «Единство места» он понимает слишком широко, развернув события «Сида» в различных дворцах, а не в одном. Нарушено «единство действия»: образ инфанты не связан с основным действием. Не соблюдается и еще одно единство — стиха: включение стансов Сида разрушает неизменность александрийского стиха, которым было положено писать трагедии. Самый сильный упрек Корнелю заключался в том, что Химена в день гибели отца становится женой его убийцы. Следовательно, героиня чудовищно безнравственная, а произведение посвящено прославлению порока.
В период «первой манеры» Корнель разрабатывает новое понимание категории трагического. Аристотель, который был величайшим авторитетом для классицистов, связывал трагическое с катарсисом (от греч. katharsis — «очищение души через страх и сострадание»). Корнель в основу трагического кладет не чувство страха и сострадания, а чувство восхищения, которое охватывает зрителя при виде благородных, идеализированных героев, которые всегда умеют подчинить свои страсти требованиям долга, государственной необходимости.
Пьесы, написанные после 1643 г., принято относить ко «второй манере». Если трагедии Корнеля «первой манеры» заканчивались оптимистически, то во «второй манере» взгляд на действительность становится все более мрачным. Темой новых трагедий становится борьба за престол. Герои утрачивают благородство, они вызывают не восхищение, а ужас. Все больше сказывается влияние эстетики барокко. Сюжет утрачивает ясность, становится запутанным. В стиле все сильнее дает о себе знать влияние прециозной литературы.
|
Корнель отрицает отношение к любви как к темной, губительной страсти или к галантному, легкомысленному развлечению. Он борется с прециозным представлением о любви (см. Барокко), внося рационализм в эту сферу, освещая любовь глубоким гуманизмом. Любовь возможна, лишь если влюбленные уважают друг в друге благородную личность, поэтому любовь становится добродетелью наряду с самыми высокими гражданскими чувствами.
|
В СЕРЕДИНЕ XVII В. и особенно в первой половине 1660-х гг. трагедия переживала период временного кризиса. Именно в эту пору с особой силой раскрылся гений Мольера. Жанр комедии, хотя его по-прежнему считали «низким», занял ведущее место в искусстве. Трагедии Корнеля уже не пользуются прежней славой, а новые его произведения не поднимаются до уровня «Сида» и «Горация». Героическую трагедию Корнеля вытесняет «лирическая трагедия». В этой новой разновидности жанра нет места для общенациональных проблем, для споров о формах государственного правления, нет и героических характеров. Мельчают не только тематика, проблематика, идеи трагедии, но и их художественная форма. Центр тяжести переносится на проблемы личной жизни персонажей, на описание любви.
Корнель пережил свою славу. Среди его произведений «третьей манеры» (1659 - 1674) уже нет таких, которые можно было бы назвать художественным открытием.
Жан Расин — новый гений трагической поэзии — затмил имя Корнеля. Он родился в провинции, в семье, принадлежавшей к чиновничьей буржуазии. В трехлетием возрасте остался сиротой, обучался в школе при монастыре Пор-Рояль. Здесь он получил строгое религиозное воспитание и классическое образование.
Трагедия Расина «Андромаха» (пост. 1667, опубл. 1668) стала поворотным пунктом в истории французской классицистической трагедии. В этой трагедии впервые воплотились художественные идеи Расина. Сюжет взят из древнегреческого мифа о Троянской войне, но так обработан, что воплощает конфликт чувства и долга и идею «трагической вины» героев. Персонажи трагедии связаны между собой отношениями в соответствии со структурой пасторальных романов XVII в.: любовь каждого героя оказывается безответной. Но если в них действовали пастухи и пастушки, то в трагедии действуют властители, ответственные за судьбы своих народов. Это и позволяет раскрыть основной классицистический конфликт — борьбу между долгом и чувством. Каждый герой, которого Расин наделяет «трагической виной», погибает (сумасшествие Ореста рассматривается как его духовная смерть). Оставшаяся верной долгу Андромаха остается жить. Но, став царицей Эпира, она снова оказывается в несвободной ситуации. То, что началось компромиссом, им же и заканчивается: Андромаха должна теперь заботиться о народе, который участвовал в разгроме ее родной Трои и уничтожении ее жителей. В отличие от трагедий Корнеля в «Андромахе» нет светлого выхода.
Расин в десятилетие своего высшего творческого взлета написал очень значительные произведения. В трагедии «Британию) (пост. 1669, изд. 1670) драматург изобразил начало правления римского императора Нерона, который совершает свое первое преступление — отравляет соперника в любви Британика. Трагедия направлена против тирании. «Федра» (1677) стала одной из наиболее совершенных классицистических трагедий. Расин особенно высоко ценил эту трагедию, в которой, по его мнению, лучше всего осуществлены цели театра. Он снова прибегает к «трагической вине» как основе для развития и обрисовки характеров.
Внимание к человеку, качествам его личности, миру его чувств,
перенесение конфликта из внешней сферы во внутреннюю сказывается на
структуре расиновских трагедий.
Расин был наиболее значительным выразителем художественных основ
классицизма. Вот почему в эпоху романтизма, в начале XIX в., его имя
стало символизировать всю систему классицизма.
|
В истории Франции 1643 год,
обозначивший в драматургии Корнеля возникновение «второй
манеры», весьма важен. После смерти Ришелье (1642) начинается
полоса смут, мятежей, приближается Фронда. Корнель, посвятивший
свое творчество защите идеи единого и сильного государства,
основанного на мудрых законах и подчинении личных стремлений
каждого гражданина общественному долгу, ясно почувствовал, что
этот идеал становится все более неосуществимым в современной
писателю Франции. |
|
|
|
|
|
Актриса Рашель в роли Камиллы в трагедии Корнеля «Гораций». |
Жан Расин. |
ПОДЛИННЫМ СОЗДАТЕЛЕМ КЛАССИЦИСТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ стал великий французский драматург Мольер. К моменту начала его деятельности комедия влачила довольно жалкое существование. Она не могла касаться больших проблем, жизни господствующих сословий. Действительность изображалась в ней крайне поверхностно, условно и вульгарно. Широко использовались грубые шутки, неприличные ситуации. Предметом смеха часто становились пощечины, избиение палками. Комедия только развлекала. Столичная публика с презрением относилась к этому жанру. Но парижская театральная труппа могла рассчитывать на успех, только покорив аристократов, иначе ей не видать ни славы, ни денег.
Мольер — псевдоним Жана Батиста Поклена. Он родился в буржуазной
семье и должен был унаследовать профессию своего отца, придворного
обойщика. Но уже в детстве его увлекли театральные представления.
Начало театральной карьеры юного Поклена было неудачным. Вместе с
группой друзей он организовал «Блистательный театр», но труппа в конце
концов потерпела полный крах: уровень художественного мастерства почти
всех актеров был невысок, трагические роли у них не получались. Труппа
решила покинуть столицу, чтобы попытать счастья в провинции. Там она
находилась 12 лет. Сначала ее ждали серьезные неудачи. Публика не хотела
смотреть трагедии и предпочитала итальянских актеров, игравших
импровизированные комедии масок. Время вообще было неблагоприятно для
театральных представлений: в 1648 - 1653 гг. во Франции шла гражданская
война, получившая название Фронда. Мольер начинает понимать, как
итальянцам удается создать эффект импровизации, он записывает
понравившиеся ему остроты, схемы спектаклей и, наконец, решает
попробовать составить итальянцам конкуренцию на их поле, сочиняя схемы
первых импровизированных комедий для своей труппы: «Влюбленный доктор»,
«Три доктора-соперника», «Школьный учитель», «Летающий доктор»,
«Ревность Гро-Рене», «Гро-Рене — ученик» и т. д. Французская
провинциальная публика была покорена: мольеровские комедии оказались
ближе к французскому зрителю, чем итальянские.
|
В комедии Мольера «Смешные жеманницы» осмеиваются провинциалки Мадлон и Като, которые увлеклись прециозной культурой, мечтают об аристократической жизни. Они отвергли своих женихов Лагранжа и Дюкруази, не принадлежащих к аристократии и не владеющих тонкостями прециозности. Като говорит об этом: «Пристало ли нам принимать людей, которые в хорошем тоне ровно ничего не смыслят? Явиться на любовное свидание в чулках и панталонах одного цвета, без парика, в шляпе без перьев, в кафтане без лент!» Отвергнутые женихи решают отомстить девушкам и подсылают к ним своих слуг, Маскариля и Жодле, переодетых в аристократов. Слуги говорят очень вычурно (что так нравится девушкам) и вообще прекрасно справляются со своими ролями. Особенно блистает Маскариль, выдающий себя за маркиза (эту роль играл Мольер). Девушки увлечены мнимыми аристократами, но тут раскрывается правда, и отвергнутые женихи смеются над глупыми Мадлон и Като. |
|
|
|
|
|
На картине изображена сцена из итальянской комедии масок,
представленной в Париже труппой итальянских актеров - Джелози. |
Фарсовая сцена в изображении бродячих актеров (ок. 1540). |
В 1658 г. труппа Мольера вернулась в Париж. Первый сезон труппа играла репертуар, подготовленный в провинции (кстати, опять трагедии). Первой пьесой для нового театра стала одноактная комедия «Смешные жеманницы» (1659). Она имела огромный успех. Слово «прециозный» (от фр. precieux — «драгоценный», «изысканный» (см. Литература западноевропейского барокко), которое раньше произносилось с почтением, после комедии Мольера стало вызывать общий смех, приобрело новое значение: «жеманный». Несмотря на успех «Смешных жеманниц», труппа Мольера по-прежнему часто играет трагедии, хотя также без особого успеха. После ряда провалов Мольер приходит к смелой мысли. Трагедия привлекает возможностью поднять большие общественные, моральные проблемы, но она не приносит успеха, не близка зрителям Пале-Рояля. Комедия привлекает самого широкого зрителя, но в ней нет большого содержания. Значит, необходимо перенести моральную проблематику из трагедии с ее условными античными персонажами в комедию, изображающую современную жизнь обычных людей. Впервые эта идея была осуществлена в комедии «Школа мужей» (1661), за которой последовала еще более яркая комедия «Школа жен» (1662). В них поставлена проблема воспитания. Для ее раскрытия Мольер соединяет сюжеты французского фарса (от лат. farcio — «начиняю»; так, средневековые мистерии «начинялись» комедийными вставками; вид народного театра и словесности XIV - XVI вв.) и итальянской комедии масок (commedia dell'arte оформилась в XVI в. на основе народного театра карнавального типа, восходящего к древнеримской эпохе; основные маски «слуг» — Бригелла, Арлекин, Пульчинелла, Серветта, сатирические маски — Капитан, Панталоне, Доктор): он изображает опекунов, которые воспитывают оставшихся без родителей девушек, с тем чтобы впоследствии жениться на них. Так соединяется повествование о семейных проблемах, нередко подобных фарсу, и рассказ о любви, на пути которой стоят препятствия (типичный сюжет итальянских комедий), в единое целое, где за комической формой возникает серьезное содержание: исследование проблем воспитания и нравственности. Мольер выступает как сторонник свободного, разумного воспитания и нравственности, основанной на естественной привязанности. Он рассматривает изложенную им историю как «урок», «школу» воспитания зрителей (что отражено в заглавии).
На 1664 - 1670 гг. приходится высший расцвет творчества драматурга. Именно в эти годы он создает свои лучшие комедии: «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Скупой», «Мещанин во дворянстве».
У комедии Мольера «Тартюф, или Обманщик» (1664 - 1669) была самая трудная судьба. Лишь третий вариант «Тартюфа» был разрешен к представлению и опубликован. Основное внимание Мольер сосредоточил на создании характера Тартюфа и разоблачении его гнусной деятельности. У Мольера во многих комедиях люди из народа умнее, находчивее, энергичнее, талантливее своих господ. Для Органа Тартюф — верх всяких совершенств, для Дорины это «нищий, что сюда явился худ и бос», а теперь «мнит себя владыкой».
Повинуясь законам жанра, Мольер заканчивает комедию счастливой развязкой. Но Тартюф — не конкретный человек, а обобщенный образ, литературный тип, за ним стоят тысячи лицемеров. Король же, напротив, не тип, а единственный человек в государстве. Невозможно представить, чтобы он мог знать обо всех Тартюфах. Таким образом, трагикомический оттенок произведения не снимается его благополучной концовкой.
|
Мольер - классицист по способу отражения действительности в обобщенно-типических образах. Но этот драматург свободно относился к правилам и нормам, установленным в классицистических трактатах. «Люди должны быть представлены в комедии такими, каковы они на самом деле, чтобы в действующих лицах ее можно было бы узнать современное наше общество», - говорит Мольер и дальше заявляет, что если правила помогают этому, то они хороши, если же нет - то «не будем обращать на них внимания». |
|
|
|
|
|
Ведущие французские и итальянские комики XVII в. (ок. 1670). |
Гравюра слева показывает, что в «Школе жен» еще сохранялись уличные декорации, характерные еще во времена Плавта. Мольер - режиссер и постановщик - так же точен в сохранении декора и роскоши современных ему интерьеров в зажиточных домах. Это отражено и на гравюре к «Смешным жеманницам» (справа). |
Запрещение первого варианта «Тартюфа» в 1664 г. принесло труппе Мольера значительный ущерб: спектакль должен был стать главной премьерой года. Драматург срочно пишет новую комедию — «Дон Жуан». Законченная в 1664 г., она была поставлена в начале следующего года. Если вспомнить, что «Тартюф» 1664 г. — еще не тот великий «Тартюф», а трехактная пьеса, которую предстояло улучшать и шлифовать, то станет ясно, почему «Дон Жуан», появившийся позднее начального варианта «Тартюфа», считается первой великой комедией Мольера.
«Мизантроп» — наиболее яркий образец «высокой комедии». Это произведение совершенно по форме. В нем Мольер решил исследовать еще один порок — человеконенавистничество. Однако он не делает главного героя отрицательным персонажем. Наоборот, Альцест хочет сохранить в себе человеческое начало, но общество, в котором он живет, производит страшное впечатление. Если в «Тартюфе» трагикомическое начало прикрыто мнимо счастливой развязкой, то в последних словах Альцеста, покидающего Париж, слышатся даже не трагикомические, а драматические нотки. Вскоре после «Мизантропа» Мольер пишет комедию в прозе «Скупой» (1668). Последняя великая комедия Мольера — «Мещанин во дворянстве» (1670). Она написана в жанре «комедии-балета»: по указанию короля в нее нужно было включить танцы, в которых содержалась бы насмешка над турецкими церемониями. Мольер умело ввел танцевальные сцены в сюжет комедии, сохранив единство ее композиции.
Особенность мольеровского характера состоит в том, что тенденция, существующая в действительности, доводится до такой степени концентрации, что герой выбивается из рамок ее естественного, «разумного» порядка. Таковы Дон Жуан, Альцест, Гарпагон, Тартюф, Оргон — герой высшей честности и бесчестности, мученики благородных страстей и глупцы и т. д. Таков Журден, буржуа, решивший стать дворянином. Сорок лет он жил в своем мире, не знал никаких противоречий. Этот мир был гармоничен, потому что все в нем находилось на своих местах. Журден был достаточно умен, по-буржуазному сметлив. Стремление попасть в мир дворян, ставшее характером буржуа Журдена, разрушает гармоничный семейный порядок. Журден становится самодуром, тираном, препятствующим Клеонту жениться на любящей его Люсиль, дочери Журдена, только потому, что тот не дворянин. И в то же время он все больше похож на наивного ребенка, которого легко обмануть, играя на его дворянских пристрастиях.
Современники называли XVII столетие — время иноземных вторжений и мятежей, потрясших самые основы Русского государства, — «бунташным». Тогда Россия начала покидать сравнительно замкнутое пространство русского Средневековья. Конец века стал началом реформ Петра I, приведших к разрыву с древнерусской культурой. Противоречий была полна не только история, но и литература XVII в. Не случайно ученые до сих пор не пришли к единому мнению, считать ли XVII в. последним столетием древнерусской словесности или преддверием литературы Нового времени, особой эпохой в истории русской литературы.
Старое и новое причудливо уживаются и переплетаются друг с другом в русской культуре XVII столетия. В конце века молодой русский царь Петр I начинает преобразования, цель которых — распространение ценностей и принципов западноевропейской культуры. XVII век в русской литературе — время перехода от художественных традиций средневекового типа к принципам и приемам, характерным для европейских литератур Нового времени. В это время усилились светские, не религиозные черты литературы и произошли изменения более значительные, чем за несколько предыдущих столетий. Были предприняты первые попытки изображения сложного, противоречивого человеческого характера. Стали использоваться литературные жанры, ранее известные словесности других культур.
|
Переведенная с чешского языка
«Повесть о Брунцвике» рассказывает о приключениях князя
Брунцвика в фантастических землях. В переведенном с польского
языка романе «Петр Златые Ключи» (шлем рыцаря Петра украшен
золотыми ключами) описывается возвышенная любовь героя к
прекрасной «кралевне» Магилене. На основе переводных
произведений была создана оригинальная русская «Повесть о
Василии Златовласом, королевиче Чешской земли» (раньше ее
считали переводом с чешского). |
|
|
|
Гравюра на дереве «Славный рыцарь Петр Златые Ключи» и лубок XVIII в. «Королевна Дружиневна» (XVIII в.). |
Трагические события Смутного времени вызвали появление исторических сочинений, авторы которых попытались осмыслить недавние неурядицы и бедствия. Это «Сказание...» монаха Авраамия Палицына (закончено в 1620 г.), «Временник по седьмой тысящи от сотворения света во осьмой...» дьяка И. Тимофеева (1616
- 1619), «Словеса дней и царей и святителей московских» князя И. А. Хворостинина (до 1625) и написанная примерно в то же время «Летописная книга» (ее автором считается или князь И. М. Катырев-Ростовский, или князь С. И. Шаховской). В этих сочинениях не только выражается мысль о том, что все случившееся объясняется волей Божией и наказанием русских людей за их грехи. Такое, в духе провиденциализма, объяснение было характерно для древнерусских летописей (см. Летописи). В перечисленных произведениях события уже анализируются. Отмечаются роль и ответственность царей, полководцев, бояр и простых людей. Наряду с деяниями правителей воздается должное мужеству обыкновенных людей в борьбе с завоевателями. Авторы выражают личный взгляд на происходящее, описывают собственные впечатления и свое участие в событиях. В этих произведениях впервые в русской литературе намечается изображение неоднозначного, сложного характера человека. Таковы цари Иван Грозный, Борис Годунов и Лжедмитрий I (самозванец, выдававший себя за умершего царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного), описанные в «Летописной книге».В Смутное время широкое распространение получают видения. В них рассказывается о чудесном явлении Христа, Богоматери и святых русским людям, молящимся о спасении страны от врагов. Христос и святые обещают людям заступничество, если они покаются в совершенных грехах. Основной мотив видений — покаяние и молитва. Возрастает интерес к чудесному, сверхреальному, к общению простого человека с божественными силами. Размывание грани между повседневной жизнью и божественным потусторонним миром характерно для всей литературы этого столетия. Древнерусские книжники описывали чудесные, невероятные события и фантастические страны. Но и читатели, и они сами верили в подлинность того, о чем рассказывается. Вымысел не допускался: он считался «неполезным». Целью таких книг было назидание и религиозное воспитание. Но в XVII в. создаются первые русские произведения с вымышленными сюжетами и персонажами, зарождаются стихотворство и драматургия. Одними из первых произведений такого рода были «Повесть о Савве Грудцыне» и «Повесть о Горе-Злочастии». Впервые в русской литературе создаются произведения комические и пародийные.
В XVII в. распространяются переделки западноевропейских и восточных романов о невероятных приключениях и любовных историях героев. Среди них были «Повесть о Еруслане Лазаревиче» и «Повесть о Бове Королевиче». Первая «Повесть...» — переработка восточного сказания о богатыре Рустеме. Ее сюжет был использован А. С. Пушкиным в поэме «Руслан и Людмила» (1820). Во второй — вольном переводе французского рыцарского романа — герои преодолевают разнообразные препятствия. Ее стиль напоминает повествование русской волшебной сказки: персонажи живут в теремах златоверхих, тешатся соколиной охотой и соблюдают русские обычаи. Эти повести были лишены назидательности. Читателей привлекали необычайные приключения героев и их чувства. Любовь не осуждалась как греховное чувство, а вызывала читательское сопереживание.
|
В «Житии» Аввакума соединены
черты проповеди (отстаивание старой веры и обличение
последователей Никона) и исповеди (рассказ о своих слабостях и
сомнениях, чистосердечное описание собственных переживаний).
Стиль Аввакума непохож на спокойное и торжественное
повествование древнерусских житий. Автор то негодует, то горько
сожалеет и даже плачет, то удивляется. Он постоянно обращается к
воображаемым читателям, вопрошает и убеждает их. Главный
читатель и подразумеваемый собеседник Аввакума - Епифаний, его
духовный отец, вместе с которым он был заточен в темницу. Это
своеобразная беседа с единомышленником: «А еще сказать ли тебе,
старец, повесть?»; «Добро, старец, спаси Бог на милостыни! Полно
того». Автор назвал такую повествовательную манеру «вяканьем».
Чудеса в «Житии» имеют земной характер. Бог помогает протопопу в
повседневной жизни. В ссылке у семьи Аввакума была курочка,
которая несла каждый день по яичку, что для священника чудо.
Когда в Сибири Аввакум захотел пить, лед на озере расступился, и
он смог напиться. В тюрьме его посетил ангел и дал ему щец. |
|
Сильвестр Медведев (Симеон Агафонникович Медведев) работал справщиком (редактором) в Московском печатном дворе. В 1676 г. постригся в монахи. |
ВПЕРВЫЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ зарождается интерес к обыкновенному человеку и его повседневной жизни. Таково «Житие Иулиании Лазаревской» (называемое также «Повестью о Иулиании Осоргиной»). Для автора (сына Осоргиной — Дружины) Иулиания — святая, чьи заслуги заключаются не в подвиге отшельничества и монашеском отречении от мира, а в благочестивой жизни в миру, в заботах о домочадцах и слугах в тяжелые голодные годы Смутного времени.
Патриарх Никон изменил многие церковные обряды и внес исправления в богослужебные тексты — в 1650 - 1660-х гг. происходит раскол Русской церкви. Старообрядцы защищали древние традиции в богослужении. Однако в литературе они оказались новаторами. Два рьяных поборника старой веры — инок (монах) Епифаний и протопоп (священник) Аввакум создают сочинения, описывающие их собственную жизнь, называя их житиями. Прежде авторы, создававшие жития святых, повествовали о других людях: уподобление себя святым считалось великим грехом. Епифаний и Аввакум смело пренебрегают традицией. Оба ощущают постоянное присутствие Божиего провидения в своей судьбе и переживают свою жизнь как священное событие. Сам Христос является Епифанию, чтобы утешить его скорбь и укрепить в борьбе за истинную веру. Особенно решителен Аввакум. Он описывает свою жизнь от рождения до заточения как подвиг во имя христианской веры. Он постоянно сравнивает себя с апостолами — учениками Христа, с великими святыми и с самим Богочеловеком. Все в жизни Аввакума, описанной в его «Житии», приобретает религиозный, священный смысл. «Жития» Аввакума и Епифания стали первыми опытами автобиографии в русской литературе.
Смех в Древней Руси осуждался и считался кощунственным. Но в XVII в. впервые в русской литературе появляются комические и пародийные произведения. В них порой содержалась и сатира. Есть она и в «Калязинской челобитной», где осмеиваются пороки монахов, и в «Сказании о попе Савве», где обличается поп-взяточник, и в «Повести о Шемякином суде», где показан неправедный суд. Но все же преобладает смех иного рода. Изображается «неправильный», «перевернутый» мир. В нем все не так, как должно быть, все наоборот, и потому смешно.
Поэзии в собственном смысле слова в древнерусской литературе не было. Существовали ритмически упорядоченные тексты богослужебного назначения. Но они не читались «про себя» или вслух, как декламируется поэзия, а пелись в церкви. Подлинная поэзия — стихотворения для чтения — возникает только в XVII в. Русская литература заимствует из польской поэзии силлабический принцип стихосложения. Темами крупнейших русских поэтов — Симеона Полоцкого (выходца из Белоруссии) и его последователей и учеников Сильвестра Медведева и Кариона Истомина были похвала премудрости и прославление русских правителей и их семей. Симеон Полоцкий создал несколько рукописных книг, из которых наиболее известны «Вертоград многоцветный» (1678) и «Рифмологион, или Стихослов» (1679). Он перевел стихами одну из книг Библии — Псалтирь. Этот перевод, изданный в Москве в 1680 г., стал первой русской печатной стихотворной книгой. Она пользовалась известностью еще в следующем веке. «Псалтирь рифмотворная» Симеона Полоцкого повлияла на творчество М. В. Ломоносова. «Вертоград многоцветный» (вертоград — «сад») напоминает стихотворную энциклопедию. Тексты располагались в алфавитном порядке. В другой сборник — «Рифмологион...» — вошли стихотворения, прославляющие царя Алексея Михайловича, а также несколько пьес. Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев, Карион Истомин высоко ценили изощренную и причудливую литературную форму: использовались сложные и неожиданные метафоры, игра слов, составлялись стихотворения в форме солнца, звезды, архитектурного сооружения. Стиль этих поэтов называют русским барокко.
Актерская игра (лицедейство) в Древней Руси считалась бесовским занятием: человек, играющий чужую роль, вторгается в божественный миропорядок. В XVII в. были написаны первые русские пьесы. Сюжеты заимствовались из Библии и других церковных книг. Две пьесы на библейские сюжеты — «Комидия притчи о блуднем сыне» (слово «комидия» указывало не на сюжет со смешными ситуациями, а на «пьесу») и «О Навуходоносоре царе, о теле (тельце. — Прим. peд.) злате и о триех отроцех (отроках), в пещи не сожженных» — написал Симеон Полоцкий.
Барокко возникло в мире как следствие развития связей между народами, людьми и одновременно конфликтов между ними, «соударений», как говорили тогда. На смену средневековой убежденности и гармоничности Возрождения, обращенной идеалом в античность, пришло осознание временных интересов, необходимости разнообразных изменений в быту людей, стран и даже континентов.
|
Особенности русского барокко связаны, во-первых, с тем, что большинство русских барочных писателей были монахами: например, Симеон Полоцкий и его ученик Сильвестр Медведев. Драматург Димитрий Туптало, выходец из Украины, имел духовный сан архиепископа в Ростовской епархии. Интерес к развлекательности и любовные темы были им чужды. Во-вторых, литература барокко имела в России придворный характер, поэтам покровительствовали цари. Симеон Полоцкий был стихотворцем при дворе царя Алексея Михайловича и воспитателем его сыновей Алексея и Федора. Сильвестр Медведев был придворным поэтом царевны Софьи Алексеевны. |
||
|
|
|
|
|
Симеон Полоцкий. Гравюра начала XIX в. |
Симеон Полоцкий. Псалтирь в стихах. Гравюра на меди С. Ушакова (1686). |
Единство формы и содержания всегда было важным для художников слова. Поэты барокко представляли себе форму почти наглядно: даже в способе расположения букв текста. Например, в виде сердца, как в парадной рукописи «Орел Российский» Симеона Полоцкого (конец XVII в.). |
СТИЛЬ БАРОККО, господствовавший в западноевропейской литературе второй половины XVI — первой половины XVII в., с некоторым запозданием, во второй половине XVII в., распространяется в России. Образцами для древнерусских писателей были прежде всего произведения польских авторов: Польша граничила с Россией, и ее культура была известна русским лучше, чем культура других европейских стран. Крупнейший поэт русского барокко Симеон Полоцкий (Симеон — имя, данное ему при пострижении в монахи, в миру — Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович) был выходцем из Белоруссии; в 1664 г. он переселился в Москву. В России в отличие от Западной Европы барокко было первым литературным направлением и художественным стилем. Древнерусские книжники до XVII в. не относились к составленным ими текстам как к собственным сочинениям (см. Особенности древнерусской книжности). Они считали себя орудиями Бога: через них Создатель напоминал о вечных истинах. В западноевропейской традиции существовало понятие авторства и культивировалась художественная изобретательность. На Руси до XVII в. отсутствовало представление о художественном мастерстве как о самостоятельной ценности. Барочные писатели впервые в России осознают себя авторами. Они очень высоко ценят свое искусство, уподобляя себя, как и западноевропейские барочные литераторы, Богу — Творцу мира. Бога же они считают непревзойденным и совершенным автором.
Многие произведения западноевропейского барокко отличались мрачным, трагическим характером, в них господствовали пессимистические настроения — уныние, неуверенность в жизни, страх смерти.
В русском барокко эти чувства и мотивы выражены слабее; русское барокко имеет более праздничный и торжественный характер. Крупнейший исследователь древнерусской литературы академик Д. С. Лихачев отмечал, что в России барокко приобрело черты, которые в Западной Европе были присущи литературе Возрождения. Один из лейтмотивов западноевропейской барочной литературы — сомнения в возможностях человеческого разума, неверие в его силы. В России же барочные писатели выступали в роли просветителей, знакомящих пытливого читателя с сокровищами мировой культуры.
Рукописный поэтический сборник Симеона Полоцкого «Вертоград многоцветный» (1678) — огромная книга, в которой по алфавитному принципу расположены стихотворения, посвященные человеческим свойствам, явлениям природы. Ее читатели получали сведения о диковинных животных и драгоценных камнях, о событиях античной истории и о многом другом.
Число жанров, освоенных писателями барокко в России, намного меньше, чем в западноевропейском барокко. Одним из основных жанров барокко в Западной Европе (например, во Франции и Германии) был роман, а в России барочных романов не было. Произведения барокко в России — это драматургия и лирика. Во многом именно благодаря барочным поэтам в России сгладывается поэзия как самостоятельная часть словесности. В творчестве барочных стихотворцев формируется особая система стихосложения — силлабика. Русские барочные поэты XVII в. в отличие от западноевропейских стихотворцев не создавали любовных стихотворений, поэзия русского барокко состоит из нравоучительных стихотворений религиозного характера и из торжественных стихотворений, прославляющих русских правителей и членов царствующей династии. Барокко как самостоятельный стиль существовало в русской литературе до 1730 - 1740-х гг. Некоторые исследователи относят к литературе барокко и сочинения русских авторов середины XVIII — начала XIX в. М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина.
Выдающихся вершин в XVII в. достигла японская поэзия, давшая миру великого поэта Басе. Япония — загадочная страна, несколько веков она сопротивлялась проникновению европейцев, поэтому представления о японской литературе были в Европе крайне отрывочными и неточными. Но и до сих пор нам непросто понять строй мыслей и чувств далекого народа, хотя очарование и изысканность японской культуры завораживают и очевидны для всех.
К XVII в. в Японии сложилась могучая классическая поэтическая традиция, которую развивала школа Тэймон. Новая школа Данрин («Лес проповедей» — буддийский термин в шуточном смысле) широко использовала пародию. Поэты школы Данрин противопоставили изысканной технике классического стиха непосредственность чувств. Обе школы широко использовали жанры танка и хокку (см. также Восточное стихосложение).
В условиях литературной борьбы этих школ сформировалось творчество одного из величайших японских поэтов Басе (настоящее имя — Мацуо Мунэфуса. Он происходил из семьи небогатого самурая, учителя каллиграфии. Уже в юности увлекся китайской и японской поэзией, в 1664 г. опубликовал два первых своих стихотворения. В годы ученичества Басе работал в традиции сначала школы Тэймон, потом школы Данрин. В 1677 г. он стал профессиональным учителем поэзии. Один из учеников подарил ему маленький домик у пруда с банановыми пальмами — басе (отсюда псевдоним). К 40 годам (возраст первой старости, по представлениям японцев) поэт окончательно оформил свой стиль сефу («стиль Басе»), Он избрал жанр хокку. Басе возвел его в ранг серьезного жанра, ставшего ведущим в японской поэзии.
|
Жанр танка («короткая
песня») - излюбленный жанр классической японской поэзии. Образцы
танка появились еще в VIII в. (антология «Манъесю»). Танка -
нерифмованное пятистишие, строки которого включали 5, 7, 5, 7, 7
слогов. |
Басе был последователем дзэн-буддизма. В соответствии с философией этой разновидности буддизма истина постигается путем длительной медитации (от лат. meditatio — «размышление»), в результате которой возникает внезапное озарение: достаточно какой-нибудь внешне незначительной детали, на которой сосредоточено медитирование, как
вдруг весь мир постигается через интуитивную аналогию части и целого. Не наука с ее расчленением, анализом, а поэтическая способность через символ, намек передать ощущение целого соответствует такому способу восприятия мира. Принцип «саби» («печаль одиночества», которую ощущает поэт даже в гуще жизни), характерный для японской поэзии, Басе дополняет принципом «каруми» («легкость», предполагающая юмор, мудрость, стремление выражать философский взгляд на мир через самые простые вещи). Жанр хокку оказался идеальным для воплощения этих принципов (см. также Акмеизм). Басе работал над хокку очень долго, иногда несколько лет. Так, например, создавался хокку о вороне, первый вариант которого относится к 1680 г.: «На голой ветке // Ворон сидит одиноко. // Осенний вечер» (здесь и далее пер. В. Марковой). В это же время его выдающийся современник Ихара Сайкаку — поэт школы Данрин — мог написать в присущей школе шутливой манере 1000 строф в день.Создатель хокку может ощутить блаженство просто от вида зеленеющего рисового поля: «Какое блаженство! // Прохладное поле зеленого риса... // Воды журчанье...». Одушевленная природа не только благостна, она, как человек, бывает печальной, может быть опасной, нести в себе разрушение, бурю — и очищение, обновление. В природе жизнь сплетена со смертью, но даже увядание, разрушение вызывает у японских поэтов глубокое эстетические переживание.
После пожара в Эдо (1682), в котором сгорели домик Басе, поэт отправился путешествовать по Японии. Он написал пять путевых дневников, из которых самый знаменитый — «По тропинкам Севера» («Окуно хосомити», 1689). Смерть застала его в городе Осака, где он умер 12 октября 1694 г., окруженный учениками. Эти ученики сыграли большую роль в ознакомлении японцев, знающих грамоту, с сочинениями Басе. Они составили семь поэтических сборников учителя и своих собственных, которые выходили с 1684 («Фуюно хи» — «Зимние дни») до 1698 г. (посмертный сборник стихов Басе «Дзоку сарумино» — «Соломенный плащ обезьяны, книга вторая»). Сам поэт особенно выделял сборник «Нодзараси» («Заглохшее поле», 1689), где, по его мнению, с наибольшей силой выражено чувство «саби». Один из учеников, Хаттори Тохо, так охарактеризовал Басе: «Новизна — цвет поэзии. Старое не цветет, и деревья дряхлеют. Учитель изнурял себя до настоящей худобы в поисках новизны, и он дышал новизной. Он радовался всякому, кто хоть немного чуял ее, и поощрял его усердие. Если не искать упорно все изменчивое, не будет новизны. Новизна возникает, когда в Поисках поэтической правды приближаешься хоть на единый шаг к природе».
Самое показательное культурное явление XVIII столетия, давшее название эпохе, — Просвещение. Этот термин обозначает широкое идеологическое движение. «Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной воле», — писал немецкий философ Иммануил Кант и разъяснял далее: — его «причины заключаются не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude — имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения».
Обогащается и комедия (К. Гольдони, К. Гоцци, П.-О.-К. де Бомарше), получает развитие и ее новый тип — «слезная комедия», за которой последовало создание жанра драмы (Дидро, Лессинг).
Грандиозным культурным событием эпохи стало развитие жанра романа, разорвавшего путы классицистической эстетики. Самые передовые позиции здесь заняли английские писатели — Д. Дефо, Дж. Свифт, Г. Ричардсон, Г. Филдинг (см. Английский просветительский роман).
|
Первый образец «слезной комедии» - пьеса Нивеля де Лашоссе «Меланида» (1741), за которой последовала его же «Памела» (1743) по одноименному роману английского писателя Ричардсона, а потом множество других «слезных комедий». Комическое начало в них сменяется чувствительными, трогательными сценами. Персонажи таких комедий вызывали не только симпатии зрителей, но и даже сострадание. |
|
|
|
|
|
Ф. Друз. «Пасторальный концерт» (1760-е). |
Разум, мера и галантность наполняли все сферы жизни эпохи Просвещения. К этому стремились в моде, интерьере, дворцовопарковом искусстве, иногда в политике и даже в военном деле. |
КРУПНЕЙШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ просветительского классицизма был Вольтер (Voltaire — псевдоним, настоящее имя писателя — Мари Франсуа Аруэ — Arouet) — поэт, драматург, прозаик, автор философских, исторических, публицистических сочинений, сделавших его властителем дум нескольких поколений европейцев. После представления на сцене трагедии «Эдип» в 1718 г. Вольтер становится знаменитым. Возвращение к античным истокам не мешает разглядеть в «Эдипе» Вольтера трагедию XVIII в. периода зарождения Просвещения. Из трагедии ушла тема рока, жрец-предсказатель Тиресий выступает как ловкий обманщик. Вольтер переносит акцент на моральную проблематику. Эдип выступает как просвещенный монарх, утверждающий: «Умереть за свой народ — это долг королей!» Убийство, совершенное им, — трагическая ошибка по неведению.
Вольтер прославился и как поэт. Особую популярность ему принесла ироикомическая поэма «Орлеанская девственница» (1735, публ. 1755), в которой писатель использует стиль бурлеска, «легкой поэзии», характерный для искусства рококо. Поэма написана для особого круга читателей — аристократов-либертенов, которым близки и раннепросветительские идеи, и легкомыслие рококо. Тотальная насмешка над возвышенной легендой, над всем священным выражена в остроумной форме, которая сочетается с изяществом и легкостью стиха.
В повести «Кандид, или Оптимизм» (1759) Вольтера рассказывается о злоключениях юноши Кандида, воспитанника вестфальского барона, влюбленного в дочь своего воспитателя Кунегунду, и домашнего учителя доктора Панглосса, развивающего мысль Лейбница, что «все к лучшему в этом лучшем из миров».
Вольтер придал жанру философской повести классическую форму. В философской повести живут, взаимодействуют, борются не люди, а идеи, персонажи — лишь их рупоры, они похожи друг на друга и по поступкам, и по языку.
РУБЕЖОМ между двумя периодами развития французского Просвещения стала середина XVIII в. Главное событие этого времени — выход первого тома книги «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (1751). Издание основного состава «Энциклопедии» (17 томов текста и 11 томов гравюр-иллюстраций) было завершено в 1772 г. Затем появилось несколько томов дополнений и указателей, и к 1780 г. «Энциклопедия» состояла уже из 35 томов. В ней содержался полный свод знаний и просветительских представлений о природе, обществе, науке и искусстве. Создание такого труда потребовало объединения усилий всех французских просветителей. Во главе этого грандиозного дела становится Дени Дидро. Вместе с ним редактированием «Энциклопедии» занимался выдающийся математик Д'Аламбер. Редакторы привлекли к сотрудничеству Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Гельвеция, Гольбаха и многих других просветителей, названных во второй половине XVIII в. «энциклопедистами».
|
Отец Вольтера был богатым
нотариусом, что позволило его сыну получить хорошее образование
в иезуитском коллеже Людовика XIV, а позже - в школе
правоведения. В Бастилии молодой Мари Франсуа провел почти год
за публикацию сатиры на регента Франции герцога Орлеанского. Там
же, в тюрьме, молодой писатель под своей трагедией «Эдип» (1718)
впервые подписался псевдонимом Вольтер. |
|
|
|
|
|
Портреты «энциклопедистов» окружают сцену в парижском кафе «Прокоп», где встречались литераторы. Против часовой стрелки, начиная сверху слева: Бюффон, Жильбер, Дидро, Д’Аламбер, Мармонтель, Лекен, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер, Пирон, Гольбах. |
Д. Дидро |
ПРОСВЕЩЕНИЕ
развилось и в Германии. Первым немецким просветителем считается Иоганн
Христоф Готшед. Целью своей деятельности он провозгласил создание единой
немецкой литературы. Но его педантизм в соблюдении классицистических
правил стал предметом критики со стороны швейцарцев И. Я. Бодмера и И.
Я. Брейтингера, противопоставивших рационализму фантазию, эмоциональную
выразительность, образность и проявивших чуждый Готшеду интерес к
национальному фольклору и искусству
Средневековья, а позже — насмешек в адрес нового поколения просветителей
во главе с Лессингом.
Готхольд Эфраим Лессинг — крупнейший представитель немецкого Просвещения. Он создает первую немецкую «бюргерскую трагедию» «Мисс Сара Сампсон» (1755). Ее героиня — добродетельная девушка Сара Сампсон, соблазненная аристократом Меллефонтом. Отец Сары, предупрежденный ревнивой Марвуд, бывшей любовницей Меллефонта, находит дочь с ее соблазнителем в гостинице. Отец прощает Сару и согласен на ее брак с раскаявшимся Меллефонтом. Но Марвуд отравляет Сару.
Тогда Меллефонт кончает с собой. Преобразование жанра классицистической трагедии в жанр «бюргерской трагедии» идет по пути замены среды с аристократической на третьесословную, проблематики с общественной, гражданской — на частную, бытовую, моральную, героев с действующих — на страдающих от действий других; замены поэтического языка на язык прозы.
В 1767 г. Лессинг создает первую выдающуюся немецкую комедию «Минна фон Барнхельм, или Солдатское счастье», в которой принципы «слезной комедии» дополняются введением в произведение живых народных типов.
В 1769 г. Лессинг переехал в Вольфенбюттель, где провел последние годы своей жизни, заведуя библиотекой герцога Брауншвейгского. Здесь он написал свои лучшие произведения — трагедию «Эмилия Галотти» (1772) и драматическую поэму «Натан Мудрый» (1779). Если второе произведение, при всей своей глубине и значительности, мало ориентировано на сценическое воплощение, то первое — самое сценичное и популярное из драматических произведений Лессинга.
Лессинг наряду с Дидро может рассматриваться как крупнейший теоретик просветительского реализма (при всей условности этого термина). В трактате «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» (1766) он объявил главным законом искусства правду и выразительность. «Что правдиво, то прекрасно» — одна из основных идей трактата.
Просветительские романы появляются в разных странах Европы, но наибольшего расцвета этот жанр достигает в Англии, где он и возник.
РОДОНАЧАЛЬНИКОМ европейского романа Нового времени стал английский писатель Даниель Дефо. Выходец из семьи купца-пуританина, Дефо получил образование в пуританской духовной академии, занимался коммерцией, был виноторговцем, журналистом, политиком, даже секретным агентом правительства. Журналистская деятельность Дефо повлияла на стиль его романов — простой и ясный, реалистичный, без литературных излишеств, имитирующий документальность дневников и писем (отсюда использование писателем повествования от первого лица).
Огромную роль в формировании представлений о «естественном человеке» сыграл роман Даниеля Дефо «Робинзон Крузо» (1719). Английский писатель создает новую жанровую форму, отказавшись от использования популярных схем плутовского и галантно-героического романов. Новизна произведения заключается прежде всего в создании иллюзии документальности. Дефо в романе по-новому раскрыл тему одиночества. Для людей того времени одиночество представлялось страшным наказанием. В XVIII в. одиночество приобретает другой смысл. В «Робинзоне Крузо» Д. Дефо одиночество рассматривается и как величайшее несчастье, и как величайшее благо. Робинзон, живя в обществе, никогда не стал бы просвещенным человеком, если бы не оказался один на острове, где провел 28 лет. Роман становится гимном труду (прежде всего физическому), прославляет оптимизм и стойкость перед лицом любых трудностей.
|
Исследователь английской
литературы Ю.
И. Кагарлицкий дал краткую и емкую
характеристику романному творчеству Дефо: «Романы лишены
разработанного сюжета и строятся вокруг биографии героя, как
перечень его успехов и неудач. Путь его персонажей однообразен -
через преступления к богатству, довольству и раскаянию, которое,
однако, приходит не раньше, чем герой становится обеспеченным и
вступает в число благоприличных буржуа. Духовная жизнь героев
Дефо небогата; они трезвы, настойчивы, практичны, обладают
здравым смыслом. Ту часть биографии героя, которая происходит в
сфере житейской практики, Дефо описывает бесстрастно, поскольку
не только действия героя, но и вся реальная буржуазная практика
противоречат тем требованиям благочестия, которые Дефо делает
привеском к своим произведениям. Его герои не имеют от природы
преступных наклонностей, но стремятся к самоутверждению, которое
возможно только через обогащение. |
|
|
|
|
|
Робинзон Крузо. Гравюра первого издания книги (1719). |
Робинзон строит ботик. |
Свифт, современник Дефо, делит с ним лавры создателя европейского романа Нового времени. В 1714 г. Свифт начал писать, а в 1726 г. закончил и опубликовал свой роман «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей». Это произведение наряду с «Робинзоном Крузо» стоит у истоков новоевропейского романа. В нем сатирическое, памфлетно-аллегорическое изображение действительности сочетается с просветительской утопией, что связывает его как с последующим реалистическим сатирическим романом, так и с романтическим социально-утопическим романом.
Роман Свифта нередко очень близок жанру памфлета, в развитии которого писатель сыграл столь значительную роль. Гротеск, используемый в романе как одно из основных художественных средств (см. Гротеск), также носит памфлетный характер, сближающий романное описание с карикатурой. Это не гротеск Рабле, который служил реабилитации плоти (см. Литература Возрождения во Франции). Даже внешние характеристики гротеска у Рабле и у Свифта различны. Гротеск Свифта графичен, рационалистичен. Так, если он принимает пропорцию размеров лилипутов и Гулливера как 1:12, то она учитывается даже при описании каблуков обуви короля лилипутов. Аналогичная пропорция (1:12) используется при сравнении Гулливера с великанами, что учтено, например, при описании пор кожи на лице короля великанов. Здесь нет безразмерности, безмасштабности раблезианского гротеска, что объясняется совершенно разными целями использования этого литературного приема двумя писателями.
Сэмюэля Ричардсона считают родоначальником психологического направления в английской литературе XVIII в. Он внес значительный вклад в развитие принципа психологизма, избрав форму эпистолярного романа (романа в письмах). Имитация переписки героев позволила писателю найти средство естественного воссоздания внутреннего мира героев, передать детали их частной жизни. В первом романе, «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740), Ричардсон, вопреки традиции галантного романа, вывел в качестве героини простую служанку, а ее путь к благополучию представил не как серию авантюр, а как неуклонное следование добродетели, в итоге приводящее к браку с преследовавшим ее, но раскаявшимся хозяином.
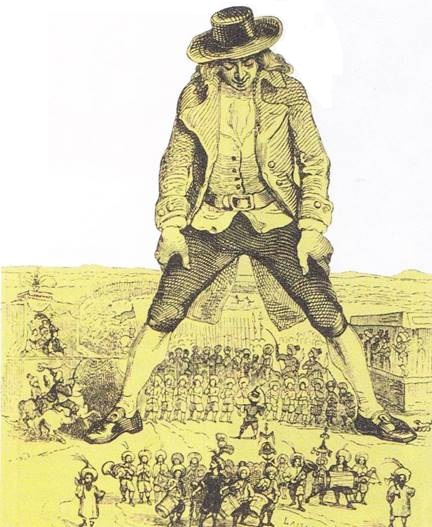 |
 |
|
Лемюэль Гулливер в стране лилипутов. |
У. Хогарт. Из серии картин «Карьера мота» (1732 - 1735). |
Генри Филдинг — крупнейший представитель английского реалистического романа XVIII столетия. Его первое произведение — сатирическая поэма «Маскарад» (1728) — было подписано псевдонимом Гулливер. Филдинг вошел в литературу как сатирик, драматург (автор свыше 25 комедий), публицист. После появления закона о театральной цензуре 1737 г. он оставил драматургию и обратился к жанру романа. Филдинг внес в роман свой опыт драматурга и полемиста. Его романы драматургичны в отличие от романов Дефо, Свифта и Ричардсона, с которыми он нередко полемизировал по самым различным поводам. Первый роман Филдинга — «История жизни и смерти Джонатана Уайльда Великого» (1743) — своего рода ответ на книгу Дефо о том же историческом персонаже. Филдинг заостряет черты хищничества, лицемерия своего героя, подчеркивая, что он — лишь отражение гнусности, царящей в современной ему Англии. Роман «История приключений Джозефа Эндрюса и его друга Абраама Адамса» (1742) содержит полемику Филдинга с Ричардсоном. «История Тома Джонса, найденыша» (1749) — реалистическая картина английской жизни XVIII в. Это новаторское произведение, хотя во многом Филдинг следовал по пути, проложенному Сервантесом в «Дон Кихоте» (не случайно одна из лучших пьес Филдинга — «Дон Кихот в Англии», 1734, а подзаголовок «Джозефа Эндрюса» — «Написано в подражание манере Сервантеса, автора «Дон Кихота»), Филдинг называл свои романы «комическим эпосом в прозе». В предисловии к «Тому Джонсу» он отстаивал необходимость писать романы в третьем лице, что позволяет автору высказывать собственное мнение об изображаемых событиях и персонажах. Само это мнение оказывается весьма оригинальным для просветителей: Филдинг, в отличие от Дефо, раннего Свифта и Ричардсона, начинает все больше сомневаться в культе Разума. Это отражается в сюжете и системе образов романа.
Смоллетт, автор романов «Приключения Родрика Рэндома» (1748), «Приключения Перигрина Пикля» (1751), эпистолярного романа «Путешествие Хэмфри Клинкера» (1771) и др., принял от Филдинга эстафету сатирического просветительского романа. Разочарование просветительском культе Разума у Смоллетта усиливается, оптимизм явно слабеет, вера в природную доброту человека подорвана. Сатира у Смоллетта становится более острой, чем у Филдинга, подчас злой, не оставляющей места для юмора. Его персонажи или эгоистичны, или жертвы эгоизма и несправедливости.
Сентиментализм (от фр. sentiment — «чувство», «чувствительность») — направление в литературе и искусстве второй половины XVIII в. Важным событием духовной жизни Европы стало открытие в человеке способности наслаждаться созерцанием собственных эмоций. Выяснилось, что, сострадая ближнему, разделяя его горести, наконец, помогая ему, можно получить самую изысканную радость. Эта идея сулила целую революцию в этике. Из нее вытекало, что для душевно богатого человека совершать добродетельные поступки — значит следовать не внешнему долгу, а собственной природе, что развитая чувствительность сама по себе способна отличить добро от зла и потому в нормативной морали попросту нет необходимости. Казалось, стоит пробудить в людях чувствительность — и из человеческих да и социальных отношений будет устранена всякая несправедливость. Соответственно, произведение искусства ценилось по тому, насколько оно могло растрогать человека, умилить сердце. На основе этих взглядов и возникла художественная система сентиментализма.
|
Литература сентиментализма была
обращена к повседневности. Избирая в свои герои простых людей и
предназначая себе столь же простого, не умудренного в книжной
премудрости читателя, она требовала немедленного практического
воплощения своих ценностей и идеалов. Более того, она стремилась
показать, что идеалы эти непосредственно извлечены ею из
обыденной жизни, и для этого сознательно жертвовала своей
литературностью, гримируясь под подлинные документы: «Памела,
или Вознагражденная добродетель» (1740, опубл. 1787), «Кларисса»
(1747 - 1748, опубл. 1791 - 1792) С. Ричардсона, как и «Юлия,
или Новая Элоиза» (1761, неполн. 1769) Ж.-Ж. Руссо поданы
авторами как собрание писем, «Сентиментальное путешествие по
Франции и Италии» (1768; опубл. 1793) Л. Стерна - как путевые
записки, «Страдания молодого Вертера» (1744) И.-В. Гете - как
монтаж писем и дневника. |
|
|
|
|
|
Иллюстрация С. М. Пожарского к роману Л. Стерна «Сентиментальное путешествие...». |
Иллюстрация А. Кравченко к «Страданиям молодого Вертера» И.-В. Гете. |
Подобно своему предшественнику — классицизму сентиментализм насквозь дидактичен (от греч. didaktikos — «поучающий»). Но его воспитательность особого рода. Если писатели-классицисты стремились воздействовать на разум читателей, убедить их в необходимости следования непреложным законам морали, то сентиментальная литература обращается к чувству. С особым удовольствием описываются величественные красоты природы, уединение на лоне которой становится мощным средством воспитания чувствительности.
Писатели-сентименталисты стремятся воспитать эмоциональную культуру своих читателей, поэтому изображение душевных реакций на те или иные явления жизни порой заслоняет у них сами эти явления. Проза сентиментализма переполнена отступлениями, обрисовкой нюансов чувств героев, рассуждениями на моральные темы. В то же время сюжетное начало постепенно ослабевает. В поэзии те же процессы приводят к выдвижению на первый план личности автора и крушению жанровой системы классицизма. Однако психологизм литературы сентиментализма и его внимание к личности имеют свои пределы, очерченные ее воспитательными задачами. Сентименталистическому мышлению чуждо представление об индивидуальной неповторимости опыта каждого человека.
Напротив, значение опыта и состоит в том, что он повторяем, в сходных ситуациях каждый человек, наделенный развитой чувствительностью, будет ощущать примерно одно и то же. Великие писатели воспринимались в этой культуре как носители «правильной чувствительности», а их книги — как ее учебники. Читатели стремились переживать те или иные жизненные коллизии «по книге», с которой можно сверить точность своих эмоциональных реакций.
Развиваясь, сентиментализм стал обнаруживать постепенное угасание веры в то, что чувствительность способна изменить мир. Акцент все более смещается с ее общественных функций на то удовлетворение, которое она приносит своему обладателю.
Из модного средства гармонизации социальных и человеческих отношений чувствительность становится способом духовного самоуслаждения, уединенных мечтаний (в поздних книгах Руссо, включая «Исповедь» (1766 - 1769, опубл. 1782 - 1789), и во многих других произведениях). В общих чертах эти изменения можно обозначить как путь от «сентиментального морализма» к «сентиментальному эстетизму». Разрыв сентиментальной литературы с породившими ее дидактическими задачами вызывает в 1780 - 1790-х гг. кризис сентиментализма.
После Великой французской революции 1789 - 1794 гг. сентиментальные влияния в европейских литературах сходят на нет, уступая место романтическим тенденциям.
Руссоизм — особое явление в культуре XVIII в. Оно связано с идеями и произведениями Жан-Жака Руссо, ставшего властителем дум нескольких поколений европейцев. Повышенная эмоциональность произведений руссоистов объясняется тем, что они на место культа просвещенного Разума поставили культ просвещенного Чувства. Некоторые просветители начали сомневаться в Разуме как средстве постижения и переустройства мира. С другой стороны, их привлекает исследование внутреннего мира человека, жизни души и сердца.
В 1749 Г. Дижонская академия объявила конкурс философских работ на тему «Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов?». По совету Д. Дидро Руссо принял участие в конкурсе.
В 1756 Г. Руссо начал работу над романом «Юлия, или Новая Элоиза» (1761). Произведение стало вершиной литературы французского сентиментализма. Руссо утвердил в искусстве нового героя — плебея, наделенного богатым духовным миром и необычайной чувствительностью. Таков Сен-Пре, который служит учителем Юлии, дочери барона д'Этанжа.
Появившийся через два месяца после выхода «Общественного договора» роман-трактат «Эмиль, или О воспитании» (1762) опередил педагогическую мысль XVIII столетия. Руссо первым систематически изложил теорию естественного воспитания, которое учитывает особенности физического, умственного и нравственного развития ребенка на разных этапах развития его личности.
Он выдвинул три важных положения: о целесообразности естественного воспитания, о различиях между детьми и взрослыми, о внутренних различиях между этапами развития детей.
|
Руссо родился 28 июня 1712 г. в
Женеве в семье часовщика. Мать Жан-Жака умерла при родах. В 10
лет он остался без отца, который скрылся из Женевы. Став
учеником гравера, мальчик испытал унижения, грубость хозяина.
Руссо не было еще 16 лет, когда он вынужден был покинуть Женеву
и отправиться на поиски удачи. В 1741 г. Руссо переезжает в
Париж. Там он познакомился с выдающимися просветителями -
Д. Дидро, Д’Аламбером, другими философами, которые приступили к
созданию «Энциклопедии». Дидро предложил Жан-Жаку написать ряд
статей для музыкального раздела «Энциклопедии». |
|
|
|
|
|
Руссо представляет свой тезис о праве народа свергнуть деспота. |
Рисунок Моро Младшего к «Новой Злоизе» Руссо. |
РУССОИСТАМИ назвали последователей Руссо. Среди них выделяется Жак Анри Бернарден де Сен-Пьер, прославившийся романом «Поль и Виржиния» (1787). В этом романе рассказывается о трогательной любви юных Поля и Виржинии. Их жизнь рисуется на фоне прекрасной тропической природы. Вырванные из общества, Поль и Виржиния живут жизнью «естественных людей». Они не замечают сословного неравенства: Виржиния принадлежит к дворянскому кругу, тогда как Поль — выходец из крестьянской семьи. Бернарден де Сен-Пьер строит роман как идиллию, подчиняя этой задаче все художественные средства. Бернардену де Сен-Пьеру были чужды революционные взгляды Руссо. Совсем иначе звучат руссоистские идеи у Ретифа де ла Бретонна, автора «Совращенного поселянина». Этот писатель стоял на демократических позициях и стал предшественником великого социалиста-утописта А. Фурье.
Идеи Руссо получили развитие в творчестве Луи Себастьена Мерсье, который в своих трактатах «О театре, или Новый опыт о драматургическом искусстве» (1773) и «О театре как одном из первых авторов революции» (1791) показал, что мысли Руссо, объявившего войну современному театру, могут стать программой деятельности по созданию новой драматургии. Мерсье развивал просветительский, сентименталистский вариант руссоизма (в драмах «Ложный друг», 1772; «Тачка уксусника», 1775; «Дезертир», 1782).
Он выступал за соединение комического и трагического, за естественность языка и живость действия. Контраст — основа его поэтики, подводящая писателя к жанру мелодрамы. Принцип «мелодраматизации» обнаруживается в одной из самых известных драм Мерсье «Неимущие» (1772).
В 1770 - 1780-х гг. в Германии развернулось литературное движение «Буря и натиск», название которого взято из одноименной драмы одного из видных представителей этого движения Ф.-М. Клингера. От немецкого названия («Sturm und Drang») происходит термин «штюрмеры», обозначающий сторонников движения. Другое традиционное их наименование — «бурные гении». Это, несомненно, одно из самых интересных явлений литературной жизни XVIII в. Штюрмеры — это молодые И. В. Гете и Ф. Шиллер, а также Ф.-М. Клингер, Я.-М.-Р. Ленц, Г. Л. Вагнер. Подобно руссоизму предромантического толка, штюр-мерство — проявление особого течения в литературе, занимающего промежуточное место между собственно просветительством и собственно предромантиз-мом. Два великих имени определили традиции, которым следовали штюрмеры: Ж.-Ж. Руссо и У. Шекспир. Причем Шекспир был для них важнее. Даже Ленца и Вагнера, составляющих «руссоистскую» ветвь «Бури и натиска», не следует отделять от второй, «шекспировской» ветви. В их драматургии под влиянием шекспировских произведений широко используется фрагментарность, множественность сцен, увеличивается действенность, наполненность эмоционально окрашенными событиями, применяется гротеск, разрушаются единства, используются эффекты, рассчитанные на потрясение ужасом (героиня драмы Ленца «Домашний учитель», 1774, родившая незаконного ребенка, кончает жизнь самоубийством, бросаясь в пруд; героиня «Детоубийцы» Вагнера убивает родившегося сына).
И наоборот, «шекспировская» ветвь «Бури и натиска», которую составляли Фридрих Максимилиан Клингер, Йоганн Антон Лейзевиц, другие штюрмеры и к которой примыкали молодые Гете и Шиллер, опиралась на то же эстетическое требование, которое развивали представители «руссоистской» ветви штюрмерства Ленц и Вагнер, — требование индивидуализации характера. При этом они ориентировались на Гердера, видевшего высшее воплощение индивидуальных черт характера в творчестве Шекспира (работа «О Шекспире», 1774). Поэтому в отличие от Ленца и Вагнера, «шекспиризировавших» руссоистскую драму, явившуюся развитием жанра просветительской «мещанской драмы», молодой Гете, Клингер и Лейзевиц (получивший прозвище Взбесившийся Шекспир) «руссоизировали» трагедию шекспировского типа. Очень ярко соединение «шекспиризации» с руссоистскими идеями воплощено в драматургии Клингера — драмах «Отто» (1775), «Страждущая женщина» (1775), «Близнецы» (1775), «Стильпе и его сыновья» (1777) и особенно в драме «Буря и натиск» (1776), давшей название всему движению.
|
Иоганн Вольфганг Гете. Портрет В. Фаворского.
|
Высшим достижением штюрмеров в драматургии стала драма молодого Шиллера «Разбойники» (1781), в которой обе тенденции сочетаются наиболее плодотворно. В драме возникает своеобразное двоемирие. «Малый мир» воссоздается в духе сентименталистских тенденций Руссо: это мир гармонии, семейных радостей, красоты естественного чувства простых, обычных людей, добра и разума; мир, живущий по закону любви — главному закону Природы. Черты этого мира, вполне соответствующего идеалам просветителей, раскрываются в образах благородного, любящего, доверчивого старика Моора, Амалии, которая любит Карла и по долгу, и сердцем, верного графского слуги Даниэля. Шекспир дал Шиллеру знание иного, «большого мира», где добро сталкивается со злом, разум — с безумием, естественные чувства — с болезненными страстями, где царит хаос и дисгармония. Это мир гигантов и злодеев, мятежа и преступлений. Так вырисовывается основа трагического у Шиллера: невозможно человеку больших страстей заключить себя в идеальном «малом мире», как бы он к этому ни стремился.
Но уже к середине 1780-х гг. нарастание предромантических тенденций прекращается. Штюрмерство отходит на второй план и вырождается. Явное свидетельство этому — драматургическая деятельность Августа фон Коцебу. Наряду с вырождением штюрмерства в 1780-е гг. начинается переход Гете и Шиллера на позиции веймарского классицизма — еще одно свидетельство непрямолинейного перехода от предромантических явлений к романтизму.
На смену яростным чувствам, неистовству литературы «Бури и натиска» в самом конце XVIII в. приходит спокойное, уравновешенное искусство Веймарского классицизма, представленное в позднем творчестве Гете и Шиллера, чья жизнь была связана с немецким городом Веймаром. Веймарский классицизм подводит итог не только развитию Просвещения, но и всей культуре столетия.
Иоганн Вольфганг Гете — один из величайших писателей мира — в молодые годы стал подлинным вождем штюрмеров. Учась в университете Страсбурга, он познакомился с Гердером, открывшем ему новую эстетику, английскую литературу, Шекспира, немецкий фольклор. Первое значительное художественное произведение Гете — трагедия «Гец фон Берлихинген с железной рукой» (1773), задуманная в Страсбурге и завершенная во Франкфурте, куда он вернулся после окончания университета. В духе шекспировских хроник он воссоздает историю крестьянской войны XVI в. через движение Времени. По-шекспировски широко представлен исторический фон, множественность картин и свободное перенесение места действия (тоже шекспировская черта) позволяют Гете изобразить и рыцарский замок, и постоялый двор, и трактир XVI в., и монастырь, и цыганский табор, и тюрьму. По-шекспировски значителен характер героя, который сам определяет свою судьбу, а не является игрушкой в ее руках. Гете вслед за Шекспиром порывает с единством действия, от которого не отказывались даже романтики. Писатель вводит вторую сюжетную линию — историю бывшего друга Геца Вейслингена, бросившего свою невесту, сестру Геца, ради Адельгейды фон Вальдорф, которая становится его женой, а затем отравляет его. Но в то же время выбор сюжета и героя, сделанный Гете, носит «руссоистский», а не шекспировский характер. Гец фон Берлихинген одержим идеей объединения крестьян и рыцарей, он становится одним из вождей крестьянского восстания, которое пугает его не своими целями, а своими крайностями.
|
В своем главном труде «Идеи к
философии истории человечества» (в 4 тт., 1784 - 1791) Гердер
развил мысль о процессе развития природы как единого мирового
организма от возникновения звезд и планет. Эстетическим
следствием философских воззрений Гердера стало признание
равноправия и неповторимости культур разных времен и народов, в
частности преодоление отрицательного отношения классицистов к
культуре Средневековья и культурам неевропейских стран. В
статьях о Шекспире и Оссиане Гердер сформулировал новое
отношение к народной поэзии как проявлению народного духа,
заложил основания для культа Шекспира в противовес культу
античного искусства, свойственному классицизму. |
|
|
|
|
|
Герои Гёте ставят перед собой сложные вопросы бытия, наблюдают за мельчайшими изменениями состояния своей души. |
Портрет подруги Гете Шарлотты фон Штейн. |
Гете — прежде всего великий лирический поэт. Под влиянием Гердера он обратился к немецкому фольклору и ввел некоторые его элементы в свою авторскую поэзию. Гете обращался к жанру баллады («Король из Фуле»), оды («Ганимед», «Прометей», «Вознице Кроносу» и др.) и другим жанрам, в каждый внося свою индивидуальность.
Среди произведений, написанных Гете в веймарский период, — романы «Ученические годы Вильгельма Мейстера» (1795 - 1796), «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1821 - 1829), «Избирательное сродство» (1809), трагедии «Ифигения в Тавриде» (1787), «Эгмонт» (1788), «Торквато Тассо» (1790), книга лирики «Западно-восточный диван» (1819), баллады «Лесной царь» (1792), «Коринфская невеста» (1797), автобиографическая книга «Поэзия и правда из моей жизни» (1811 - 1814), естественно-научный труд «Учение о цвете» (1810), перевод на немецкий язык «Племянника Рамо» Д. Дидро (1805) и множество других произведений.
Величайшее произведение — трагедию «Фауст» — Гете писал около 60 лет. Главный персонаж взят им из народной немецкой книги XVI в. о докторе Фаусте. К 1773 г. относится первый вариант произведения, так называемый «Пра-Фауст» (рукопись обнаружена в 1887 г.). Уже в «Пра-Фаусте» разработана основная сюжетная линия первой части «Фауста»: Фауст — Маргарита (история соблазненной и покинутой девушки, убивающей своего ребенка). В 1788 г. в Италии Гете обращается к незавершенному произведению и уточняет текст, смягчая неактуальные уже к тому времени штюрмерские крайности. В 1790 г. этот текст был опубликован под названием «Фауст. Фрагмент».
Важную роль в истории штюрмерства сыграло творчество Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера. Драму Шиллера «Разбойники», оконченную и напечатанную за счет автора (без указания имени) в 1781 г. и с триумфом представленную сначала в Мангеймском театре (13 января 1782 г.; Шиллер, тайно приехавший из Вюртемберга, присутствовал на премьере), а затем по всей Германии, следует считать итогом развития «Бури и натиска».
Основная черта шиллеровского героя в «Разбойниках» — его неистовость, которая резко отличает его от героя классицизма и просветителей — последователей Лессинга.
С предромантической неистовостью связан и особенный предромантический конфликт: на смену классицистическому столкновению долга и чувства, на смену спорам просветителей — предшественников штюрмерства о разуме и чувстве, их роли в жизни человека приходит конфликт разумного и неразумного, рационально организованному — стихия и хаос, обычному человеку — гений, а гению — косное общество, отторгающее его. Шиллер остается просветителем в своих идеалах, но, признавая конечное всесилие разума, он раскрывает новый, во многом уже романтический конфликт.
|
Фридрих Шиллер родился в швабском городке Марбах-на-Некаре (герцогство Вюртембергское) в семье военного фельдшера. В 1772 г. он закончил латинскую школу в Людвигсбурге. Тогда он написал свои первые лирические стихотворения и трагедии «Христиане» и «Абесалон» (не сохранились). С 1773 по 1780 г. Шиллер учился в Военном питомнике (вскоре переименованном в Военную академию Карла Евгения, или Карлшуле) сначала на юриста, потом (когда в 1775 г. Карлшуле была переведена из замка Солитюд в Штутгарт) - на врача (по окончании, представив диссертацию «Опыт исследования вопроса о связи между духовной и животной природой человека», был назначен полковым лекарем в штутгартский гарнизон). |
|
|
|
|
|
Иллюстрация к «Страданиям молодого Вертера» Гете, Д. Бергер |
|
Среди произведений, подготовивших переход от «Бури и натиска» к Веймарскому классицизму, выделяется политическая трагедия Шиллера «Дон Карлос», над которой автор работал с 1783 по 1787 г. и чей жанр он определил как драматическая поэма. Шиллер избирает поэтическую форму трагедии (в отличие от штюрмерских трагедий, написанных прозой,) при этом использует белый стих (пятистопный ямб) по образцу шекспировских трагедий (в дальнейшем так будут написаны последующие трагедии Шиллера), переносит действие из современности в прошлое. Увлечение античностью, философией Канта, взглядами и художественными открытиями Гете приводит к переходу Шиллера с позиций штюрмерства на новые позиции, определяемые термином «Веймарский классицизм». В этот период им написаны историческая трилогия «Валленштейн» (опубл. 1800), в которую вошли пьесы «Лагерь Валленштейна» (пост. 1798), «Пиколомини» (пост. 1799), «Смерть Валленштейна» (пост. 1799); трагедии «Мария Стюарт» (пост. 1800), «Орлеанская дева» (1801), «Мессинская невеста» (1803); народная драма «Вильгельм Телль» (1804); стихотворения и поэмы «Боги Греции» (1788), «Художники» (1789), «Идеал и жизнь» (1795) и др.; баллады, в том числе «Пловец» (в переводе В. А. Жуковского — «Кубок»), «Перчатка», «Поликратов перстень», «Ивиковы журавли» (все — 1797) и многие другие произведения.
Характерным примером творчества Шиллера этого периода можно считать трагедию «Мария Стюарт» (1800). В трагедии противопоставлены два женских образа — шотландская королева Мария Стюарт и английская королева Елизавета Тюдор. Мария в плену у Елизаветы, она моложе, красивее, она страдает. Первые зрители (а это зрители ранней романтической эпохи) видели в произведении Шиллера романтический контраст добра и зла, красоты и уродства, возвышенного и низменного, воплощенный в этом противопоставлении. Шиллер пишет трагедию, где герои сами выбирают свою судьбу. Трагедия связана с большим масштабом, с общим ходом времени, истории. У времени своя логика. Борьба с ходом истории для трагического героя заканчивается поражением. Но у времени есть и своя этика, борьба с которой тоже заканчивается поражением.
Трагедии Шиллера поднимают жанр на шекспировскую высоту и вместе с тем как бы подводят черту под его историей. В XIX - XX вв. трагедия перестает быть главным жанром, утрачивает свои классические черты, соединяется с другими жанрами, лишь иногда давая выдающиеся образцы трагического искусства.
Древнерусские книжники посвящали свое слово Богу и просили у него силы устоять перед искушениями дьявола. Они живо переживали библейскую историю и жизнь святых. Писатели русского барокко впервые открыли для себя божественный по своей красоте и независимый от них самих мир, чудеса сочетаний и звучания «словес». Мастера слова эпохи русского Просвещения задумались о единстве всех людей и закономерностях в истории развития цивилизаций. По их мнению, Закон и Порядок в жизнь людей привносит не столько Бог, сколько наш разум. Необходимо описать важнейшие типические детали мирового ансамбля: в природе и стихиях, в обществе и государстве, в искусстве и литературе.
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА подчинялась строгим правилам. Все жанры делились на высокие, средние и низкие. Высокие жанры — ода, трагедия, эпическая поэма — рассказывали о подвигах героев и величии человеческого духа. Они писались высоким слогом, в котором преобладали слова церковнославянского происхождения. Средние жанры изображали мир чувств частного человека. Так, лирический жанр — элегия — содержал размышления о прожитой жизни, включал любовные мотивы. В средних жанрах использовался стиль, в котором не допускались ни церковнославянизмы, ни грубые, просторечные слова. Низкие жанры были сатирическими (комедия, басня). В них совершенно исключались церковнославянизмы, но обильно использовались слова просторечные и грубые. Четкие грани между жанрами и стилями и строгие правила особенно характерны для классицизма. Только в конце века эта жесткая система начала разрушаться.
|
Первым русским романистом был Ф.
Эмин (ок. 1735 - 1770). Его биография удивительна, как судьба
персонажа приключенческого романа. Он был мусульманином,
подданным турецкого султана, сражался в его войсках, был
пленником у пиратов. В 1761 г. он приехал в Россию и вскоре
получил известность как прозаик. В романе «Непостоянная Фортуна,
или Похождения Мирамонда» рассказывается о невероятных
происшествиях, о приключениях Мирамонда и Феридата -
кораблекрушение, рабство, любовь к дочери восточного правителя.
В истории Феридата описаны многие события, участником которых
был сам автор.
|
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ЖАНРОВ русской литературы XVIII в. была торжественная ода. Она прославляла русских монархов и победы русского оружия. Первую русскую торжественную оду — «Оду торжественную о сдаче города Гданска» — написал В. К. Тредиаковский (опубл. в 1735 г.).
Но подлинным создателем жанра русской торжественной оды стал М. В. Ломоносов. Его оды служили непревзойденным образцом для поэтов на протяжении всего XVIII в. В 1739 г. Ломоносов, обучавшийся в Германии, прислал в Россию «Оду на взятие Хотина» (Хотин — турецкая крепость в Молдавии, покоренная русскими войсками) и приложенное к ней — «Письмо о правилах российского стихотворства». Ода была написана новым для русской поэзии стихотворным размером — ямбом.
В своих одах Ломоносов воспевал военные победы России, достижения российской науки и величие ее царей. Большинство его од было посвящено императрице Елизавете Петровне. Он, как и почти все писатели того времени, верил в идеал справедливого и просвещенного правителя, приносящего благо своей стране. Образцовым царем для поэта был Петр I. В одах господствуют грандиозные образы. Обильно используются слова-церковнославянизмы, придающие речи возвышенность и торжественность: например, се (вот), врата (ворота), отверзла (открыла), дщерь (дочь).
В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XVIII В. жанр торжественной оды вырождается. Поэтические открытия М. В. Ломоносова утрачивают яркость и свежесть под пером многочисленных подражателей. Авторское «я» в торжественной оде было лишено индивидуальных, личностных черт — это был восхваляющий поэт вообще.
Между тем в русской литературе постепенно усиливался интерес к внутреннему миру человека. Торжественная ода была обновлена и преобразована в творчестве Г. Р. Державина.
Образ монарха в оде был возвышенным, лишенным земных черт. Поэт в стихотворении «Фелица» (1782) изображал императрицу Екатерину II как обыкновенную женщину. Прославление императрицы сочетается в его произведении с сатирой на ленивых и развращенных вельмож. Прежде такое соединение сатиры и оды было немыслимым. В поэзии Державина произошло открытие личности: образ автора наделен индивидуальными чертами и деталями державинской биографии.
ДРУГИМ ВЫСОКИМ ЖАНРОМ была трагедия. Создателем жанра трагедии в русской литературе был А. П. Сумароков. В его трагедиях конфликт основывался на противостоянии тирана и подданных, а материалом для произведений служили русская история и национальный быт.
В СЕРЕДИНЕ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII СТОЛЕТИЯ главным
сатирическим жанром стала комедия. Самым известным автором
комедий был Д. И. Фонвизин, прославившийся двумя пьесами —
«Бригадир» (1769) и «Недоросль» (1782). В них изображены нравы, быт и
социальные типы современной писателю дворянской России.
Обличение невежества, спесивости и жестокосердия помещиков по отношению
к крепостным крестьянам, бездумного преклонения перед европейской модой
осмеивал в своих сатирических журналах писатель Н. И. Новиков. Обличая
пороки дворянства, он создавал произведения в форме писем, якобы
составленных реальными дворянами — невежественными и безнравственными.
ВТОРОСТЕПЕННОЕ МЕСТО по сравнению с поэзией в русской литературе XVIII столетия занимали повести и романы. В петровское время были широко распространены рукописные повести о необычных приключениях влюбленных и смелых молодых героев-дворян. Эти герои путешествуют по разным странам и, преодолев многочисленные препятствия и опасности, женятся на любимых женщинах. Повести петровского времени серьезной литературой не считались, и именно потому они распространялись в рукописях и не попали в печать.
|
Проблему воспитания и долга дворянина ставил Д. И. Фонвизин в «Недоросле». На примере главного действующего лица - молодого дворянина, невежественного и эгоистичного Митрофанушки, а также его матери Простаковой и ее брата Скотинина он показывает, как бесконтрольная власть над крестьянами развращает необразованных помещиков. Митрофан не желает учиться наукам, безумная любовь матери, которая все разрешает и прощает сыну, воспитала из него нравственного урода. Но не все сатирические персонажи в «Недоросле» вызывают только смех. Простакова, которую грубо отталкивает от себя сын, и служанка Простаковой Еремеевна, заботящаяся о Митрофанушке, не лишены человеческих черт и иногда даже вызывают сочувствие читателя. |
|
|
|
|
|
Произведения, да и сам облик Державина словно просят добавить (непременно почтительно): «Гавриил Романович». |
Иллюстрация к трагедии М. В. Ломоносова «Тамира и Селим». |
ОТНОШЕНИЕ К ПРОЗЕ меняется на протяжении второй половины XVIII столетия. В последние десятилетия XVIII в. появляются прозаические произведения, привлекшие к себе особое внимание читателей. В 1790 г. в Петербурге вышла книга А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Вокруг мотива путешествия и образа путешественника — литературного двойника самого автора — был объединен разнородный материал. В книге есть и описания встреч путешественника с крестьянами, свидетельствующие о невыносимости и противоестественности крепостного права, и размышления собеседников главного героя о правильном устройстве общества, и стихотворение, прославляющее свободу, — ода «Вольность». Эта книга была одновременно и размышлением на политические темы, и очерком жизни современной крестьянской России, и дневником путешествия.
Критикуя власть, писатели XVIII в. редко сомневались в необходимости и оправданности самодержавия.
Но Радищев отрицал в своей книге сам принцип монархического правления и оправдывал восстание народа против власти. По приказу Екатерины II он был арестован и после суда сослан в Сибирь.
В одно время с А. Н. Радищевым книгу — описание путешествия — создал Н. М. Карамзин. В «Письмах русского путешественника» (1791 - 1795) писатель представил впечатления от своего странствия по Германии, Швейцарии, Франции и Англии. Повествователь — чувствительный и пытливый путешественник, «русский европеец», на равных беседующий с прославленными западными писателями и философами. Его поездка — своеобразное паломничество в мир европейской культуры.
Н. М. Карамзин — создатель повестей, изображающих внутренний мир человека, внимательный к тонким чувствам, трудно передаваемым словами. Прославила писателя повесть «Бедная Лиза» (1791) — одна из первых психологических повестей в русской литературе. Повесть была написана легким и изящным языком, который передавал самые разнообразные чувства повествователя и героини. До повести Карамзина такого языка еще не было в русской литературе. Успех повести и сострадание читающей публики к судьбе бедной Лизы были исключительными.
Пруд у подножия Симонова монастыря, в котором якобы утопилась Лиза, стал излюбленным местом прогулок» москвичей.
Повесть Карамзина воспитывала в читателе способность глубоко чувствовать и сопереживать. Автор был убежден: чувствительность, а не заслуги в государственной службе, не чины и звания определяют истинную ценность человека. Карамзин стал одним из создателей в русской литературе направления, которое исследователи назвали сентиментализмом.